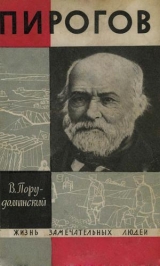
Текст книги "Пирогов"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Две минуты!
– Меньше чем две минуты!
– Das ist wuhderbar! – Это удивительно! Пирогов продолжал удивлять. Удалил большую опухоль подчелюстной железы. Извлек громадный полип, застилавший полость носа и зева.
Клиника ожила. Здесь давно не видели серьезных операций, а таких, возможно, не видывали вовсе. Больные, самые чуткие ценители врачебного искусства, потянулись к чудесному оператору.
Таково свойство творцов – открывателей новых эпох: сделанное предшественниками для них словно взлетная дорожка – они пробегают ее почти незаметно по времени, но ощутимо наращивая скорость и силы для полета. Они умеют едва ли не сразу начать с того, чем кончили предшественники. В двадцать пять лет Пирогов закончил разбег. Оттолкнулся и взмыл ввысь. И сразу стал виден тем, кто остался внизу. Сперва тем, кто стоял вблизи, потом всем.
В 1828 году приезд Пирогова, необузданного в работе, полного замыслов, жадно ищущего, словно вдохнул в Мойера новую жизнь. Пирогов хотел знать – он оживлял Мойера, требуя от него знаний. Второй приезд Пирогова, в 1835 году, сделал Мойера ненужным. Отношения побежденного учителя и победителя-ученика вступили в последнюю стадию. Учитель сделал все, что мог. Ему оставалось либо уступить место, уйти, либо не пускать, ставить палки в колеса, пакостить. Мойер был благороден и справедлив. Он ушел. Возмущаясь тем, что Пирогову не досталась московская кафедра, Мойер не отделывался советами ехать на кафедру куда-нибудь в Казань или в Харьков. Он уступил свое место.
– Не хотите ли вы занять мою кафедру в Дерпте?
– Да как же это может быть? Да это невозможно, немыслимо!
– Я хочу только знать, желаете ли вы?
Пирогов собрался с духом:
– Что же, коли кафедра в Москве для меня уже потеряна…
– Ну, так дело в шляпе. Сегодня предложу вас факультету, потом извещу министра…
Итак, вместо Москвы – Дерпт.
Трудно гадать, как сложилась бы жизнь Пирогова, попади он на московскую кафедру. Для этого пришлось бы учитывать слишком много мельчайших обстоятельств, выдвигать слишком смелые, а подчас слишком зыбкие гипотезы. Быть может, важнее иное: не заглядывая далеко вперед, не строя предположительных, несостоявшихся биографий Пирогова, выяснить, так ли уж много он проиграл, начав свою деятельность не в Москве, а в Дерпте.
Пожалуй, нет. Молодому профессору, жаждавшему деятельности свободной и во многом необычной, искавшему научной и практической независимости, куда легче было начинать в Дерпте, чем в Москве. В Дерпте, где он сразу стал хозяином, единственным и признанным, чем в Москве, в кругу старых профессоров, державшихся старых взглядов, где, прежде чем начать по-своему, надо было утвердить себя. В Дерпте, где не так сильно чувствовалась тяжесть самодержавной пяты и оттого свободнее можно было задумывать и творить, чем в Москве, в «крамольном» университете, где по особой инструкции полицейский надзор и сыск были доведены до предела.
Справедливости ради следует сказать, что Федор Иванович Иноземцев не только не «затерялся» в Москве, но со временем возглавил московскую хирургию. Ученый с передовыми взглядами, неутомимый организатор, он основал Общество русских врачей, издавал еженедельную медицинскую газету, создал факультетскую хирургическую клинику. Почти семьдесят человек называли Иноземцева своим учителем, и не только хирурги, но также гистологи, акушеры, физиологи, терапевты. И среди них – Сеченов и Боткин.
Зиму 1836 года Пирогов встретил в Петербурге. Он ждал, пока министр соблаговолит утвердить его на кафедру в Дерпте. Ждать сложа руки Пирогов не умел. Он работал.
В Петербурге Пирогов жил так:
«Целое утро в госпиталях – операции и перевязки оперированных, – потом в покойницкой Обуховской больницы – изготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело… бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в 7, – опять в покойницкую и там до 9-ти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12-ти. Так изо дня в день».
Оперируя в госпиталях, Пирогов подчас творил чудеса, не отказываясь от сомнительных и, казалось бы, безнадежных случаев. Для страстной его натуры вопрос в ту пору решался: если можно оперировать, значит, нужно оперировать. Активность и решительность еще больше разжигались горящими глазами зрителей. Пирогов делал неожиданное, то, на что они и рассчитывать не смели. Творить чудеса легче, когда чудес ждут. Петербургские врачи ждали его операций. Его операции были школой.
В Обуховской больнице Пирогов читал лекции тем, кто наставлял других. Учил учителей.
– Что это такое – хирургическая анатомия? – спрашивал старый профессор Медико-хирургической академии своего коллегу.
– Никогда не слыхал, не знаю-с.
Двадцатипятилетний Николай Пирогов знал, что это такое. В жалкой покойницкой Обуховской больницы он прочитал для ведущих петербургских врачей курс лекций по хирургической анатомии. В империи Николая I даже курс анатомии нельзя было прочитать без высочайшего разрешения. Один из известнейших русских медиков, лейб-хирург его величества Арендт испросил требуемое разрешение и стал самым ревностным слушателем Пирогова. Приходили на пироговские лекции и профессора Медико-хирургической академии Спасский и – что особенно показательно – Саломон, сам выдающийся хирург и анатом.
Лекции Пирогова были неопровержимо точны и наглядны. Каждое утверждение подкреплялось демонстрациями, причем одновременно на нескольких трупах. На одних Пирогов показывал положение органов в той или иной области тела (с помощью заранее изготовленных препаратов объясняя тут же строение отдельных органов); на других делал все операции, производящиеся в данной области.
Многое из того, о чем говорил петербургским врачам юный лектор, не знали ни их, ни его собственные учителя. В тускло освещенной сальными свечами покойницкой Обуховской больницы новая наука – хирургическая анатомия – крепла и совершенствовалась.
Но и в парадном сверкающем зале сумел увлечь своих слушателей Пирогов. В Академии наук перед почтеннейшим собранием читал лекцию о ринопластике. Купил в парикмахерской манекен из папье-маше, отрезал у него нос, а лоб обтянул куском старой резиновой галоши. Рассказывая ход операции, выкроил из резины нос и с блеском пришил его на место. Удивило новизною и то, что сказал Пирогов. А говорил он об огромных возможностях пластической хирургии, о не изученных еще способностях человеческого тела, таких, как «восстановление целости поврежденных частей и развитие новой жизни в частях, перемещенных или пересаженных». Увидев же недоверчивую улыбку на лицах иных старых академиков, повернулся к ним и заявил резко:
– Все, что я сказал, основано на наблюдениях и опыте и потому есть неоспоримый факт.
Пирогов учил.
Профессорская деятельность Пирогова началась до его утверждения в профессорском звании. Она началась, по существу, в Риге, продолжалась в Дерпте, теперь – в Петербурге.
Министр Уваров принял Пирогова утром. Вместо фрака на министре был шелковый халат. Уваров соглашался назначить Пирогова в Дерпт, он бранил дерптских студентов и говорил о необходимости исправлять их нравственность (во время посещения Уваровым Дерпта студенты позволили себе посмеяться над министром).
Уваров играл поясом от халата и бормотал несуразицу. Ему было не до Пирогова, не до кафедр хирургии и вообще не до ведомства народного просвещения, которым он руководил. У министра были неприятности. Его высмеял Пушкин; пушкинский смех жег побольнее, чем улыбочки дерптских студентов. В Москве напечатали стихотворение «На выздоровление Лукулла»; хоть там и подзаголовок «Подражание латинскому», да кого обманешь! Все поняли, о чем речь. А речь о том, что Уваров хотел получить наследство графа Шереметева прежде, чем тот отойдет в лучший мир. Что и говорить, скверная получилась история. Ну мог ли он, Уваров, полагать, что Шереметев выздоровеет? И мог ли он терять время, когда пахло миллионами? В обществе разговоры, а Пушкин не унимается – пустил по рукам эпиграмму «В Академии наук заседает князь Дундук», где опять-таки оскорбительнейший намек на… – ну, как бы выразиться? – на предосудительные отношения Уварова с Дондуковым-Корсаковым. И в сердечных делах у министра неприятности – изменила дама. Это ему, министру! И с кем? С правителем канцелярии!..
Уваров поднял веки. Чего ждет от него этот большелобый молодой человек? Ах да, профессор Пирогов… Кафедра в Дерпте… Надо что-нибудь сказать, весомое, запоминающееся, – и отпустить. Министр Уваров встал и, чеканя каждое слово:
– Знайте, молодой человек, и помните: не я министр народного просвещения в России, но государь император Николай Павлович!
И сделал ручкой – аудиенция окончена.
Молодой человек взглянул пристально на бессмысленно торжественное лицо его высокопревосходительства, поклонился, вышел. В передней остановился, оглянулся на массивные белые двери, пожал плечами и, уже не оглядываясь, зашагал по коврам.
Ему было некогда. Операции в госпитале, изготовление препаратов, лекции в Обуховской…
Для окончательного решения о назначении требовались разнообразные утверждения и повеления. Дело Пирогова двигалось обычным порядком. Точнее – не двигалось. Все были заняты. Министр устраивал сцены «изменнице», размышлял, как обезвредить пушкинские стихи. Решения по делу Пирогова не выносились, утверждения задерживались, повеления не следовали.
А Пирогов работал. Оперировал, учился, учил. Он не хотел, не мог дожидаться, пока обшитые золотыми позументами господа соблаговолят утвердить его в профессорской должности. Он не желал обивать пороги, топтаться в передних. Он сам стал профессором, когда почувствовал в себе силы, когда почувствовал свое право – учить. Один из современников как-то заметил, что путь Пирогова к кафедре лежал через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир.
V. ДЕРПТ. ПРОФЕССУРА
1836—1841
Они хохотали. Словно он рассказывал им анекдоты, а не излагал учение о суставах.
– Как смешно он говорит! – воскликнул один студент.
– Что за варварский акцент! – отозвался другой. Заканчивая первую лекцию, Пирогов сказал:
– Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки. Поэтому мои лекции могут оказаться не такими ясными, как мне бы хотелось. Прошу вас сообщать после каждой лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов вновь повторять и объяснять все, что необходимо.
Когда слушатели расходились, один сказал:
– Он читает дельно.
– Знает! – коротко отозвался другой.
Скоро хирургия стала у дерптских студентов одним из любимейших предметов. Ученики попросили у Пирогова его портрет. Он подарил им литографию с надписью: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой, моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую п о с л е д о в а т е л ь н о; действую ли я правильно? – это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт».
Пирогов увлеченно читал «Исповедь» Жан-Жака Руссо, быть может, откровеннейшую из исповедей. «Я хочу показать людям человека во всей его неприкрашенной правде, – писал Руссо, – и этот человек – я сам». Только жестокосердный, утверждал Пирогов, станет смеяться над добровольной исповедью ближнего. Только невежда стает обвинять в невежестве человека, открыто признавшего свою ошибку. Порой восхищаются ловкостью и аплодируют хитрости. Уважают – честность.
Честная исповедь – всегда мужество, в медицине – вдвойне. Врач, признавший грубую ошибку, по существу, публично обвиняет себя в убийстве или нанесении увечья. Открытые исповеди врачей никогда не были в моде. Пирогов видел, как знаменитости не допускают коллег в свои клиники, подтасовывают факты, затемняют истину, отвергая обвинения и подыскивая оправдания. Знаменитости были учителями, потому лгали дважды – перед настоящим и перед будущим. Они отдавали свои ошибки ученикам.
«Видев все это, я положил себе за правило, при первом моем вступлении на кафедру, ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом, и немедля, открывать перед ними сделанную мною ошибку – будет ли она в диагнозе или в лечении болезни». Молодой профессор Пирогов начал с того, что объявил главным девизом своей деятельности абсолютную научную честность. Этот девиз он пронес через всю жизнь. Через два десятилетия он подводил итоги: «От прошлого осталось ненарушимым только одно направление, состоящее в откровенном обнаруживании успеха и неуспеха в практике. С этим направлением я начал врачебное поприще, с ним и окончу».
В 1837 году – на втором году профессуры – Пирогов выпустил первый том «Анналов хирургического отделения клиники императорского университета в Дерпте». В 1839 году вышел в свет еще один том.
«Анналы» – это собрание историй болезни, распределенных по разделам в зависимости от характера заболевания. Подробные, тщательные описания сопровождаются статьями-обобщениями, хроника перемежается размышлениями, заметками, выводами.
В двух предисловиях Пирогов просит прощения у Горация. Римский поэт Квинт Гораций Флакк советовал: «…Лет на девять спрячь ты, что написал: пока не издашь – переделывать ловко, а всенародно заявленных слов ничем не воротишь». Пирогов объясняет, почему не может следовать совету мудрого римлянина. Молодой профессор не в силах ждать, он обязан скорее обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь от таких же ошибок других людей, менее сведущих. Промахи не постыдны – они неизбежны. Не тот должен стыдиться, кто ошибается, а тот, кто не признает ошибок, ловчит, затемняет истину.
Заветная мечта Пирогова – правдиво и открыто признаться в своих заблуждениях, вскрыть сам «механизм» их появления. Если ему «еще недостает многого, бесконечно многого для того, чтобы стать идеальным преподавателем такой науки, как практическая хирургия», то он хочет хотя бы тем принести пользу ученикам и другим врачам, что на своем опыте научит их, как не нужно поступать. «Картины Рафаэля не годятся начинающему для подражания; он должен сперва пережить повседневное, обыденное с его плохими и хорошими сторонами; он должен ошибаться и еще раз ошибаться, прежде чем достигнет полезного результата, прежде чем сможет подражать прекрасным творениям знаменитых мастеров искусства и поступать в т о ч н о м соответствии с их принципами. Поэтому для начинающего практического врача действия другого такого же начинающего врача, если только они точно и добросовестно описаны, должны быть гораздо более полезны и поучительны, так как в его собственных действиях они находят родственный отзвук».
Нельзя ждать девять лет! В науке процветают эгоизм и тщеславие. Дух меркантилизма все более пронизывает науку. «Знаменитые учителя» изворотливой защитой проступков навлекают новые врачебные ошибки на головы доверчивых больных. Исчезает взаимное доверие среди врачей. Надо ломать! Надо принести в медицину честность, без этого наука не двинется вперед. Право судить других приобретает тот, кто всего безжалостнее судит себя. Пирогов объявляет: в книге «нет места ни для лжи, ни для самовосхваления».
Это не поза, не риторика. Жизненная программа, намеченная в предисловиях, реализуется широко и смело в тексте «Анналов». «Анналы» безжалостны.
«В случае 20 я совершил крупную ошибку в диагнозе».
«Чистосердечно признаюсь, что в этом случае я, может быть, слишком поторопился с операцией».
«В нашем лечении была совершена только одна ошибка, в которой я хочу чистосердечно признаться».
«При этом я не заметил, что… глубокая артерия бедра… не была перевязана».
«Больного, описанного в случае 16, я таким образом буквально погубил… Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности».
Так пишет о себе молодой профессор, который должен думать об авторитете, популярный хирург, подошедший к открытым воротам славы. Он не хочет авторитета, выросшего на лжи, не хочет славы, обильно политой самовосхвалениями. Хочет правды и честности. Пишет книгу, не уступающую в силе и искренности «Исповеди» Руссо.
Николай Бурденко назвал пироговские «Анналы» «образцом чуткой совести и правдивой души». Иван Павлов назвал их «подвигом».
Эпиграфом к «Анналам» Пирогов поставил слова любимого своего Жан-Жака:
«Пусть труба страшного суда зазвучит, когда ей угодно, – я предстану перед высшим судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем был!»
Эпиграф не для украшения первой страницы, не как одежка, по которой должны встретить книгу. Эпиграф – руководство к действию. Да, Пирогов говорил громко, говорил всю правду. Да, так он делал, так думал, таким был. «Анналы» – замечательный человеческий документ, золотой ключик к душе и характеру Пирогова.
Но не только. «Анналы» – еще исторический документ. Полотно, запечатлевшее уровень медицины тридцатых годов; вдобавок полотно, написанное кистью великого мастера Николая Пирогова.
«Анналы» – рассказ о том, как распознавали болезни, как лечили, как заблуждались и как провидели медики пироговского времени.
Специалисты рассматривают огромную картину в мельчайших деталях. Не врачи могут ограничиться общим видом или выбрать несколько крупных фрагментов пироговского полотна.
Ампутация бедра: «…Были сделаны два боковых разреза, чтобы можно было отвернуть кожу. У границы отвернутой кожи мышцы перерезаны двумя сильными сечениями и кость перепилена. Длительность операции – 1 минута 30 секунд. Было наложено шесть лигатур, одна кожная артерия перекручена…
Во время операции и наложения повязки больной то и дело впадал в глубокий обморок, который преодолевался холодным опрыскиванием лица и груди, втиранием под носом аммиачной нюхательной соли и небольшими дозами винного напитка… Больной просил соленого огурца и получил ломтик».
Вправление вывиха плеча: «Больному сделали сильное кровопускание, и он был посажен в теплую ванну на несколько часов. Затем он получал время от времени водку, пока не выпил в совокупности полторы четверти [3] 3
Около четырех с половиной литров.
[Закрыть], после чего он оказался совершенно пьяным и расслабленным. В таком состоянии больного было предпринято вправление. Противовытяжение было осуществлено с помощью нескольких полотенец, наложенных на плечо и туловище и натянутых».
Предыстории, сообщающие о лечении больных до поступления в пироговскую клинику, показывают, на какую врачебную помощь мог в то время рассчитывать человек.
Вот что произошло с лесником, сломавшим себе ногу. Сначала «его лечение взял на себя один крестьянин… и посоветовал больному сделать горячую ванну, в которой он мог высидеть только 10 минут из-за невыносимой боли.
…Больной натирал ногу сначала маслом, а затем уксусом и водой, чтобы, как он указывает, прогнать жар.
…По совету одного старого крестьянина вся голень была засыпана сухим горячим семенем травы, однако больной через полчаса должен был отказаться от этого лечения вследствие появления резкой боли».
Через восемь дней, в течение которых «больной постоянно закапывал ногу в холодный песок», появился врач. Вытянуть ногу ему не удалось. Тогда «он окутал место перелома и всю остальную голень несколькими шинами и круговыми бинтами» и «распорядился обливать голень три раза в день холодной водой». Врач заглянул под повязку лишь еще через восемь дней. На месте перелома уже завелись черви, стопа почернела, стала холодной, потеряла чувствительность. Нога была снова перевязана обыкновенным бинтом, внутрь врач прописал микстуру из хины. После этого врач вообще исчез, и больной две недели был без присмотра. Его привезли в клинику. Быстрой ампутацией Пирогов спас леснику жизнь.
«Анналы» – документ о практической деятельности Пирогова-хирурга. В книге разобрана почти треть историй болезни всех его стационарных больных. В хирургической клинике Дерптского университета было всего двадцать две койки. Остается поражаться, что при столь небольшой пропускной способности Пирогов сумел собрать такое количество фактов, развернуть исследования такой глубины и тщательности.
Оперировал он много, очень много. В течение последних двух лет перед его избранием на кафедру в клинике были сделаны девяносто две крупные операции. За первые два года его деятельности крупных операций было сделано триста двадцать шесть. Пирогов перевязывал артерии, в том числе сонную, подвздошную, бедренную, ампутировал конечности, удалял руку вместе с лопаткой, вылущивал опухоли, делал глазные операции, занимался пластической хирургией.
Он оперировал не только в Дерпте. Брал двух-трех помощников, отправлялся в поездку по губернии. Из-за обилия пролитой крови поездки эти называли в шутку «Чингисхановыми нашествиями». Больные к Пирогову шли во множестве. Сотни людей жаждали пролить кровь под ножом этого «Чингисхана». В небольших городах он останавливался на неделю – успевал сделать полсотни и больше операций.
Добирался до Риги и Ревеля. В Риге жил четыре недели во время вакаций. В Рижском военном госпитале было полторы тысячи коек! Он являлся туда к семи утра: совершал обход, делал операции, потом спускался в покойницкую – вскрывать трупы. Из госпиталя ехал в городскую больницу. Оттуда – в богадельню. А дома его ждали больные – амбулаторный прием. Это был отдых по-пироговски.
В Ревеле он познакомился с князем Петром Андреевичем Вяземским, старым другом Пушкина. И с графом Федором Ивановичем Толстым – «американцем». Это о нем писал Грибоедов: «…ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист». А Федор Толстой, право же, заслуживает лучшей памяти – человек многих хороших качеств, умница, смельчак, герой Отечественной войны, добрый товарищ Пушкина и Гоголя, Баратынского и Дениса Давыдова. Пирогов познакомился и с графиней Евдокией Петровной Ростопчиной, поэтессой. Его поразила странная привычка графини постоянно жевать длинные полоски тонкой почтовой бумаги. Настолько поразила, что он не преминул упомянуть об этом через сорок лет в своих записках. Еще графиня читала стихи: смелые, призывные – о декабристах, с надеждою на «час блаженный паденья варварства, деспотства и царей», и грустные – о неудавшейся любви: «Все кончено навеки между нами! И врозь сердца, и врозь шаги!» О стихах Ростопчиной Пирогов не вспоминал.
Пирогову некогда было рассиживаться на ревельских морских купаниях, его тянуло на Домскую гору, на дерптский зеленый Домберг, где стояла его хирургическая клиника.
«Анналы» не только описания, наблюдения, выводы. В книге раскрываются тайны оперативной техники, в ней не только ум, но и руки Пирогова-хирурга – смельчака, новатора. Читатель следит за этими умными руками во время трепанации черепа, или извлечения камней из мочевого пузыря, или при удалении большой опухоли на верхней челюсти, или в момент оригинальной ампутации бедра, так называемой «конусо-круговой ампутации по Пирогову».
«Анналы» – научный документ. И не только по глубине рассуждений или тонкости анализа. Золотой россыпью по страницам – пироговские прозрения. Бесстрашные шаги из устаревшего в новое. Убежденный отказ от шаблона мысли, шаблона взгляда, шаблона действия, от «непостижимого стремления человеческого ума заключить природу в ограниченные рамки искусственной, надуманной классификации».
Здесь ум и руки, догадка и поиск всегда рядом. Всякое предположение проверяется опытом. Экспериментальный метод в хирургии расцветает и господствует. По свидетельству одного из учеников, впоследствии ассистента Пирогова, в Дерпте уже недоставало собак, кошек и кроликов; приходилось за животными ездить по деревням.
Были и другие догадки – эти на собаках и кроликах не проверишь; не тех дней догадки – разговор с грядущим. Пирогов иной раз и сам не сознавал, как далеко залетала его мысль. В воспоминаниях он откровенно смеется над собою, рассказывает случай, когда «самомнение поставило» его «в чистые дураки». «Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, – пишет Пирогов, – я на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный… Мойер покачал головою и начал трунить надо мною… А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и смеяться над собственною же нелепостью». Профессор Оппель, большой наш хирург, цитирует этот рассказ Пирогова и заключает восторженно: «Ну разве не гений?! Правда, это не пересадка суставов, достояние XX столетия, по нечто своеобразное и в конце концов все-таки осуществимое. Гениальный ум и гениальная научная фантазия вели Пирогова так далеко, что его современники, и опытные, пожимали плечами над мыслями мальчишки, заставляли и его смеяться над собой, сконфуженного, а в то же время заставляли его отмечать, его уважать, ему удивляться».
«Мысли мальчишки», поставленного «в чистые дураки», были неосознанным великим предвидением. Ныне замещение суставных концов костей, пересадка консервированного на холоде чужеродного коленного сустава и даже целого тазобедренного сустава – уже реальность. Решение проблемы пересадки суставов более не вызывает сомнений. А ниточка ведет в полуторастолетнюю почти давность, к юноше, который подчас сам смеялся над своими встречами с будущим.
Собрание историй болезни – «Анналы хирургического отделения» – не только медицинская – художественная литература. В пироговских трудах сбылись предсказании пансионского учителя Войцеховича. Будь то страстная публицистика дерптской «исповеди», пейзаж в отчете о кавказском путешествии, обстоятельная проза «Военно-врачебного дела», живая сценка пли непринужденный диалог из «Дневника старого врача» – каждая строка кричит о литературной одаренности профессора хирургии. Но дело не только и не столько в том, что Пирогов по таланту – художник слова. Захватывающая увлекательность его творений – от широты и глубины познаний, от прозрачно ясной логики рассуждеппй, от брызжущего изобилием богатства мыслей. Их высокая художественность – от того, что Пирогов – поэт, свою науку он воспринимает и чувствует, как искусство. Он приносит в науку точность и красоту видения художника. И научные описания становятся самобытными, своеобразными, научная достоверность не оборачивается сухостью, научные определения превращаются в художественные образы.
Пирогов пишет:
«Кровь протекает под пальцем с жужжанием…»
«Упорство свищей…»
«Шум кузнечных мехов в области сердца…»
«Необходимо держать нож, как скрипичный смычок, одними только пальцами…»
Оп сообщает о больном, доставленном для ампутации:
«Один только вид его толстой, отечной, опухшей ноги у всякого отбил бы охоту притронуться к ней ножом…»
Он учит производить ампутацию, не вынимая ножа из раны:
«Подобно каллиграфу, который разрисовывает на бумаге сложные фигуры одним и тем же росчерком пера, умелый оператор может придать разрезу самую различную форму, величину и глубину одним и тем же взмахом ножа при гармоничных движениях действующей руки…»
Он докладывает об основах пластической хирургии: «Как скоро вы привели этот лоскут в плотное соприкосновение с окровавленными краями кожи, жизнь его изменяется; он, подобно растению, пересаженному на чужую почву, вместе с новыми питательными соками получает и новые свойства. Он, как чужеядное растение, начинает жить на счет другого, на котором прозябает; он, как новопривитая ветка, требует, чтобы его холили и тщательно сберегали, пока он не породнится с тем местом, которое хирург назначает ему па всегдашнее пребывание…»
Так писали ученые-романтики, ученые-поэты. Илья Мечников. Дмитрий Менделеев. Климентий Тимирязев. Александр Ферсман. Владимир Обручев. Так писал Николай Пирогов. Он прямо провозглашал: любить искусство врача как и с к у с с т в о.
О жизни своей в Дерпте Пирогов сообщает: «Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого.
Это значило, что я один должен был: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мере 2 1/ 2– 3 часа в день; 2) читать полный курс теоретической хирургии – 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах – 1 час в день; 4) офтальмологию и глазную клинику – 1 час в день; итого – 6 часов в день.
Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе».
По субботам у него собирались студенты. Человек десять-пятнадцать – вернейшие ученики. Это не были комерши —с горящей жженкой, ромовой «дубиной», пьяными песнями и буршескими клятвами. Это было умное и веселое общество за чайным столом, общество, где по-своему блистал Пирогов. Здесь увлеченно говорили о вивисекциях и вскрытиях, не менее увлеченно слушали рассказы об операциях знаменитых хирургов, выискивали нелепости в их приемах и объяснениях – и хохотали, как над лучшим анекдотом. Беседы срывались с научной стези, плутали по бесчисленным путаным тропкам разнообразнейших тем, профессор дважды и трижды за вечер ставил самоварчик, спорил, рассказывал, смеялся со всеми, – он был едва ли старше самых старших из учеников.
А с понедельника Пирогов снова становился требовательным и дотошным «герр профессором», у которого для каждого студента была припасена добрая сотня вопросов и еще один, бесконечно повторявшийся вопрос: «Почему?»
Пирогов исправлял ошибки своих университетских учителей. Теорию и практику соединял в прочный, неразделимый сплав. Кафедра у постели больного была для него ничуть не ниже, чем кафедра в аудитории. Он хотел, чтобы теоретические положения сплавлялись в памяти ученика со сведениями, которые приносили зрение, осязание, обоняние, слух. Но ведь для этого требовалось, чтобы и органы чувств не ошибались в оценках! Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного – предполагал, подозревал, искал, – а профессор вел его вперед и вглубь своими вопросами, точными, словно промытыми – ни куска породы. Это были вопросы-ланцеты, медленно, по слоям, или единым движением обнажающие истину; вопросы-пилы, отсекающие ненужное; вопросы-иглы, крепким швом соединяющие разрозненное в целое. Пирогов спрашивал и чуть ли не каждое слово ответа вновь рассекал стремительным «Почему?».
«Почему? Почему?» Невозможно знать все, но к этому по крайней мере надо стремиться, коли занимаешься у Пирогова. Не замедлять шага, не останавливаться! «Почему? Почему?» Вперед!








