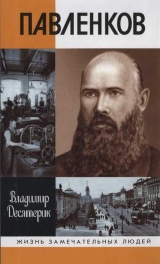
Текст книги "Павленков"
Автор книги: Владимир Десятерик
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Нужно было искать другое решение. Он стал хлопотать об увольнении со службы «по домашним обстоятельствам».
И такой приказ получить удалось. После этого угроза военного суда отпала сама собой.
Пока Флорентий Федорович искал всевозможные пути к спасению второй части писаревских сочинений да одновременно к защите своей свободы, не тратила времени зря противоположная сторона. Прокурор Тизенгаузен готовил свою обвинительную речь. В Главном управлении по делам печати тоже изучали существо этого неординарного процесса.
Заслуживает внимания один документ, автор которого предостерегал власти не торопиться в своем желании во что бы то ни стало расправиться с начинающим издателем. 4 июня 1868 года член совета Главного управления по печати Варадинов писал в своем отзыве: «Вторая часть сочинений г. Писарева, заключающая в себе четыре статьи: (1. “Русский Дон-Кихот”, 2. “Бедная русская мысль”, 3. “Кукольная трагедия с букетом гражданской скорости” и 4. “Реалисты”), есть книга положительно вредная, так как в ней разлит тонкий угар атеизма (стр. 3 и 4), проявляющегося, впрочем, в одном месте довольно ощутительно, отвергаются с глумлением все науки, за исключением естественных, извращаются научные понятия, открыто проповедуется реализм (в статье “Реалисты”), выражается глубокое уважение к “Современнику”, осужденному Высочайшею властью, но который, по мнению Писарева, “лучший журнал, когда-либо существовавший в России” (стр. 228), и выказывается задушевное сочувствие к нигилисту Базарову из романа Тургенева “Отцы и дети”, Базарову, от которого даже нигилисты отвернулись с ужасом и негодованием. Кроме того, на стр. 92 находится следующее примечание: “хотя настоящая статья (‘Реалисты’), написанная Д. И. Писаревым в конце 1864 г., носила название ‘Реалисты’, но почему-то ей дали название ‘Неразрешенный вопрос’, под которым она испытала на себе, по словам Писарева, нечто вроде геологического переворота; наиболее вопиющие изменения восстановлены”. Наконец, во всей книге извращение здравых понятий и решительное отсутствие логики. Поэтому я думаю, что книга эта должна быть конфискована, но так как конфискация влечет за собою неудобное предание суду, между тем объясненные тенденции Писарева не предвидены действующими законами о печати, то я не решаюсь принять на свою ответственность конфискацию этого сочинения и покорнейше просил бы, приостановив выход его в свет теперь же, подвергнуть рассмотрению совета Главного управления».
Хотя и туманно, но все же весьма определенно автор отзыва предостерегает, что выиграть данный процесс будет не так просто. Он согласен с тем, что книгу не нужно было бы допускать до публики, однако согласно действующему законодательству добиться этого невозможно. Услышан ли был этот голос? Нет.
5 июня 1868 года Флорентий Федорович Павленков предстал перед судом в Санкт-Петербургской палате. Дмитрий Иванович по-прежнему демонстрировал полнейшее равнодушие к предстоящему процессу. Весь поглощенный мыслями о будущей защите, Флорентий Федорович уже без всяких волнений пробежал полученную 5 июня писаревскую записку. В ней – одни лишь личные интересы критика. «Милостивый государь Флорентий Федорович! Я на днях уезжаю из Петербурга на все лето. Поэтому я прошу Вас, по мере наступления сроков, доставлять мои деньги Николаю Алексеевичу Некрасову, на углу Литейной и Бассейной в доме Краевского. Застать его дома можно по понедельникам, от 1–3 пополудни. Готовый к услугам Вашим Д. Писарев».
Это мы выполним, Дмитрий Иванович. Будьте покойны! Поборемся и за Ваши сочинения… Своих убеждений не меняем! Почему-то вспомнилась встреча с Дмитрием Ивановичем сразу после выхода его из крепости… Сколько радости принесла она обоим! Вера Ивановна, присутствовавшая при этом, ликовала от счастья.
Я, помнится, говорил Писареву о том огромном идейном воздействии, которое он оказал своим творчеством на формирование мировоззрения, на выработку жизненной позиции.
– Влияние и известность, какими Вы пользовались в шестьдесят втором – шестьдесят пятом годах, то есть во времена относительно счастливых годов журналистики, было громадно. Только тот, кто жил в это время в провинции, может составить себе о ней хотя бы приблизительное понятие. Можно без преувеличения сказать, что еще никто из русских писателей не имел таких горячих повсеместных поклонников, какие выпадали тогда на Вашу долю, Дмитрий Иванович.
Это я говорю Вам о себе, о своем друге Вольдемаре Черкасове и о других своих товарищах. Вы были близки нам по духу еще и потому, что являли собой представителя нашего же поколения, в прямом смысле этого слова – ровесника. Вам удалось столь гениально выразить наши думы и надежды, чаяния всей честно мыслящей части общества, что Вы по праву стали нашим «идейным коноводом», как высказался один из наших современников. В Киеве мы не пропускали ни одного номера журнала «Рассвет», где с 1859 года появлялись в библиографическом отделе Ваши публикации. Поражало все. Даже производительность Вашего творческого труда.
Дмитрий Иванович в этом месте заметил:
– Да, работалось тогда прямо-таки в удовольствие. Даже как-то подсчитал на досуге, что ежемесячно предоставлял редакции до тридцати пяти страниц большого формата.
Сообщая Дмитрию Ивановичу, что именно со страниц «Рассвета» познакомился с первыми его литературными опытами – рецензиями «Обломова» И. Гончарова, «Дворянского гнезда» И. Тургенева, «Трех смертей» Л. Толстого и другими, я добавлял:
– Хотите знать, что особенно привлекало меня и моих друзей в Ваших статьях? Прежде всего – оригинальность, которая сделалась впоследствии отличительной чертой всех Ваших произведений, лежала в основе Вашего характера и в складе всей Вашей личности.
С интересом, помню, слушал тогда Дмитрий Иванович мои признания. Я тогда и такой темы коснулся. Сказал, что все мы, молодые офицеры, сходились в том, что Писареву присущ культ умственной деятельности. Исходной точкой всех Ваших воззрений на окружающие явления, говорил я, была неограниченная, фаталистическая вера в разум. Мы все были убеждены, что разум был у Вас своего рода религией. Перед мыслью Вы благоговеете, только за ней одной и признаете силу, прочность и будущность. В Вашем лице для нас представал своего рода язычник, который с анатомическим хладнокровием срывает с рассматриваемых предметов самые красивые оболочки. И если при вскрытии внутри их не обнаруживает пропорциональной частицы его божества, то безжалостно бросает рассеченный предмет в мусор. Только таким приемом и объясняются Ваши статьи о некоторых неприкосновенных будто бы представителях нашей литературы. Если в них и есть преувеличения, то эти преувеличения чрезвычайно последовательно вытекали из высокого начала – из Вашего требования, чтобы все, что рассчитывает на прочность и влияние, прежде всего было разумно, сознательно, продуманно, а потом уже справедливо, человечно и т. д.
Интересно, что закончил я тогда свой затянувшийся монолог о нашем восприятии писаревских идей такой довольно-таки выспренной фразой: «Ум прежде всего! В этих трех словах… – весь Писарев со всеми его достоинствами и недостатками».
Создалась в те часы нашей прогулки по набережным Невы такая атмосфера искренности, что все это звучало без фальши, не воспринималось с какой бы то ни было примесью ложных эмоций.
Дмитрий Иванович в ответ на комплиментарные слова почему-то обратился к своей студенческой поре.
– Когда я пришел в Петербургский университет, жизнь там шумела. Конечно, для науки нужен больше не шум, а тишина и спокойствие. Но разве это тогда было понятным? Первое, что услышал в стенах университета, что захватило меня целиком, было не лекцией одного из умудренных профессоров, а речью студента старшего курса. «Отрицание, самое беспощадное отрицание необходимо нам для обновления старой жизни. Прежние принципы нравственности и гражданственности не могут удовлетворить нас, молодежь. Мы смело и торжественно отвергаем их…»
И я отрицал. Отрицал многое – страстно и убежденно…
Флорентий Федорович прервал свои воспоминания, отложил писаревскую записку и вновь углубился в изучение обвинительного акта…
В день процесса на скамью подсудимых Павленков пришел во всеоружии юридических знаний. Как отмечал впоследствии Н. А. Рубакин, несмотря на свои двадцать восемь лет, Павленков проявил в своих речах и ум, и знания, и ловкость самого опытного адвоката. Он логически подводил судей к пониманию ответственности самих цензоров за создание возникшей ситуации с публикацией писаревских статей.
С убежденностью и страстностью высказывается издатель против прокурорского толкования указа 6 апреля.
«…Статья, предусматривающая преступление, возводимое на меня г. прокурором, существовала и в уложении 1857 г. с той лишь разницей, что там она стоит под № 1356. Но где же тогда неопределенность постановлений, действовавших до указа 6-го апреля, или, может быть, номер 1001 определеннее 1356-го?.. Но тогда пусть г. прокурор объяснит мне эту кабалистику. Вот к каким несообразностям может привести преследование цензурованных книг. Но понятно, что если обвинение в нарушении той или другой статьи закона приводит к несообразности, то значит, что его не существует…»
После сказанного можно признать, что если и допущено какое-либо закононарушение, то речь может идти исключительно о статье 1712 Уложения о наказаниях, в которой говорится о секретных указаниях цензорам. Значит, при конфискации второй части сочинений Д. И. Писарева все определялось не закононарушением, а какими-то другими мотивами. «Надо здесь намекнуть на выстрел Каракозова», – вспомнилось напутствие Черкасова. И Павленков говорил дальше.
«…После всех известных событий цензурный комитет так засуетился, что стал впопыхах обращать свои преследования не столько на идеи, сколько на знамена этих идей, на известные имена. Но понятно, что с именем Писарева соединено много воспоминаний. Поэтому возобновление его статей могло показаться комитету отступлением от рескрипта. Что в то время преследовалось имя Писарева, это доказывается, между прочим, запрещением публикаций о его сочинениях. Цензура просто хотела заставить меня прекратить начатое мной издание, как заставила Звонарева сжечь до суда изданные этим книгопродавцем сочинения М. Л. Михайлова. Со мной это ей не удалось: все части “Сочинений Д. И. Писарева” отпечатаны в том виде, в каком предполагалось… Повторяю, на самом деле во второй части “Сочинений Писарева” нет ничего предосудительного. Если б она вышла раньше, то и ее бы не конфисковали; а если бы преследуемые теперь статьи были подписаны не Писаревым, то они прошли бы даже и в 1866 году. Я знаю, мне могут возразить, что это не идет к делу, что все это – одни мои ни на чем не основанные предположения, которых нельзя подтвердить доказательствами и которые, следовательно, будут оставлены судом без внимания. Но в том-то и дело, что за моими словами стоит неопровержимый факт…»
Флорентий Федорович прервал свою речь. Встретился взглядом с Верой Ивановной. Уловил ее ободряющий жест и… стал слово в слово повторять все то, что произносил перед Верой Ивановной на Невском. В конце речи он вручил председателю четыре экземпляра изданного в Москве сборника с подвергающимися в данный момент судебному преследованию писаревскими статьями, напомнил еще раз суду о цепи несообразностей, вытекающих из процесса, и закончил свое выступление словами: «Найти тот или другой выход из этой цепи несообразностей, конечно, зависит от суда. По моему же мнению, выход этот может быть только один – это оправдать меня».
Возвращаясь на свое место, Флорентий Федорович на лицах друзей увидел ободряющие улыбки.
Судья раздал книги сидящим рядом с ним и сам стал внимательно ее изучать. Автором книги указан некий «Н. Р.». Позднее судья узнает, что эти две буквы имеют прямое отношение к Д. И. Писареву. Николай Рагодин – таким был псевдоним юного критика. В книге действительно помещены обе статьи, которые стали предметом судебного разбирательства. Правда, озаглавил их издатель здесь совсем иначе: «Взгляд на славянофильское любомудрие, направленное против западничества Петра, как на психологический фактор», а другую – «Оправдание Петра Великого с точки зрения исторической необходимости».
А что же говорилось в предисловии? «Статьи, предлагаемые читателю в этой книжке, были когда-то помещены в одном из наших периодических изданий. В самый момент своего появления они мало были замечены публикой, и теперь об них едва ли кто помнит. Вот почему, печатая их вторично, издатель полагает, что они для многих будут новыми. К вторичному изданию этих статей, кроме сознания с нашей стороны их не бесполезности – не говорим о полнейшей их благонамеренности – нас побуждают еще просьбы о том некоторых наших знакомых. Исполняя их желание, мы однако же должны оговориться, что считаем лишним печатать настоящую книжку в большом количестве экземпляров. Вот чем объясняется сравнительно весьма дорогая ее цена».
Все это так, но факт остается фактом, что одни и те же статьи в Москве цензура разрешила к распространению, а здесь они – предмет судебного разбирательства?!
АРЕСТ И ЗАТОЧЕНИЕ В КРЕПОСТЬ
Уже на второй день после завершения процесса Флорентий Федорович посылал на Рижское взморье Дмитрию Ивановичу приговор судебной палаты. Настроение у него было приподнятое. Он с удовольствием переписал текст приговора. Писать же какие-либо слова Дмитрию Ивановичу Вера Ивановна не велела. Было бы неприятно, если бы их радость по поводу этой обшей победы разделяла и та, которая столь пагубно повлияла на друга и брата…
«Приговор судебной палаты.
1868 года, июня 5-го дня по указу Его Императорского Величества, С.-Петербургская судебная палата, по уголовному департаменту, в публичном судебном заседании, под председательством старшего председателя, сенатора Я. Я. Чемадурова, в составе членов: А. Н. Маркевича и Н. Н. Медведева, при секретаре Д. С. Орестове, в присутствии прокурора судебной палаты П. О. Тизенгаузена, слушала дело об отставном поручике Флорентии Федоровиче Павленкове, обвиняемом в нарушении постановлений о печати. В июне месяце 1866 года, в С.-Петербургский цензурный комитет представлена была отпечатанная без предварительной цензуры вторая часть сочинений Д. И. Писарева, издания Флорентия Павленкова. По рассмотрении этой книги цензурный комитет нашел, что в первых двух статьях оной: “Русский Дон-Кихот” и “Бедная русская мысль” заключаются мысли, вредные по их направлению и цели, а потому, сделав распоряжение об арестовании отпечатанных в числе 3000 экземпляров означенной книги, отнесся к прокурору С.-Петербургского окружного суда о предании издателя книги Павленкова суду, обвиняя его в напечатании таких двух статей, из коих первая – “Русский Дон-Кихот”, заключая в себе осмеяние нравственно-религиозных верований и отрицание необходимости религиозных основ в просвещении и нравственности, составляет закононарушение, предусмотренное в 1001 ст. Улож., и вторая – “Бедная русская мысль”, в коей есть выражение, оправдывающее свободные отношения двух полов, заключая в себе, сверх того, иносказательное порицание существующей у нас формы правления, делая враждебное сопоставление монархической власти с народом и стараясь представить первую началом бесполезным и даже вредным в народной жизни, составляет закононарушение, предвиденное в статье 1035 уложения. Вследствие сего, прокурор судебной палаты, составив о Павленкове обвинительный акт, в коем прописал изложенные выше выводы цензурного комитета, предложил оный на рассмотрение палаты.
В публичном заседании судебной палаты по сему делу прокурор палаты в обвинительной своей речи, не указывая более нарушения Павленковым правил, предусмотренных 1035 ст. Улож., объяснил, что, по мнению его, поименованные статьи в книге, изданной Павленковым, заключают в себе: первая – оскорбительное для чувства верующего осмеяние православно-христианского образа мыслей и православно-славянского направления одного из отечественных писателей, а вторая – суждения, путем коих умаляется значение гнусного политического преступления, и презрительный тон, каким говорится о деяниях Великого Петра; что обе эти статьи слишком несерьезны для того, чтобы искать в них материал для обвинения в преступлении; что преступление, предполагающее всегда существование злого умысла, не может крыться в сочинениях столь легкого содержания; что в подобных сочинениях видны не преступные умыслы, но странная торопливость высказать поскорее в печати все, что думает автор о разных предметах, торопливость, под влиянием которой автор рассматриваемых сочинений забыл то приличие, какое требуется от публичного слова; что таким образом напечатание этих сочинений, содержащих в себе неприличные суждения, оскорбляющие религиозное чувство верующего и нравственное чувство гражданина, составляет явное нарушение общественной благопристойности, воспрещенное 1001 ст. Уложения, под действия коей подводится и указанное цензурным комитетом место в статье “Бедная русская мысль”, в котором автор оправдывает свободные отношения двух полов. При этом, как и в обвинительном акте, прокурор указал те места и выражения статей Писарева, на коих основаны вышеизложенные обвинения.
Оставляя без рассмотрения первоначально возведенные на Павленкова обвинения, как неподдерживаемые в судебном заседании обвинительной властью, и приступая к обсуждению сего дела по отношению к указанной в обвинении 1001 ст. Улож., судебная палата усматривает, что означенная статья подвергает взысканию того, кто тайно от цензуры будет печатать или иным образом издавать в каком бы то ни было виде, или же распространять подлежащие цензуре сочинения, явно противные благопристойности.
Таким образом, для признания какого-либо издателя книги виновным в нарушении постановлений, указанных в 1001 ст. Улож., нужно, во-первых, чтобы издаваемая им книга содержала в себе что-либо явно противное благопристойности, и, во-вторых, чтобы книга эта была тайно от цензуры отпечатана и распространяема. Из этого видно, что 1001 ст. может относиться к такого рода сочинениям, которые, подлежа предварительной цензуре, не будут в оную представлены, а, напротив, тайно от нее напечатаны и распространены. Обращаясь затем к рассмотрению действий Павленкова при издании им рассматриваемой ныне книги, оказывается, что книга эта, по объему своему, могла быть и была напечатана без предварительной цензуры, что затем, по отпечатании, она представлена была в узаконенном порядке в цензурный комитет и тайно от цензуры распространяема Павленковым не была.
Признавая посему, что в действиях Павленкова не было одного из существенных признаков проступка, предусмотренного 1001 ст. Улож., а именно тайного от цензуры распространения сочинения, что посему за одно не тайное от цензуры напечатание без распространения книги, если бы в ней и заключалось что-либо явно противное благопристойности, Павленков не мог бы подвергнуться лично указанному в 1001 ст. взысканию, и, переходя к рассмотрению самого содержания тех двух статей книги, которые послужили поводом к преследованию издателя оной перед судом, так как при существовании в них чего-либо воспрещенного 1001 ст. уложения, они, на основании этой ставки закона, должны быть уничтожены, палата находит: 1) что статья “Русский Дон-Кихот” составляет критический обзор сочинений И. В. Киреевского и рассуждения о личности этого писателя. Не соглашаясь с воззрениями Киреевского и с его направлением, Писарев называет Киреевского “мрачным и вредным обскурантом”, называет “допотопными” выработавшиеся с детства у Киреевского идеи, его направление “православно-славянским”, а убеждения – “московскими”, которые “разделяли с ним все старушки белокаменной”, которые “были втолкованы ему с детства маменькой да нянюшкой”. Эти выражения, вызванные у Писарева чтением сочинений Киреевского, не составляют, по мнению палаты, ничего противозаконного. Они касаются единственно Киреевского и его личного направления; нельзя придавать выражениям этим смысла более обширного, чем придавал им сам автор, и потому затронуть, а тем более оскорбить чувства всякого православно верующего они не могут; наконец, и по форме своей эти выражения не переходят границ благопристойности. В статье “Бедная русская мысль” Писарев, выражая свой взгляд на значение личной воли правителей и политических деятелей в историческом развитии народов, находит, между прочим, что деятельность Петра Великого не была вовсе так плодотворна историческими последствиями, как это кажется его восторженным поклонникам и ожесточенным врагам, что она представляет собой только “остроумные затеи Петра Алексеевича” и что если б “Шакловитому удалось убить молодого Петра”, то “жизнь русского народа вовсе не изменилась бы в своих отправлениях”. Это последнее выражение, употребленное Писаревым в подкрепление мнения своего, как о деятельности Петра I и о влиянии его на историческое развитие России, так и о влиянии вообще единоличных политических деятелей, не заключает ничего воспрещенного законом. Делать же из этого вывод, что Писарев старается этим умалить гнусность политического преступления Шакловитого, палата не считает себя вправе, ибо вывод такой не оправдывается общим смыслом статьи Писарева, в которой он о действии Шакловитого вовсе и не рассуждает. Эта статья, имеющая предметом рассуждения о деятелях, имена которых принадлежат истории и о деятельности коих не воспрещено писать, не заключает в себе, ни по содержанию, ни по способу выражений, ничего такого, что могло бы оскорбить чувство гражданина и быть признаваемо неблагопристойным.
Вообще при чтении этих двух статей Писарева, составляющих не что иное, как коротенькие журнальные статейки, нельзя не согласиться с мнением прокурора, что они лишены всякого серьезного значения и искать в них какого-либо преступного умысла не следует.
Что касается, наконец, обвинения в оправдании Писаревым в последней из рассматриваемых статей его теории свободных отношений двух полов, то об этом предмете сказано им на странице 32 вскользь только несколько слов, в коих он сам отчасти опровергает основательность этой, как он называет, “безукоризненно гуманной философии”.
Вследствие всего изложенного, судебная палата приходит к заключению: I) что в статьях Писарева “Русский Дон-Кихот” и “Бедная русская мысль” нет ничего противозаконного и как по содержанию своему, так и по способу изложения, они не заключают в себе ничего противного благопристойности и воспрещенного 1001 ст. Улож. Этот вывод палаты подкрепляется и тем: а) что 1001 ст. Улож. изд. 1866 г. существовала и в Уложении 1857 г. (см. 1356), что, при существовании этой статьи закона, сочинения, явно неблагопристойные, не могли бы быть допущены к распространению в публике печатно, а между тем обе означенные статьи Писарева были пропущены в начале 1862 г. цензурой, напечатаны в журнале “Русское слово” и находятся доныне в обращении в публике, и б) что хотя в том же 1862 г. и было прекращено на некоторое время издание журнала “Русское слово”, но из произведенного по настоящему делу предварительного следствия не видно, что основанием к такой мере послужили именно означенные две статьи Писарева; 2) что при печатании Павленковым 2-й части сочинений Писарева не было нарушено правило, предусмотренное 1001 ст. уложения. Посему, и, принимая во внимание, что Высочайшее повеление о прекращении вовсе издания журнала “Русское слово”, состоявшееся в 1866 г., не относится к статьям, напечатанным в этом журнале еще в 1862 г., судебная палата определяет:
отставного поручика Флорентия Федорова Павленкова, 28 лет, на основании I п. 771 ст. Уст. угол, суд., признать оправданным, а арест, наложенный С.-Петербургским цензурным комитетом на напечатанную Павленковым 2-ю часть сочинений Д. И. Писарева, снять».
Отправив приговор в Дуббельн, Флорентий Федорович, воодушевленный победой на процессе, готовился к осуществлению новых издательских планов. Правда, огорчало, что решение судебной палаты не входило в силу, ибо прокурор Тизенгаузен подал в уголовный кассационный департамент Сената апелляционный протест. Он не только ревизовал каждое положение приговора палаты, но стремился создать впечатление у высоких особ, что в лице подсудимого они имеют дело с весьма опасным и коварным противником монархии. Тизенгаузен находил «приговор палаты несогласным с существом дела, с точным смыслом 1001 ст. Уложения о наказаниях и с законом 6-го апреля», он полагал, «что Павленков должен быть признан подлежащим одному из взысканий, определенных приведенной статьей Уложения, а именно – денежному взысканию 300 руб., и, кроме того, должна быть уничтожена статья на основании 1045 ст. Уложения о наказаниях».
Отчеты о процессе, опубликованные в «Судебном вестнике» и в «Санкт-Петербургских ведомостях», вызвали живую реакцию общественности. Историк-академик М. П. Погодин, отталкиваясь от материалов процесса, написал несколько резких статей против нигилистов. Друзья же поздравляли Павленкова, незнакомые единомышленники праздновали торжество своих взглядов.
Павленков позднее говорил, что на суде стремился защищаться так, словно это сам Д. И. Писарев отстаивает собственные идеи. Оттого защитительная речь Павленкова по яркости, насыщенности иронией и сарказмом столь созвучна лучшим статьям критика и по праву являет собой блестящий пример демократической публицистики конца 60-х годов.
Смелый голос издателя, прозвучавший бесстрашно и вызывающе, одержанная им победа на суде склонили к нему симпатии многих прогрессивно настроенных современников. И это неудивительно. Вряд ли можно вспомнить другой какой-либо процесс в царской России, где издателя оправдали бы и признали его правоту. «Еще вчера это имя было мало кому известно, – читаем в свободном зарубежном издании. – А теперь за ходом процесса с напряжением следили не только в Петербурге, но и за границей.
То тут, то там не без грусти спрашивали друг друга:
– Чем закончится дикое издевательство над несчастным Павленковым? Неужели не победят свежие люди, рассыпанные по нашей длиннейшей и широчайшей России?»
Правда, нельзя забывать, что в обществе господствовали совсем другие силы. В департаментах и комитетах результаты судебного рассмотрения по делу Павленкова встретили далеко не восторженные отзывы. Скорее, наоборот.
Министр внутренних дел Тимашев выражал нескрываемое негодование по поводу того, что Павленкову не только удалось добиться оправдания, но и «превратить судебное заседание в резкую литературную рекламу по поводу Писарева, писателя, замешанного и осужденного по политическим делам».
Особое беспокойство такое развитие событий вызвало в цензурном комитете. Это же может создать нежелательный прецедент! Комитет до сих пор всегда был прав! А что получается сейчас? И вся «канцелярия» комитета сосредоточилась на защите собственного мундира… Если мнение цензурного комитета не получило поддержки, то в этом повинны: прокурор (он недостаточно был активен!), сама палата (она превысила собственные полномочия!) и конечно же Павленков (чего стоит хотя бы его выходка с изданием в Москве двух этих писаревских статей!). Надо все проанализировать и пустить «по начальству», чтобы в Сенате хотя бы не произошло подобной промашки. И заскрипели перья в цензурном комитете. Медлить здесь нельзя ни минуты…
Уже 12 июня 1868 года, то есть спустя неделю после суда, совет Главного управления по делам печати заслушивал дело об «изданной г. Павленковым книге под заглавием “Две статьи” и отзыв члена совета Фукса по сему предмету». Фукс сосредоточил обвинение прежде всего на дерзком поступке подсудимого. «Павленков издал в Москве особою книгою две статьи, помещенные во II части сочинений Писарева “Бедная русская мысль” и “Русский Дон-Кихот”, подвергнутых С.-П. цензурным комитетом судебному преследованию, – писал член совета. – В этом издании означенные статьи напечатаны под измененными заглавиями и замаскированы произвольно взятыми начальными буквами авторского имени». Аргументируя свой вывод, Фукс так излагал ход событий. На суде 5 июня «Павленков, представив эту книгу, объяснил, что он умышленно предпринял это издание в сказанной форме, чтобы доказать несостоятельность судебного преследования, которому подвергнута 2-я часть сочинений Писарева, что, по мнению Павленкова, и доказывается вполне допущением выпуска в свет ныне изданной им книги Московским цензурным комитетом».
По мнению члена совета Фукса, едва ли подлежит сомнению, что перепечатка Павленковым в Москве под новым заглавием заарестованных Санкт-Петербургским комитетом двух статей Писарева не может быть оставлена без судебного преследования. «Если даже неблагоприятный для администрации исход последнего судебного преследования в здешней судебной палате не может изменить прежнего взгляда цензурного ведомства на вредный характер сказанных статей, то перепечатка их составляет повторение, и повторение заведомое прежнего проступка в форме более резкой и непозволительной. Кроме вредного содержания перепечатанных статей, сам факт перепечатки заключает в себе и глумление над администрацией, и противодействие власти. Павленков мог бы свободно перепечатать эти статьи после оправдательного приговора, но не до его воспоследования22
Здесь уместно отметить, что в очерке «Флорентий Павленков. Его жизнь и издательская деятельность» его автор Ю. А. Горбунов в оценке данного факта и ряда других эпизодов из павленковской биографии бездоказательно прибегает к квалификации их как «иезуитских» («Павленкову не давала покоя затея сыграть с цензурой иезуитскую шутку»; «…Павленков, защищаясь, вынужден был соблюдать иезуитские правила игры…»; «…его логика была иезуитски безупречна»; «…трудности и препятствия всегда были для “иезуита” Павленкова, что красная тряпка для быка» и т. д.), тем самым представляя русского издателя едва ли не приверженцем теории, согласно которой для достижения цели все средства хороши. Ф. Ф. Павленков и сам опровергал подобное толкование и своей деятельностью не давал поводов для такой его характеристики.
[Закрыть]. С другой стороны, при всей очевидности злого умысла издателя, случай этот, по своей неожиданности и своему единичному характеру, не предвиден в законе и не может посему составить предмета самостоятельного преследования; он может лишь усугубить меру ответственности издателя в случае признания в высшей инстанции, то есть в Правительствующем сенате по кассационному департаменту, что оправдательный приговор судебной палаты был неправилен и что подвергнувшиеся преследованию две статьи Писарева действительно составляют нарушение постановлений о печати. В противном случае факт судебного оправдания двух статей Писарева в первом их издании едва ли не будет иметь непременным последствием и оправдание их московской перепечатки. Посему, по мнению члена совета, не возбуждая ныне же преследования по московской перепечатке двух статей Писарева, следовало бы озаботиться прежде всего, чтобы дело Павленкова было по протесту прокурора перенесено, согласно с. 3 закона 12 декабря 1866 года, в Правительствующий сенат. Но чтобы в этой высшей инстанции оно было решено правильнее, необходимо разъяснить те причины, по которым оно получило в судебной палате столь неожиданный исход, судя по отчетам об этом в “Судебном вестнике” (№ 122) и “С.-Петербургских ведомостях”».







