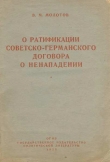Текст книги "Пакт, изменивший ход истории"
Автор книги: Владимир Наджафов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Антикапиталистическая стратегия СССР многое объясняет в его подходе к проблеме коллективной безопасности в 1930-е годы. Сближение с Францией (по сталинской оценке 1930 г. – «самой агрессивной и милитаристской страной из всех агрессивных и милитаристских стран мира»), вступление в Лигу наций (1934 г.), породившее иллюзию, что отныне Советский Союз станет защитником международного статус-кво, договора с Францией и Чехословакией о взаимопомощи (1935 г.) отражали не столько серьезную, долговременную перемену в советской внешней политике, сколько смену тактических шагов в рамках ее неизменной международной стратегии. Как признавал в июле 1940 г. Сталин, принимая английского посла Р.С. Криппса, советским интересам больше отвечало сближение с Германией, с которой СССР объединяло стремление «изменить старое равновесие сил в Европе»{561}, установленное Версальским мирным договором 1919 г., чему, естественно, противились Англия с Францией.
Реакция в США на советско-германский пакт, покончивший с «неопределенностью советской позиции» (английский историк Поль Кеннеди), была весьма бурной. Влиятельные комментаторы пришли к общему мнению, что заключение пакта «разоблачило гитлеровский коричневый большевизм и сталинский красный фашизм как выражение одной и той же идеи тоталитаризма»{562}. Для большинства американцев, писал автор исследования «Американское общественное мнение о Советской России», коммунизм и фашизм были одним и тем же злом{563}. Двусторонние отношения были отброшены далеко назад, вступив в полосу кризиса, продолжавшегося вплоть до гитлеровского нападения на СССР 22 июня 1941 г.
Таким образом, дипломатические отношения между США и СССР, переступивших, как казалось вначале, через барьер взаимного политико-идеологического отчуждения, не стали, однако, стабилизирующим фактором международных отношений в критические для цивилизации 1930-е годы. Глубинные причины этого коренились в различиях внешнеполитической стратегии этих стран в условиях развязывания Второй мировой войны.
Глава 10.
Геополитический контекст советско-германского пакта 1939 года
Основным элементом советской внешней политики всегда было убеждение в возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом.
И.В. Сталин на переговорах с И. Риббентропом 27 сентября 1939 г.
Было бы грубой клеветой утверждать, что заключение пакта с гитлеровцами входило в план внешней политики СССР.
Из правки И.В. Сталиным брошюры «Фальсификаторы истории» в феврале 1948 г.
Ставка советского руководства на Германию (в развитие агентурных связей большевиков с немцами, установленных В.И. Лениным в годы Первой мировой войны{564}) определилась рано, воплотившись в советско-германские договоры в Рапалло (1922 г.) и Берлине (1926 г.) и тайное военно-техническое сотрудничество в обход запретов Версальского мирного договора. Линия Рапалло – Берлина заложила в двусторонних отношениях традицию взаимодействия, которому суждено было сыграть зловещую роль в европейской и мировой истории.
Начало было положено на Генуэзской экономической конференции, созванной ведущими капиталистическими державами Запада с целью «экономического восстановления Центральной и Восточной Европы»{565}. 16 апреля 1922 г., в ходе конференции, главы советской и немецкой делегаций Г.В. Чичерин и В. Ратенау в предместье Генуи Рапалло подписали двусторонний договор, ставший неприятным сюрпризом для остальных участников конференции. Так была выполнена задача, поставленная из Кремля – «за кулисами переговоров возможно более рассорить буржуазные государства между собой»{566}. Современники за рубежом единодушно оценили советско-германский договор как сильнейший удар по конференции, которая прервалась, не добившись нужных результатов.
По условиям договора стороны взаимно отказывались от возмещения военных расходов и убытков, причиненных им во время мировой войны. Германия отказывалась от претензий (государственных и частных лиц) в связи с аннулированием старых долгов и национализацией иностранной собственности в Советской России при условии, что советское правительство откажется от удовлетворения аналогичных претензий других государств. Предусматривалось немедленное возобновление дипломатических и консульских отношений.
Рапалльский договор нарушил единство капиталистических стран в их требовании к Советской России о возвращении иностранной собственности и выплате долгов. Советский же отказ от своей доли репараций подрывал позиции стран – получателей репарационных платежей с Германии. Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Германией, государствами, проигравшими Первую мировую войну, означал также прорыв их внешнеполитической изоляции.
Были и иные основания для советско-германского сближения – опять-таки в противовес странам Запада. Характеризуя Рапалльский договор 1922 г. как попытку Германии и СССР «сообща ослабить путы, навязанные державами-победительницами», немецкий исследователь истории взаимоотношений двух стран X. Таммерман продолжает: договору «была присуща и определенная основополагающая, имевшая социокультурную подоплеку антизападная направленность…»{567} Антизападная направленность договора в Рапалло признается в официозной «Истории внешней политики СССР», в которой подчеркиваются выгоды договора как для Советской России: «Это был удар по империалистической политике изоляции Советской России», так и для Германии: «Для Германии Рапалльский договор был важной опорой в борьбе против давления и шантажа со стороны держав-победительниц»{568}.
Таким образом, советско-германский договор в Рапалло стал событием европейского и даже мирового порядка, заложив общую антиверсальскую основу для длительного сотрудничества между Советской Россией и Веймарской Германией. Достижению договоренностей с демократическим Западом, Англией и Францией, советские руководители предпочли сближение с Германией, оформив правовую основу прогерманской тенденции во внешнеполитической ориентации СССР. Антизападная направленность Рапалло немало способствовало провалу попыток Англии и Франции создать общеевропейскую подсистему в рамках Версаля.
С тех пор между Советской Россией и Германией завязались развивавшиеся партнерские отношения в политико-дипломатической, экономической и военной областях. Между Красной Армией и Рейхсвером в нарушение Версальского мирного договора установилось тайное сотрудничество, продолжавшееся вплоть до прихода Гитлера к власти в Германии в январе 1933 г. В СССР в глубокой тайне строились и действовали совместные военные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы, из которых вышли будущие офицеры и генералы нацистского Вермахта{569}.
Так Советская Россия помогала Германии в ее постоянных поисках возможностей, прямых или обходных, чтобы ослабить путы Версаля и добиться нового, более выгодного для себя урегулирования отношений с бывшими противниками. Первым большим клином, который удалось ей вбить в Версальскую систему, расшатав ее, была договоренность с Советской Россией в Рапалло (с появившимися шансами на конечный успех). Новую возможность для проявления ее дипломатической инициативы дал французский проект договора между державами, «имеющими интересы на Рейне» – проект англо-франко-бельгийского союза.
Встречное предложение Германии о заключении Рейнского гарантийного пакта вызвало оживленную дискуссию, вскрывшую весьма значительные разногласия между ведущими участниками будущего пакта. Франция желала, чтобы арбитражные договоры Германии с Польшей и Чехословакией были связаны с Рейнским гарантийным пактом в одно целое, но на это не соглашалась Великобритания. Поддержку последней Германия использовала для того, чтобы решительно отвергнуть юридическое закрепление неприкосновенности ее границ с Польшей и Чехословакией. В этих условиях подписанные арбитражные договоры не могли стать надежной гарантией для восточных соседей Германии. Что касается согласия Великобритании на заключение пакта, то она подчеркивала, что пакт ни в коей мере не должен противоречить Версальскому договору.
В итоге долгих и сложных дипломатических маневров в октябре 1925 г. в Локарно (Швейцария) был парафирован (окончательно подписан 1 декабря в Лондоне) ряд соглашений, главным из которых был Рейнский гарантийный пакт между Германией, Францией, Бельгией, Великобританией и Италией. По этому пакту Германия, Франция и Бельгия обязались сохранять неприкосновенность границ между Германией и Бельгией и между Германией и Францией, установленных Версальским договором, а также соблюдать постановления договора о демилитаризованной Рейнской зоне. Германия, Франция и Бельгия обязались разрешать все спорные между ними вопросы путем арбитража или судебного решения. Гарантами пакта стали Англия и Италия.
Локарнские соглашения были в общем рациональным способом решения германской проблемы, затрагивавшей интересы всей Европы. Избранный для этого способ – франко-германское примирение было целью политики французского министра иностранных дел А. Бриана, справедливо считавшего такое примирение залогом европейской стабильности. На первой стадии переговоров, свидетельствуют архивные материалы Кэ д'Орсе, Бриан добивался гарантий границ и для восточных соседей Германии{570}. Он решился на локарнский вариант лишь после того, как его идея гарантий границ и на востоке Европы встретила упорное сопротивление Германии, нашедшей поддержку у Великобритании. Вся дипломатия Бриана послелокарнского периода свидетельствует о том, что он мало полагался на добрую волю Германии. Отсюда его стремление расширить гарантии безопасности своей страны заключением военно-политических союзов с малыми странами Восточной Европы, а позже и посредством соглашения с СССР.
В то же время Локарнские соглашения были ничем иным, как попыткой реализовать идею включения Германии в договорную систему Запада в противовес ее сближению с Советской Россией. Американская газета New York Times в передовой статье от 17 октября 1925 г. под названием «Москва и Локарно» выражала надежду, что следствием политической стабилизации в Западной Европе «явится политическая и моральная изоляция Советской России»{571}.
Все же Локарнские соглашения несколько разрядили напряженность в Европе, оказав определенный психологический и эмоциональный эффект на умонастроения европейцев. Многие европейцы оценивали достигнутые в Локарно соглашения как «высшую точку в возрождении Европы», как «водораздел между войной и миром» и как «великий акт умиротворения». Вдохновители и творцы Локарно – А. Бриан, О. Чемберлен и Г. Штреземан, министры иностранных дел Франции, Англии и Германии, были удостоены Нобелевской премии мира.
Достигнутыми в Локарно результатами были довольны далеко не все. Резко негативной была реакция Советского Союза. И не только потому, что он был отстранен от участия в конференции. Большие опасения вызывало у его руководства то, что Локарно давало в руки его западных капиталистических антагонистов инструмент нейтрализации советско-германского сближения. СССР рассчитывал на Германию как на такое средство, с помощью которого можно было бы взорвать изнутри мир капитализма, начиная с Европы. Академик Е.Л. Фейнберг вспоминал праздничные демонстрации в Москве 1920-х годов с лозунгом на транспарантах «Советский серп и немецкий молот объединят весь мир»{572}.
В стремлении как можно более затруднить болезненный переход буржуазной Европы от войны к миру советские руководители нашли понимание у Германии, которая не чувствовала себя освободившейся от ограничений Версаля. Германия постаралась рассеять советские опасения, что переговоры о Рейнском пакте и ее вступление в Лигу наций означают отступление от «политики Рапалло». В подтверждение верности советско-германскому сотрудничеству 12 октября 1925 г. были подписаны двусторонние торговый договор и консульская конвенция, а несколько ранее – соглашение о предоставлении Советскому Союзу краткосрочного кредита в размере 100 млн. марок для финансирования советских заказов в Германии.
Но советское руководство желало большего, в частности предотвращения вступления Германии в Лигу наций. В ходе секретных переговоров один за другим рождались по советской инициативе проекты межгосударственного политического соглашения с конкретными обязательствами сторон. На Западе, куда просочилась информация о подготовке советско-германского договора, он оценивался как «отход от основы Локарно».
В конце концов Советский Союз согласился на компромиссный (не столь далеко идущий, как ему этого хотелось) германский вариант договора о дружбе и нейтралитете, который был заключен в Берлине 24 апреля 1926 г. Стороны обязывались «и впредь поддерживать дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов политического и экономического свойства, касающихся совместно обеих сторон» (ст. 1). В случае если одна из договаривающихся сторон, «несмотря на миролюбивый образ действий», подвергнется нападению одной или группы держав, другая договаривающаяся сторона «будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта» (ст. 2). Еще в одной статье договора указывалось, что ни одна из договаривающихся сторон не будет примыкать к коалиции третьих держав с целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из договаривающихся сторон (ст. 3)[48]48
[Договор о ненападении и нейтралитете между СССР и Германией]. [24 апреля 1926 г.] // ДВП СССР. Т. 9. С. 250–252. Заголовок договора, взятый составителями тома в квадратные скобки, не соответствует его официальному названию «Договор о дружбе и нейтралитете». Преамбула договора ссылалась на интересы народов СССР и Германии, которые «требуют постоянного, основанного на полном доверии сотрудничества» и на взаимное согласие сторон «закрепить существующие между ними дружественные отношения».
[Закрыть].
К договору приложены ноты, в которых Германия взяла на себя обязательство «со всей энергией противодействовать» в Лиге наций стремлениям, которые «были бы односторонне направлены» против СССР{573}.
Линия Рапалло-Берлина предопределила долгосрочную ориентацию кремлевских руководителей на Германию, занимающую географически центральное положение на европейском континенте. С альтернативами ее международной ориентации – на Запад или на Восток. Геополитически Германия поистине была «вопросительным знаком Европы», порождая соревнование великих держав за то, чтобы вовлечь ее в ту или иную военно-политическую комбинацию. В период между двумя мировыми войнами, пожалуй, больше преуспел Советский Союз.
О долгосрочном характере ставки на Германию свидетельствует исход дискуссии в советских верхах, инициированный заместителем народного комиссара иностранных дел СССР М.М. Литвиновым в конце 1924 г. в связи с дипломатическим признанием Советского Союза Францией. Признание СССР всеми крупными европейскими державами (Франция была последней из них), считал он, поставило в порядок дня вопрос «об общей политической линии» новой, советской России{574}.
Пространная записка М.М. Литвинова, направленная им членам коллегии НКИД СССР и (в копии) членам Политбюро ЦК ВКП(б), состоит из шести пунктов. Начинались они с предложения пойти навстречу Франции, признав условия Версальского мирного договора 1919 г. в обмен на уступки, «вплоть до непредусмотренного соглашениями пересмотра наших отношений с лимитрофами, Польшей и Румынией». По мнению Литвинова, Франция могла побудить Польшу «к пересмотру рижского договора [1921 г.]», то есть к установлению польско-советской границы по «линии Керзона». В пункте о Прибалтике говорилось, что «в этом вопросе мы от Франции могли бы получить максимальную компенсацию» за признание Версаля. Что касается Румынии, то ею «Франция охотнее пожертвует, чем Польшей». Затрагивались и «восточные дела», сулившие, писал Литвинов, сотрудничество с Францией против Англии. Предлагалось также наладить контакты с Лигой наций, послав в Женеву своего наблюдателя.
Против этих предложений выступил уполномоченный НКИД СССР при СНК СССР, член коллегии НКИД В.Л. Копп (в дальнейшем полпред СССР в Японии, затем в Швеции), заявивший, что поддерживает идеи М.М. Литвинова в тактическом плане, но не в стратегическом. Главное, по его мнению, заключалось в том, чтобы предотвратить переход Германии на сторону западных стран. В заключение подчеркивалось: «Ничто не послужит в такой мере к ускорению перехода Германии в англо-американский лагерь, как наше сближение с Францией на базе Версаля. И ничто не в состоянии будет нанести германскому и французскому рабочему движению, которое ведь также является фактором нашей внешней политики, более сокрушительного и непоправимого удара»{575}.
М.М. Литвинов, настаивая на своем, ответил запиской «К политическим переговорам с Францией. По поводу замечаний т. Коппа». Во главу угла, писал он, «я ставлю изменение нынешнего положения в Прибалтике, и в этой области удовлетворение наших требований соответствует интересам Франции». И далее: «Хотим мы этого или нет, но мы вынуждены будем втянуться в общеевропейскую политику, и нам придется выбирать между двумя существующими тенденциями, а больше двух нет и не будет в ближайшее время. Германия еще не существует как самостоятельный активный фактор»{576}.
Позицию М.М. Литвинова поддержал нарком иностранных дел СССР Г.В. Чичерин, обратившийся с письмом к Сталину. Мы «стоим особняком» и должны продолжать стоять особняком, писал Чичерин. Но есть нечто, продолжал он, что мы можем сделать: «Мы можем содействовать сближению Франции с Германией, разряжению электрического напряжения на континенте, содействовать, одним словом, развитию континентальной системы, которою весьма интенсивно интересуется Де Монзи (французский сенатор. – В. Н.) и еще интенсивнее интересуется Кайо (французский политический и государственный деятель. – В. Н.). Это для нас весьма доступно, а такая работа была бы в высшей степени целесообразна»{577}.
Победили оппоненты Г.В. Чичерина и М.М. Литвинова. Дискуссия показала незыблемость стратегического выбора советского руководства – его ставку на Германию. Ставку двоякого рода. И на германский пролетариат, который по окончании Первой мировой войны рассматривался в качестве едва ли не основного носителя радикальной тенденции в международном рабочем движении. (За год до описываемой дискуссии в советских верхах по установке из Москвы Коммунистическая партия Германии попыталась осуществить захват власти через вооруженное восстание{578}.[49]49
По времени это совпало с нажимом на Веймарскую республику справа, с «пивным путчем» Гитлера – Людендорфа.
[Закрыть]) И ставку на Германию, как страну, пострадавшую в итоге мировой войны и, соответственно, готовую рано или поздно выступить против государств-победителей.
Одновременно дискуссия показала наличие непреходящего стремления советского руководства возвратить утраченные территории царской России, что, в конце концов, удалось с помощью советско-германского пакта о ненападении 1939 г., когда нацистская Германия признала сферой советских интересов прилегающие к Советскому Союзу с запада приграничные страны. И на что упорно отказывалась идти англо-французская сторона на переговорах в Москве весной-летом 1939 г. об организации сопротивления наступлению нацистской Германии.
Возвращаясь к вопросу об истоках советско-германского сотрудничества, следует отметить, что прежде всего обе страны. Советский Союз и Германию, объединило их общее ущербное международное положение после Первой мировой войны, разделившей Европу на страны-победители и страны-побежденные. Ленин, отмечая тяжесть обязательств Германии по Версальскому договору, предвидел, что в создавшихся условиях она «толкается на союз с Россией»{579}. Сталин пошел дальше, подчеркивая геополитическую составляющую их взаимного тяготения. Летом 1940 г. (кстати, после капитуляции Франции), принимая английского посла С. Криппса, он заявил, что стремление «изменить старое равновесие сил в Европе, которое действовало против СССР… послужило базой для сближения СССР с Германией»{580}. В меморандуме об этой беседе, врученном по указанию Сталина германскому послу в Москве Ф. Шуленбургу, говорилось, что Советский Союз «предпримет все меры для того чтобы предотвратить восстановление прежнего баланса сил в Европе»{581}. Чем не аргумент за концепцию происхождения Второй мировой войны как продолжения первой, которой придерживаются некоторые зарубежные историки?!
С установлением нацистского режима в Германии ее единение с Советским Союзом в неприятии западных либерально-демократических ценностей могло лишь усилиться – по неписанному закону общности идеократических государств, жестко пресекающих любые проявления инакомыслия.
Провозглашенный Гитлером поход против большевизма (не без расчета на нейтрализацию западных стран) привел к быстрому ухудшению двусторонних отношений. Сталин, однако, не терял надежды на то, что рано или поздно ему удастся найти общий язык с Гитлером. Согласие последнего в мае 1933 г., после почти двухлетних проволочек, на продление Берлинского договора 1926 г. Москва вполне могла оценить как некий позитивный сигнал. Правительственная газета «Известия» в передовой статье, приветствуя продление Берлинского договора, в завершение писала: «Дружественные отношения вызывают дружественный ответ, враждебные действия вызывают соответствующий отпор»{582}.
На очередном партийном съезде в январе 1934 г. Сталин в откровенной форме призвал Гитлера вернуться к прежним партнерским советско-германским отношениям.
Говоря о причинах «перелома» в отношениях с Францией (и с Польшей), он связал это с «некоторыми (всего лишь! – В. Н.) изменениями в политике Германии, отражающими рост реваншистских и империалистических настроений в Германии»{583}. Что, как следовало из его дальнейших рассуждений, не имело решающего значения. На готовность урегулировать отношения с Германией, не ожидая от последней принципиального пересмотра ее политики, указывали слова Сталина о том, что «дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной… Нет, не в этом дело. Дело в изменении политики Германии»{584}. С советской стороны, давал он знать на съезде, нет препятствий к восстановлению прежних, доверительных отношений – возврату к практике, «получившей отражение в известных договорах СССР с Германией»{585}. К временам, когда с высокой трибуны говорилось о наших «наиболее дружественных отношениях с Германией» (М.М. Литвинов){586}.
Отбросил Сталин как несостоятельные объяснения ухудшения советско-германских отношений изменением критического подхода Советского Союза к Версальскому миру и сближением с Францией. Последовал вывод: «Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР. (Бурные аплодисменты.) И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, не заинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний»{587}.
Почти то же самое Сталин скажет спустя пять лет на XVIII партийном съезде в марте 1939 г., излагая принципы внешней политики Советского Союза: «Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми странами… поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны.., не попытаются нарушить прямо или косвенно интересы целости и неприкосновенности границ Советского государства»{588}. Эти слова были расценены как приглашение нацистской Германии, уже приступившей к завоеваниям в Европе, к переговорам на предмет урегулирования двусторонних отношений. Тем более что им предшествовало заявление Сталина о том, что для советско-германского конфликта нет «видимых на то оснований»{589}.
В пропагандистской войне против Запада советская сторона была не прочь козырнуть номинально сохранявшими свою силу бессрочными Рапалльским и Берлинским договорами с Германией{590}.[50]50
Статья была написана по указанию Сталина заместителем народного комиссара иностранных дел СССР в 1937–1940 гг. В.П. Потемкиным, прикрывшимся псевдонимом.
[Закрыть] Не ограничиваясь на переговорах с И. Риббентропом в Москве в сентябре 1939 г. заявлением о том, что «основным элементом советской внешней политики всегда было убеждение в возможности сотрудничества между Германией и Советским Союзом»{591},[51]51
Цитируется по немецкой записи переговоров Сталина и Молотова с Риббентропом, завершившихся подписанием Договора о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. и двух секретных дополнительных протоколов.
[Закрыть] Сталин подчеркнул: «Советское правительство в своей исторической концепции никогда не исключало возможности добрых отношений с Германией»{592}.
Западноевропейские лидеры, еще за несколько лет до заключения советско-германского пакта, считались с возможностью сближения СССР с Германией, несмотря на острое идейно-политическое противостояние между ними.
Вот один из многих примеров.
В марте 1935 г. Сталин получил очередное разведывательное сообщение, которым придавал первостепенное значение. Сообщение было основано на документах МИД Франции, составленных в связи с миссией в Париж министра иностранных дел Англии А. Идена. На нем пометы: «Важно (правдоподобно)» и «Мой архив»{593}.
Приведем ту часть агентурного сообщения, которую подчеркиванием выделил из всего документа Сталин:
«По мнению министра иностранных дел Франции П. Лаваля, совершенно ошибочно рассматривать СССР и гитлеровскую Германию, как держащих друг друга в страхе, разрешая таким образом западным державам мирно извлекать пользу из этой враждебности. Германо-советская враждебность вовсе не является неизменным фактором международной политики, на котором можно было бы базировать политику на длительный срок. Похоже даже на то, что в этой враждебности есть известный расчет, и что Германия пытается вовлечь Францию в торг, при котором СССР был бы предоставлен Германии. Добившись от Франции свободных рук в отношении СССР. Германия смогла бы очень хорошо сговориться с СССР к невыгоде Франции»{594}.
Как можно судить из сталинского «правдоподобно», это мнение Лаваля, опасавшегося советско-германского сближения в обозримом будущем, нисколько не удивило Сталина – человека, не видевшего в нацизме препятствия для возврата СССР и Германии к сотрудничеству времен Рапалльского и Берлинского договоров. С возрастанием напряженности в Европе подобного рода опасения (как у П. Лаваля) на Западе лишь умножились.
Показательно, что советская сторона в этой «игре» на нервах не гасила, а скорее поддерживала спекуляции на тему неопределенности своего будущего выбора. Классическим примером представляется в этом плане перепечатка статьи из английской прессы, появившаяся в «Правде» в самом конце января 1939 г. «Чрезвычайно неблагоразумно предполагать», говорилось в заключение этой статьи, «что существующие разногласия между Москвой и Берлином обязательно останутся неизменным фактором международной политики» (подробнее об этой перепечатке уже говорилось в главе 3).
У Буллит, посол США в Советском Союзе в 1933–1936 гг., продолживший дипломатическую карьеру посла во Франции, склонялся к тому, что подобного рода публикации верно отражают советские намерения войти в соглашение с Германией. 22 августа 1939 г., в день, когда было объявлено о предстоящей поездке И. Риббентропа в Москву для подписания советско-германского пакта о ненападении, Буллит писал государственному секретарю США К. Хэллу в Вашингтон о том, что начиная с января 1939 г. по меньшей мере шесть раз он предупреждал премьер-министра Франции Э. Даладье о ведущихся между Германией и СССР «самых серьезных переговорах»{595}.
Завязавшиеся в марте-апреле 1939 г. переговоры СССР с Англией и Францией, по инициативе последних, о совместном противодействии агрессии в Европе сопровождались подозрениями обеих сторон, и советской, и западной, что другая сторона на переговорах может пойти на сделку с Германией. Так, в начале мая 1939 г. У. Буллит писал из Парижа К. Хэллу об опасении руководства министерства иностранных дел Франции, что «русские могут снова попытаться, как они уже пытались сделать это, прийти к соглашению с Гитлером»{596}.
Сталинское руководство крепко уверовало в решающую роль в европейской и даже мировой политике советско-германского согласия. В послевоенный период, в условиях Холодной войны, сталинское руководство, видимо, не прочь было попытаться вновь разыграть германскую карту в геополитической игре на континенте, противопоставляя Германию странам Запада. При создании Германской Демократической Республики в октябре 1949 г. Сталин вспомнил о довоенных советских намерениях в отношении Германии, назвав образование ГДР «поворотным пунктом в истории Европы»{597}. Повторив еще более завышенную, но оправдавшую себя оценку, которую дал В.М. Молотов советско-германскому пакту 1939 г. при его ратификации – как «поворотному пункту в истории Европы, да и не только Европы»{598}. Да, с 23 августа 1939 г. – за один день! – миру предстояло стать другим: начавшаяся вскоре война в Европе распространилась далеко за ее пределы с длительными устойчивыми последствиями.
Проведение прогерманской политики стало возможным благодаря тому, что мировоззренчески сталинское руководство представляло из себя монолитную группу коммунистов– единомышленников, члены которой к тому же оказались связанными круговой порукой в результате Большого террора 1937–38 годов. Хорошо известно, что решение подписать пакт о ненападении с Гитлером принималось Сталиным при активной поддержке В.М. Молотова, чья подпись значится под пактом. И нет абсолютно никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что кто-либо из сталинского окружения был против. Не считая, конечно, М.М. Литвинова, которого никак нельзя причислить к ближайшему сталинскому кругу.
В фонде секретариата В.М. Молотова, хранящегося в Архиве внешней политики Российской Федерации{599}, на подлинниках записей его бесед с германским послом Ф. Шуленбургом значатся лица, которым рассылались копии этих документов. Помимо Сталина, их получали члены Политбюро ЦК К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, Л.М. Каганович, оказавшиеся, в известной мере, причастными к советско-германской сделке в силу занимаемых ими должностей наркомов обороны (Ворошилов), внешней торговли (Микоян), оборонной промышленности (Каганович).
Однако, судя по материалам бывшего партийного архива ЦК КПСС, ныне Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), значительную роль в делах, связанных с советско-германским пактом, сыграл А.А. Жданов, в то время один из самых близких к Сталину лиц в советском руководстве. В марте 1939 г., после XVIII съезда ВКП(б), Жданов становится полноправным членом Политбюро ЦК, уже будучи членом Оргбюро ЦК и секретарем ЦК и одновременно руководя ленинградской областной и городской партийными организациями. Тогда же он возглавил знаменитый Агитпроп ЦК – Управление по пропаганде и агитации, реорганизованное по решению съезда с целью «иметь мощный аппарат пропаганды и агитации, .. сосредотачивающий всю работу по печатной и устной пропаганде и агитации»{600}. А в последующие два года (1940–1941) осуществлял над ним «общее наблюдение и руководство». Выступая на съезде с докладом об изменениях в партийном уставе, Жданов заявил, что Агитпроп будет одним из двух, наряду с Управлением кадров, основных отделов ЦК ВКП(б){601}. Другие его официальные посты: член Президиума Верховного Совета СССР и председатель Комиссии по иностранным дела Совета Союза Верховного Совета СССР.