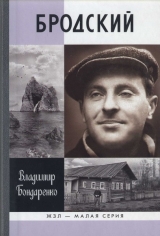
Текст книги "Бродский: Русский поэт"
Автор книги: Владимир Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Но Шахматов предполагал, а летчик располагал. „Ребята, – подойдя к самолету, загундел щуплый пилот, – дело уже к вечеру, а фиг я найду в Термезе пассажиров! Не полечу! Или полечу, но только если вы оплатите обратный рейс!“ Пока летчик вымогал у пассажиров денежку, Шахматов пытался выяснить, полностью ли заправлен самолет. Это было практически невозможно: если бы это был Як-12, количество горючего можно было определить по мерникам, но Шахматов совершенно не знал самолет „Супер-45“ и его системы (иначе он бы давно взлетел сам, не дожидаясь пилота)… В то героическое время в приграничных зонах самолетные баки никогда не заполняли горючим „под завязку“ – именно по причине близости границы. Чтобы у пилота не возникло непреодолимое искушение рвануть из советского рая… Словом, горючего у пилота действительно не было. И он требовал оплатить рейс до Термеза и обратно. А у Бродского с Шахматовым на двоих был один рубль. Так думает Шахматов. На самом деле, как пишет Бродский, этот рубль он потратил еще до посадки в самолет, купив на все деньги, то бишь на рубль, орехи. Видимо, чтобы питаться по дороге к Кабулу…»
Так что весь этот персидский план, по мнению Олега Шахматова, к счастью, не состоялся из-за нехватки денежек у несостоявшихся персидских паломников.
Анатолий Найман рассказывает свою версию побега: «Дело в том, что Бродский в возрасте, не могу сказать, в каком точно, может быть 20–21 год, познакомился и попал под короткое влияние такого человека по фамилии Уманский, который был философ, молодой такой философ, не числившийся нигде, а, скорее, то, что называемый уличный философ, который написал работу философскую то ли о солипсизме и монизме, в общем, такая у него была работа. И он хотел передать это на Запад. И Бродский немедленно, как любитель всяких таких авантюрных ситуаций, вызвался помочь. И они узнали о приезде в Ленинград американца, который впоследствии был адвокатом, если я не ошибаюсь, Освальда. Фамилия его была Белли, я точно не помню. Они пришли к нему в номер гостиницы, опять-таки, мне кажется, это была „Европейская“ гостиница, и пытались ему это отдать. Тот, проинструктированный Государственным департаментом, счел их за провокаторов и отказался это принимать и уехал; поскольку он был туристом, он уехал в Самарканд, тогда линии были заранее наметанные. Он уехал в Самарканд… Потом я не очень знаю, там поджидал некто Шахматов. Он был пилот, военный пилот. Но у него как-то не заладилось в армии, он был уволен из армии, и какое-то было у него прошлое туманное, неразборчивое. И потерпев второе поражение, даже не встретившись с этим адвокатом, они решили угонять самолет. Как-то так уже договорились, что они все это сделают. Бродский пишет об этом и в интервью говорил о том, что он представил себе, как это сделать. Есть даже фотография какая-то Бродского возле маленького самолетика. Он представил себе все это в реальности и отказался от этого дела. В Ленинграде их „повязали“. Я не могу сказать точно последовательность. Я повторяю то, что я однажды уже говорил и даже писал. Они приехали в Ленинград, их всех арестовали. Тогда был месячник или полгода социалистической законности, поэтому нельзя было бесконечно держать. Не помню, сколько его продержали, две недели, три дня, не очень хорошо помню. Но то, что говорил следователю Бродский, те говорили, что следователь спрашивал, те отвечали прямо на вопрос, Бродский же, поскольку он был фигурой, как теперь более или менее миру известно, неординарной, он говорил нечто, что сбивало совершенно весь план следствия с толку, и поэтому его из этого дела выбросили. Кажется, его вызывали как свидетеля, но свели его участие до минимума тогда, и они его выбросили из этого дела».
А вот как эта история звучит в найденной историком Ольгой Эдельман справке прокурора Отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Шарутина и заместителя начальника отделения Следственного отдела КГБ при Совете министров СССР Цветкова, где анализируется другая справка по делу Бродского, составленная ленинградским кагэбэшником Волковым: «В справке указано о знакомстве Бродского с осужденными за антисоветскую агитацию Шахматовым и Уманским, вместе с которыми он вынашивал мысль об измене Родине… Шахматов и Уманский 25-го мая 1962-го года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый… Участие же Бродского по этому делу выразилось в следующем: С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957-го года в редакции газеты „Смена“ в г. Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским и вместе с Шахматовым посещали его. После осуждения Шахматова в 1960-м году за хулиганство последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал его приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде. В конце декабря 1960-го года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись „Господин президент“ и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали. Установлено также и то, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора – не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград…»
Вернувшись домой, Иосиф постарался забыть про персидскую авантюру. Но Шахматова с оружием где-то через год задержали, и он, непонятно зачем, заодно рассказал чекистам всю историю с неудавшимся побегом. Заодно поведал и об антисоветских сочинениях Уманского, решив вместо уголовника стать политическим заключенным. Ради этого и предал своих товарищей, что ему Бродский уже до конца жизни не простил. Иосифу тогда повезло: кроме показаний Шахматова, других свидетельств его причастности к заговору не оказалось. Как считают, активно посодействовала нейтрализации дела о побеге и мама Иосифа Мария Моисеевна, работавшая в бухгалтерии ленинградского «Большого дома». Ход делу о неудавшемся побеге в Персию дан не был. Но папка с документами на Иосифа Бродского с тех пор пополнялась. Рано или поздно это должно было кончиться судебным процессом. Интересно, что позже Бродский написал рассказ о неудавшемся персидском полете, но этот рассказ был изъят ленинградской милицией и до сих пор хранится где-то в архивах МВД. Может, еще удастся его отыскать?
Меня в этой персидской истории интересует еще одна вечная загадка России. Я понимаю стремление молодого бунтаря бежать на Запад, его неприятие существующего режима, но почему, подобно Бразинскасам, он решил лететь не в насквозь проамериканизированную Турцию, не в Японию, не в Швецию? Почему из Питера вырываться на Запад надо через древнюю Персию? Иными словами, почему русских поэтов веками притягивал и притягивает Восток? Почему Бродский превращается в некое подобие лермонтовского Печорина, рвущегося в Персию? Конечно, Печорин – это придуманный герой: даже описывая сам себя, Лермонтов в чем-то преувеличил достоинства своего героя, в чем-то максимально принизил его. Он выдавал мечты за действительность, он безжалостно бичевал сам себя. Вот его Печорин и в Персию едет, и погибает по дороге обратно, как бы реализовывая все тайные мечты самого автора. Значит, Персия была и тайной мечтой Иосифа Бродского? И он сам был подобен своей «персидской стреле»?
В Персию мечтал попасть и сам Лермонтов, который писал Сергею Раевскому: «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч.». Мечтал о Персии и его друг, поэт-декабрист Александр Одоевский, который в 1835 году сожалел о несбывшемся «проекте отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым». Еще один русский поэт, Дмитрий Веневитинов, писал брату в период русско-персидской войны: «Молю Бога, чтобы поскорее был мир с Персией, хочу отправиться туда при первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями». И уже незадолго до смерти в 1827 году мечтательно планировал: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения». Вот и Печорин утолил свою тягу к Востоку, реализуя в романе несбывшуюся мечту самого Лермонтова уехать от всей постылой казарменной николаевщины в неведомую Персию. А там уж можно на обратном пути где-нибудь и умереть по дороге. Вспомним и «Персидские мотивы» Сергея Есенина: «Ты сказала, что Саади / целовал лишь только в грудь. / Подожди ты, Бога ради,/ обучусь когда-нибудь». Вот и Иосиф Бродский взял себе в учителя все того же перса Саади. Вспомним и сбывшееся путешествие в Персию Велимира Хлебникова в годы Гражданской войны. О Персии писал и Николай Гумилев, так схожий своей непримиримостью с Бродским. Персия мелькает в стихах всех ведущих поэтов Серебряного века. Что нас всех, русских литераторов, притягивает к этой древнейшей цивилизации? Что бы ни говорили ныне умудренные бродсковеды, но я сам жил в те же 1960-е и думаю, что любые потенциальные беглецы из Советского Союза, замышляя самые фантастические планы побега, все-таки смотрели на запад, на юго-запад, но никак не на Персию. Это уже на социальное неприятие Бродским нашей системы наложилось его поэтическое восприятие мира. Бежать, так уж с томиком Саади в Персию!
Позже он бы и сам с радостью позабыл эту авантюру с булыжником в кармане, никто бы и не узнал. Хвастаться по большому счету нечем: чуть не убил невинного человека. Но предательство Олега Шахматова сделало эту авантюру общеизвестной. Самому Шахматову от его доносов лишь увеличили срок, но по его доносу такой же срок (пять лет) дали и Уманскому: вот уж кто ненавидел своего бывшего приятеля до конца дней своих. Так что Бродскому, можно сказать, повезло: нашлись заступники, до суда дело не довели. Но, как пишет Анатолий Найман: «КГБ, во всяком случае Ленинградский КГБ, не та организация, которая выпускает людей и забывает о них. И поэтому он становился более заметным. Хотя не надо сейчас преувеличивать эту заметность его в то время. Осуждение за тунеядство тогда было общепринятым таким. Едва человек был как-то, не очень он вписывался, его за тунеядство отправляли. Между прочим, тунеядство, понятно, расширительная такая вещь, но всякий творческий работник, он действительно с социальной точки зрения тунеядец. Одним словом, они решили его списать по тунеядству. Ну, там какой-то такой мальчишка-еврей, картавящий, которого щелкнуть ногтем – и нет его».
Уже давно ведутся дискуссии: состоялось бы дело о тунеядстве 1964 года, если бы не та персидская авантюра? Друг Бродского Яков Гордин считает, что роль этого неудавшегося побега в судьбе поэта преувеличена. Без всяких Персий, при явной чуждости его поэзии господствующей системе, рано или поздно тот или иной суд состоялся бы. Косте Азадовскому приписали наркотики, кому-то срок давали за бытовую драку и т. д. Алика Гинзбурга посадили якобы за подделку документов. Гордин пишет: «Активность КГБ спровоцировал именно стиль поведения Бродского в последующее после задержания время. Кто тогда не писал „упаднических“ стихов? Очень многие. Большинство молодых поэтов. Дело было не в антисоветскости стихов Бродского, дело в том, что они были чужие. А своей талантливостью и интенсивностью они разрушали те культурно-психологические стереотипы, на страже которых стояли руководство Союза писателей и соответствующий отдел КГБ. „Деспотизм“ прекрасно оценил стихи Бродского. Недаром на суде речь шла преимущественно об их пагубном влиянии на молодежь. Бродского репрессировали как поэта, а не как потенциального беглеца за рубеж. Свести же дело к самаркандскому эпизоду, игнорируя все последующее, – значит недопустимо упростить и банализировать суть драмы 1964 года».
Я мог бы согласиться с версией уважаемого мной Якова Аркадьевича, одного из немногих до конца верных друзей поэта, но нельзя не учитывать и человеческий, и даже ленинградский фактор. В Ленинграде Иосифа Бродского с неизбежностью ждали бы суд и приговор. Но в той же Москве не менее дерзкие и независимые «смогисты», и тунеядствующие, и бунтующие, так никакого суда и не дождались. В Москве, чтобы быть осужденным, смогисту Галанскову надо было выйти на Пушкинскую площадь с политическими лозунгами. Американский приятель Бродского, совладелец ресторана «Русский самовар» Роман Каплан, названный в том же «Вечернем Ленинграде» если не трутнем, то «навозной мухой», сообразил вовремя смыться из сурового Ленинграда и спокойненько осесть в более добродушной Москве. Благополучно переехали в столицу и Андрей Битов, и Евгений Рейн. Вполне допускаю, что в Москве без персидских авантюр Иосифа Бродского никто бы и не посадил. Другая была бы поэтическая судьба. Думаю, и в двадцатые годы в Москве бы Николая Гумилева не расстреляли. Хотя и приехал Яков Саулович Агранов из Москвы, но именно в Питере он мог позволить себе так вызывающе расстрелять великого русского поэта. В чем-то необычностью судеб они схожи: Николай Гумилев и Иосиф Бродский. И абсурдностью приговора, которым вряд ли гордятся ленинградские чекисты что двадцатых, что шестидесятых годов.
Персидский след придает этому абсурду какую-то конспирологичность. Думаю, что и сам Иосиф Бродский охотно романтизировал свой процесс 1964 года. Конечно, поэту интереснее быть не мелким тунеядцем, а неудавшимся угонщиком самолета и беглецом в загадочную Персию.
СУД НАД ТУНЕЯДЦЕМ
Я согласен с Яковом Гординым, что и без попытки побега в Персию рано или поздно советская репрессивная система дотянулась бы до Бродского. Очень уж он не вписывался в привычные стереотипы поведения. И все-таки этот неудавшийся побег ускорил вялотекущий процесс слежки за инакомыслящим. Тем более что и бывший приятель Иосифа Олег Шахматов сдал его на следствии по полной программе, сам отправившись в лагеря на целых пять лет. На суде в 1964 году над тунеядцем Бродским ему припомнили дружбу с Шахматовым. А перед этим натравили на поэта псевдодружинников Якова Лернера.
Чем так возмутил молодой поэт ленинградских блюстителей порядка? Неужто и впрямь тем, что работать предпочитал в летних геологических экспедициях, а все остальное время занимался творчеством? Кто бывал в экспедициях, знает, как много приходится трудиться подсобным рабочим. Думаю, к абсурдному обвинению в тунеядстве ленинградские власти обратились за неимением чего-то более серьезного. Никакого антисоветского негатива в стихах Иосифа Бродского не обнаружили, политикой молодой поэт не занимался. Между тем влияние его поэзии на молодежь стало резко увеличиваться. Его стихи уже широко распространялись не только в литературных кругах, но и в самой широкой аудитории. У меня до сих пор хранятся напечатанные на машинке стихи Иосифа Бродского 1960-х годов «Пилигримы», «Каждый пред Богом наг…», «Приходит время сожалений…», «Шествие», «Рождественский романс».
В 1960 году на «Турнире поэтов» во Дворце культуры имени А. М. Горького Бродский прочитал «Еврейское кладбище». Не самое лучшее даже из ранних его стихов, явно написанное под влиянием Бориса Слуцкого. Прочитанное на «Турнире поэтов», к примеру, не Бродским, а кем-то другим, оно не было бы никем замечено. Не было в этом стихотворении и пафосного педалирования еврейской темы, скорее, звучала печальная ирония.
…И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
И вдруг разгорелся невиданный скандал. Антисоветскими были не стихи поэта – несоветскими были его поведение, его свобода высказываний, свобода держать себя, искусство говорить свободно. К тому же, отвечая оппонентам, Иосиф Бродский прочитал еще с вызовом и бунтарством свое:
Каждый пред Богом
наг,
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность – удел
быков…
<…>
Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!
…Словно быкам —
хлыст,
Вечен богам
крест.
Для того времени и в той атмосфере это было чуть ли не восстание декабристов. А предъявить юридически как бы и нечего. Вот и стали собирать досье на тунеядца. Яков Гордин рассказывает: «Он никогда не стремился к духовному вождизму, но возможности и место свое понял достаточно рано. А мясорубка шестьдесят третьего – шестьдесят четвертого годов это осознание своей особости еще более прояснила и утвердила в нем достаточно редкое ощущение – „право имею“.
13 июня 1965 года он писал мне из ссылки: „Я собираюсь сейчас устроить тебе маленькую Ясную Поляну; мое положение если не обязывает к этому, то позволяет. Точнее: мое расположение, географическое… Смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все что угодно. (Речь, естественно, шла о писании стихов, а не о бытовом поведении. – Я. Г.) Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если ты весел – тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь – это твоя жизнь. Ничьи – пусть самые высокие – правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае они похожи на твои. Будь независим. Независимость – лучшее качество, лучшее слово на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово) – это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты: а то приходится сводить фиг знает с кем“…
С самого начала – жажда независимости как сквозного жизненного принципа явственно обособляла Бродского. И этот буквально излучаемый им экзистенциальный нонконформизм привлекал к нему, к его стихам, к его жизни молодых людей. Его стихи ходили в списках. На них писали музыку. Он стал очень известен. Но – и я настаиваю на этом – для того чтобы понять происшедшее в шестьдесят четвертом году, нужно представлять себе Иосифа Бродского как явление…»
По сути, его и судили в 1964 году не за антисоветизм, а за независимость поведения, за творческую автономию личности. Он и в компании «ахматовских сирот» выделялся все той же творческой независимостью, отмеченной самой Ахматовой. К тому же и атмосфера в Ленинграде была гораздо более подневольная, чем в Москве. Питерские начальники и идеологи не допускали ничего, подобного тем же московским «смогистам». Вот и выбрана была цель – самая крупная по возможному влиянию, не Битов, не Рейн, не Соснора, а Бродский.
И потому Яков Аркадьевич Гордин считает, что: «Бродский мог познакомиться с Шахматовым и Уманским, мог не познакомиться, это не изменило бы ход событий, поскольку он, Бродский, по сути дела, сам этот ход событий и направлял, определяя его единственно для него возможным способом существование в культуре. И когда говорят, что Дзержинский районный суд осудил невиновного, то с этим трудно согласиться. Перед ними он был виноват…»
Натравили на поэта мелкого мошенника Якова Лернера с его «народной дружиной». И вот 29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появился фельетон «Окололитературный трутень», который уже не раз перепечатывался, но все же хочется представить его читателям полностью.
«Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках – неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы. Приятели звали его запросто – Осей. В иных местах его величали полным именем – Иосиф Бродский.
Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающихся во Дворце культуры имени Первой пятилетки. Но стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пишущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично.
С чем же хотел прийти этот самоуверенный юнец в литературу? На его счету был десяток-другой стихотворений, переписанных в тоненькую школьную тетрадку, и все эти стихотворения свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно. „Кладбище“, „Умру, умру…“ – по одним лишь этим названиям можно судить о своеобразном уклоне в творчестве Бродского. Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели убогие подражательские попытки Бродского. Впрочем, что-либо самостоятельное сотворить он не мог: силенок не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие могут быть знания у недоучки, у человека, не окончившего даже среднюю школу?
Вот как высокопарно возвещает Иосиф Бродский о сотворенной им поэме-мистерии:
„Идея поэмы – идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она гимн баналу. Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более, как менее условных персонажей. Формулировки облечены в форму романсов“.
Кстати, провинциальные приказчики тоже обожали романсы. И исполняли их с особым надрывом, под гитару.
А вот так называемые желания Бродского:
От простудного продувания
Я укрыться хочу в книжный шкаф.
Вот требования, которые он предъявляет:
Накормите голодное ухо
Хоть сухариком…
Вот его откровенно-циничные признания:
Я жую всеобщую нелепость
И живу единым этим хлебом.
А вот отрывок из так называемой мистерии:
Я шел по переулку,
Как ножницы – шаги.
Вышагиваю я
Средь бела дня
По перекрестку,
Как по бумаге
Шагает некто
Наоборот – во мраке.
И это именуется романсом? Да это же абракадабра!
Уйдя из литературного объединения, став кустарем-одиночкой, Бродский начал прилагать все усилия, чтобы завоевать популярность у молодежи. Он стремится к публичным выступлениям, и от случая к случаю ему удается проникнуть на трибуну. Несколько раз Бродский читал свои стихи в общежитии Ленинградского университета, в библиотеке имени Маяковского, во Дворце культуры имени Ленсовета. Настоящие любители поэзии отвергали его романсы и стансы. Но нашлась кучка эстетствующих юнцов и девиц, которым всегда подавай что-нибудь „остренькое“, „пикантное“. Они подняли восторженный визг по поводу стихов Иосифа Бродского…
Кто же составлял и составляет окружение Бродского, кто поддерживает его своими восторженными „ахами“ и „охами“?
Марианна Волнянская, 1944 года рождения, ради богемной жизни оставившая в одиночестве мать-пенсионерку, которая глубоко переживает это; приятельница Волнянской – Нежданова, проповедница учения йогов и всяческой мистики; Владимир Швейгольц, физиономию которого не раз можно было обозревать на сатирических плакатах, выпускаемых народными дружинами (этот Швейгольц не гнушается обирать бесстыдно мать, требуя, чтобы она давала ему из своей небольшой зарплаты деньги на карманные расходы); уголовник Анатолий Гейхман; бездельник Ефим Славинский, предпочитающий пару месяцев околачиваться в различных экспедициях, а остальное время вообще нигде не работать, вертеться возле иностранцев. Среди ближайших друзей Бродского – жалкая окололитературная личность Владимир Герасимов и скупщик иностранного барахла Шилинский, более известный под именем Жоры.
Эта группка не только расточает Бродскому похвалы, но и пытается распространять образцы его творчества среди молодежи. Некий Леонид Аронзон перепечатывает их на своей пишущей машинке, а Григорий Ковалев, Валентина Бабушкина и В. Широков, по кличке „Граф“, подсовывают стишки желающим.
Как видите, Иосиф Бродский не очень разборчив в своих знакомствах. Ему не важно, каким путем вскарабкаться на Парнас, только бы вскарабкаться. Ведь он причислил себя к сонму „избранных“. Он счел себя не просто поэтом, а „поэтом всех поэтов“. Некогда Игорь Северянин произнес: „Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен: я повсеградно оэкранен, и повсесердно утвержден!“ Но сделал он это в сущности ради бравады. Иосиф Бродский же уверяет всерьез, что и он „повсесердно утвержден“.
О том, какого мнения Бродский о самом себе, свидетельствует, в частности, такой факт. 14 февраля 1960 года во Дворце культуры имени Горького состоялся вечер молодых поэтов. Читал на этом вечере свои замогильные стихи и Иосиф Бродский. Кто-то, давая настоящую оценку его творчеству, крикнул из зала: „Это не поэзия, а чепуха!“ Бродский самонадеянно ответил: „Что позволено Юпитеру, не позволено быку“.
Не правда ли, какая наглость? Лягушка возомнила себя Юпитером и пыжится изо всех сил. К сожалению, никто на этом вечере, в том числе и председательствующая – поэтесса Н. Грудинина, не дал зарвавшемуся наглецу надлежащего отпора. Но мы еще не сказали главного. Литературные упражнения Бродского вовсе не ограничивались словесным жонглированием. Тарабарщина, кладбищенско-похоронная тематика – это только часть „невинных“ увлечений Бродского. Есть у него стансы и поэмы, в которых авторское „кредо“ отражено более ярко. „Мы – пыль мироздания“, – авторитетно заявляет он в стихотворении „Самоанализ в августе“. В другом, посвященном Нонне С., он пишет: „Настройте, Нонна, и меня иа этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки“. И наконец еще одно заявление: „Люблю я родину чужую“.
Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся иа Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он „любит родину чужую“, Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине.
Однажды по приглашению своего дружка О. Шахматова, ныне осужденного за уголовное преступление, Бродский спешно выехал в Самарканд. Вместе с тощей тетрадкой своих стихов он захватил „философский трактат“ некоего А. Уманского. Суть этого „трактата“ состояла в том, что молодежь не должна-де стеснять себя долгом перед родителями, перед обществом, перед государством, поскольку это сковывает свободу личности. „В мире есть люди черной кости и белой. Так что к одним (к черным) надо относиться отрицательно, а к другим (к белым) положительно“, – поучал этот вконец разложившийся человек, позаимствовавший свои мыслишки из идеологического арсенала матерых фашистов.
Перед нами лежат протоколы допросов Шахматова. На следствии Шахматов показал, что в гостанице „Самарканд“ он и Бродский встретились с иностранцем. Американец Мелвин Бейл пригласил их к себе в номер. Состоялся разговор.
– У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, – сказал Бродский американцу. – Не хотите ли ознакомиться?
– С удовольствием сделаю это, – ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: – Идет, мы издадим ее у себя. Как прикажете подписать?
– Только не именем автора.
– Хорошо. Мы подпишем по-нашему: Джон Смит.
Правда, в последний момент Бродский и Шахматов струсили. „Философский трактат“ остался в кармане у Бродского.
Там же, в Самарканде, Бродский пытался осуществить свой план измены Родине. Вместе с Шахматовым он ходил на аэродром, чтобы захватить самолет и улететь на нем за границу. Они даже облюбовали один самолет, но, определив, что бензина в баках для полета за границу не хватит, решили выждать более удобного случая.
Таково неприглядное лицо этого человека, который, оказывается, не только пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией, но и вынашивает планы предательства.
Но, учитывая, что Бродский еще молод, ему многое прощали. С ним вели большую воспитательную работу. Вместе с тем его не раз строго предупреждали об ответственности за антиобщественную деятельность.
Бродский не сделал нужных выводов. Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно-полезным трудом. Живет он случайными заработками; в крайнем случае подкинет толику денег отец – внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы за ум, начать наконец работать, перестать быть трутнем у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем.
Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде.
Какой вывод напрашивается из всего сказанного? Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!
А. Ионин, Я. Лернер, М. Медведев».
Авторы пасквиля переврали всё, что могли, приписали Бродскому стихи Дмитрия Бобышева, досочинили, соединив строки из разных стихов, «антипатриотическую» строчку «Люблю я родину чужую», хотя и сама по себе любовь к чужой родине не исключает любви к своей. К тому же, вырывая фразы из контекста, можно любого нашего классика обвинить в русофобии. Все обвинения предельно нелепы – даже неловко за такой низкий уровень наших правоохранительных органов…
Поэт написал опровержение, но оно оказалось никому не нужно. Операция уже была запланирована чуть ли не самим первым секретарем обкома партии Толстиковым. Что же, Анна Ахматова оказалась права: молодому поэту мгновенно создали мировую славу. Клеветники сами не понимали, что они делают. 8 января 1964 года в той же газете «Вечерний Ленинград» опубликовали еще одну статью «Тунеядцам не место в нашем городе», грозно заканчивающуюся: «Никакие попытки уйти от суда общественности не помогут Бродскому и его защитникам. Наша замечательная молодежь говорит им: хватит! Довольно Бродскому быть трутнем, живущим за счет общества. Пусть берется за дело. А не хочет работать – пусть пеняет на себя». Вообще-то среди поэтов такого труженика, как Иосиф Бродский, найти было трудно. Надо сказать, что и в органах этим процессом особо не гордились, так грубо и аляповато всё было сработано. Тем более что этот позор вскоре был вынесен и на мировую арену.
Друзья пытались спасти поэта, отправили его в Москву, даже поместили на время в психбольницу, но на беду в это же время стала разворачиваться любовная интрига между Бобышевым и Мариной Басмановой, и Бродский, наплевав на все возможные аресты, помчался спасать свою любовь. 13 февраля вечером его арестовали и доставили в Дзержинское районное управление милиции. 18 февраля 1964 года начался уже исторический судебный процесс, на котором поэзия официально была приравнена к тунеядству. Судья Савельева, общественный обвинитель Сорокин, тенденциозно подобранные свидетели приложили все усилия, чтобы наказать Бродского по максимуму – и добились своего.








