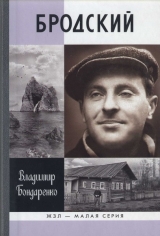
Текст книги "Бродский: Русский поэт"
Автор книги: Владимир Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
БУНТ ЗА НАРОД
Было и что-то еще, не менее, а может быть, даже более важное, делающее «северный» период наиболее значимым в жизни Бродского. Его приближение уже не к северной природе, укрывающей его от чужих взглядов и от собственного страдания, а к самим людям, эту землю населяющим. Впервые в жизни он стал чувствовать себя частью народа и конкретно – русского народа. Стал переживать не за конкретного товарища или подругу, а за народ. Для Бродского это было небывалое, никогда уже в жизни не повторившееся состояние души.
Эту главку можно было бы назвать «Народный поэт Иосиф Бродский» – попробуйте, оспорьте. Вам придется спорить не со мной, а с самим поэтом: «Если меня на свете что-нибудь действительно выводит из себя или возмущает, так это то, что в России творится именно с землей, с крестьянами. Меня это буквально сводило с ума! Потому что нам, интеллигентам, что – нам книжку почитать, и обо всем забыл, да? А эти люди ведь на земле живут. У них ничего другого нет. И для них это – настоящее горе. Не только горе – у них и выхода никакого нет… Вот они и пьют, спиваются, дерутся… Мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе…»
В такой, не побоюсь сказать, соборной русской атмосфере и рождались его лучшие деревенские стихи: «К северному краю», «Дом тучами придавлен до земли…», «Деревья в моем окне, в деревянном окне…», «Северная почта», «Колыбельная» и, конечно же, «Песня», и, конечно же, «В деревне Бог живет не по углам…».
Обычно позднего Бродского узнают по первым же строкам: нейтральная интонация, монотонный стих, отсылка к английским классикам. А к кому отошлет дотошный исследователь творчества поэта его почти фольклорную песню?
Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собирались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
И большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель.
То ли дождь идет, то ли дева ждет.
Запрягай коней, да поедем к ней.
Невеликий труд бросить камень в пруд.
Подопьем, на шелку постелим.
Отчего молчишь и как сыч глядишь?
Иль зубчат забор, как еловый бор,
За которым стоит терем?
Запрягай коня да вези меня.
Там не терем стоит, а сосновый скит.
И цветет вокруг монастырский луг.
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.
Не раздумал пока, запрягай гнедка.
Всем хорош монастырь, да с лица – пустырь
И отец игумен, как есть безумен.
Клюевским староверием, северными скитами, шергинскими сказами веет от этой народной песни Бродского.
Уверен, именно придя к своей «деревенской поэзии», он задумал совершенно искреннюю попытку опубликоваться в местной коношской печати. Журналист Альберт Забалуев из коношского «Призыва» вспоминает: «Однажды в кабинет вошел рыжеватый юноша в городских джинсах, видно, что не здешний.
– Вы можете напечатать стихи тунеядца? – просто, без иронии спросил он.
– Да, если они отвечают газетным нормам.
Газетным нормам стихотворение „Тракторы на рассвете“ (а именно это он принес) отвечало – короткое, казалось бы, на производственную тематику… Через неделю Иосиф снова пришел в редакцию, принес второе стихотворение – „Осеннее“. Я прочитал его и по своей наивности… сделал такую оценку:
– Этот текст уступает первому. В том больше динамики, емче образность…
– Не скажите, – перебил он меня. – Сейчас время обеда. У тебя где трапеза? Дома? Пойдем, угостишь меня чайком. Заодно по дороге я тебе и мозги вправлю…
Сравнивая два предложенных газете текста, он говорил, что образность, даже самая удачная, не самоцель, она легко и как бы из глубины должна вплетаться в ткань стиха…»
Не так уж и нужна была ему публикация в районной газете, которая вскоре состоялась. Очевидно, став уже своим в деревне, он хотел пообщаться и с коношскими газетчиками, взглянуть на журналистскую глубинку живьем. Кстати, как видно из воспоминаний еще одного коношанина, Владимира Черномордика, в совхозе «особых притеснений ему не чинили, и условия для творческой работы у него были… Уже в то время его здоровье было неважное, и его вклад в продовольственную программу был весьма невелик… Помог тогдашний начальник КБО Н. П. Милютин. Так Бродский стал разъездным фотокорреспондентом…».
Впрочем, стихи на производственную тематику вполне вписываются в его тогдашнее увлечение Робертом Фростом:
Топорщилось зерно под бороной,
И двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
Я сеялку собою украшал,
припудренный землицею как Моцарт.
Но меня не его производственные стихи интересуют, «Тракторы на рассвете» или же «А. Буров – тракторист и я…», хотя и они отнюдь не унижают поэта, не похожи на заказные стихи в угоду начальству. Меня больше интересуют движение поэта к народу, к людям, его окружавшим, ощущение слиянности с ними. То, о чем ему когда-то рассказывала Анна Ахматова и чему он не очень-то верил: «Я была тогда с моим народом, / там, где мой народ, к несчастью, был…» Сейчас Иосиф Бродский также оказался вместе со своим народом и почувствовал его своим. И как же взбесил этот момент народности всё его элитарное окружение! А он, не стесняясь, признавался позже и в американских интервью, и итальянскому журналисту Джованни Буттафава, и Волкову, и другим в постигшем его в архангельской ссылке чувстве сопричастности с русским народом: «Возникло что-то более важное, более глубинное, что наложило отпечаток на всю мою жизнь: выходишь рано, в шесть утра, в поле на работу, в час, когда восходит солнце, и чувствуешь, что так же поступают миллионы и миллионы человеческих существ. И тогда ты постигаешь смысл народной жизни, смысл, я бы сказал, человеческой солидарности. Если бы меня не арестовали и не осудили, я бы не имел такого опыта, я был бы в чем-то беднее. В каком-то смысле мне повезло…»
Вот с таким колоссальным ощущением своей принадлежности к русскому народу писалось в ссылке стихотворение «Народ», так поразившее Анну Ахматову. В мае 1965 года она написала в дневнике: «Мне он прочел „Гимн Народу“. Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорил Достоевский в „Мертвом доме“: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович».
Может быть, постепенно, от стихов о северной природе, от стихов о своем северном смирении с жизнью, от стихов, воспевающих крестьянскую избу и крестьянский труд, он и пришел к своему «величию замысла», к стихотворению «Народ».
Без всякой злобы думаю: если бы это стихотворение было посвящено не чуждому поэту еврейскому народу, оно бы уже вошло во все хрестоматии, но поэт посвятил его другому народу по велению своей созревшей до этого состояния души. Ахматова, как мы видим, признала это стихотворение гениальным, пафосно переназвав его при этом (и название это еще раз было повторено в ее дневниках после сердечного приступа, случившегося с ней: «Хоть бы Бродский приехал и опять прочел мне „Гимн Народу“»). Давний друг поэта Лев Лосев в своей филологической статье «О любви Ахматовой к „Народу“…» совершенно точно оценил это стихотворение как продолжение ахматовской традиции любви к своему народу, своей стране и своему языку, как стихотворение «великого замысла». Почти все остальные тогдашние приятели Бродского, от Анатолия Наймана до переводчика Андрея Сергеева, посчитали стихотворение лишь «паровозиком», написанным в надежде на снисхождение властей. Как же мелко они ценили самого поэта! И зачем нужен был этот «паровозик» Иосифу Бродскому в декабре 1964 года, когда не было еще никаких надежд на досрочное освобождение и тем более на публикацию в какой-нибудь, даже районной печати? Да и так ли наши власти любили народность в стихах того же Николая Рубцова или Ярослава Смелякова? Никогда народность не была в чести у партийного начальства. Ее боялись не меньше, чем диссидентства. Да и стала бы больная Ахматова хвататься как за лекарство за заказное конформистское стихотворение?
…Припадаю к народу, припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас…
Блестящие поэтические строчки, кстати, совпадающие с концепцией самого поэта о величии языка. Жаль, что это стихотворение не попалось на глаза Александру Солженицыну к моменту написания его статьи. Жаль, что и американские друзья поэта, как могли, умаляли его северные стихи, выбрасывая их из книг и антологий. Жаль, что и самого поэта уговорили отказаться от многих его ранних стихов во имя вхождения в мировую культуру. Ценю мужество и независимость Льва Лосева, не раз в своей американской жизни шедшего поперек потока и в случае с нападками на Солженицына после «Августа Четырнадцатого», и в случае с пренебрежением к «неправильным» стихам Бродского.
Высоко ценил северные стихи поэта и Евгений Рейн, давно отдалившийся от стаи «ахматовских сирот». (Кстати, как они, поэты, не понимают пренебрежительности самого этого термина?) Рейн вспоминает свою поездку в Норенское уже в мае 1965 года: «Я застал его в хорошем состоянии, не было никакого пессимизма, никакого распада, никакого нытья. Хотя, честно признаться, я получил от него до этого некоторое количество трагических и печальных писем, что можно было понять… Бодрый, дееспособный, совершенно не сломленный человек. Хотя в эту секунду еще не было принято никаких решений о его освобождении, он мог еще просидеть всю пятерку… И когда Иосиф уходил, он мне оставил кучу своих стихов, написанных там… Была уже поздняя весна, очень красивое на севере время, была спокойная хорошая изба, где мне никто не мешал читать, гулять и все такое. И когда я прочел все эти стихи, я был поражен, потому что это был один из наиболее сильных, благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний перевал… Главная высота была набрана именно там, в Норенской, – и духовная высота, и метафизическая высота. Так что… в этом одиночестве в северной деревне, совершенно несправедливо и варварски туда загнанный, он нашел в себе не только душевную, но и творческую силу выйти на наиболее высокий перевал его поэзии».
Я не согласен с Евгением Рейном только в одном: не было у Бродского уже спустя полгода после начала ссылки «одиночества в северной деревне». Сначала природа, затем более живые, очеловеченные предметы деревенской избы, а потом уже и сами люди, все 14 дворов, заселенных людьми, все эти Буровы и Пестеревы, Забалуевы и Русаковы, крестьяне, журналисты и даже местные милиционеры, по долгу службы заглядывавшие к нему и распивавшие с ним в качестве контроля обязательную бутылку водки, как говорил Бродский, «те же крестьянские дети» – они все становились неизбежной и отнюдь не тягостной частью его жизни. Иначе не возникли бы замечательные своим крестьянским мистицизмом стихи:
В деревне Бог живет не по углам,
Как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
И честно двери делит пополам.
В деревне он – в избытке. В чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
Приплясывая сонно на огне,
Подмигивает мне, как очевидцу.
<…>
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.
Лишь концовка стиха говорит о некоей осознанной отчужденности свидетеля, о неслиянности с этим обожествленным столетиями крестьянским бытом. Но наступает время, когда хочется отбросить все эти мысли о себе в деревне, о своей оторванности от чего-то громадного и далекого. Время высшего христианского смирения перед жизнью, явленной тебе:
Как славно вечером в избе,
Запутавшись в своей судьбе,
Отбросить мысли о себе
И, притворись, что спишь,
Забыть о мире сволочном
И слушать в сумраке ночном,
Как в позвоночнике печном
Разбушевалась мышь.
Может быть, это и есть самое сокровенное в жизни? Простота людей, простота отношений, простота вещей, простота самой жизни. Как у Николая Заболоцкого в любимом стихотворении Бродского: «Вот они и шли в своих бушлатах – два несчастных русских старика». Это та простота, которой никакой модернизм никогда не может добиться.
Вспоминает Таисия Ивановна Пестерева: «С весны мы с Иосифом картошку садили. А когда он уезжал в августе, я у него спрашиваю: „Как же я ее одна-то теперь выкопаю?“ Отвечает: „Что делать, Ивановна! Надо ехать. По свету поездить“…»
Вот так и закончилась деревенская жизнь ссыльного поэта Иосифа Бродского. А заодно и его северное смирение. На воле бунт пасынка русской культуры продолжился. Таким его и примем.
БУНТ ЗА РУССКОСТЬ
А вот от русскости в своей культуре, даже иронизируя, даже отчуждаясь от нее, он так никогда отделиться и не смог. От русскости как следования русским канонам в литературе, в понимании поэзии, в жертвенном отношении к поэзии. От русскости как полного погружения в русскую языковую стихию. И даже от русскости как модели жизненного поведения, от максимализма, стремления постоять за правду и за други своя до разгульной анархичности и бесшабашной надежды на «авось»…
«У русского человека, хотя и еврейца, конечно, склонность полюбить чего-нибудь с первого взгляда на всю жизнь…» – писал Иосиф Бродский, очевидно, объясняя этой русскостью и свою непрекращающуюся любовь к Марине. И когда читатель сплошь и рядом встречает в его стихах, выступлениях, эссе, выражение «наш народ», в «моем народе» – он может не сомневаться, речь идет именно о русском народе. И если изменил Иосиф Бродский в чем-то России, то лишь с другими империями: в литературе – с римской, в жизни – с американской:
Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
Изменить может только с другим гаремом,
Я сменил империю. Это шаг
Продиктован был тем, что несло горелым.
<…>
Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи…
И здесь он всего лишь продолжил русскую традицию Курбского, Герцена, Печерина, Набокова, Синявского…
Но в языке ему изменить не удалось; побег Бродского, подобно Владимиру Набокову, в чужую, англоязычную литературу явно провалился. Он опубликовал несколько англоязычных стихотворений в «Нью-йоркере», затем увлекся переводами собственных стихов с русского на английский, не удовлетворяясь качеством работы даже ведущих американских переводчиков. Но не случайно о его переводах было составлено мнение многими американскими поэтами и критиками: «посредственность мирового значения». Прочитав такое в ведущем издании и под фамилией известного властителя американских книжных мод, Бродский перестал считать себя американским поэтом. Даже в таком насквозь нерусском стихотворении, как «Пятая годовщина» с его ухмылками по поводу луж на дворе и взлетающих в космос русских жучек вместе с офицерами Гагариными, с его уже литературно подтвержденным отказом от былого пророчества: «Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, / Зане не знаю я, в какую землю лягу», этот мировой изгой остается в отечестве русского языка:
И без костей язык, до внятных звуков лаком,
Судьбу благодарит кириллицыным знаком.
А когда известный чешский писатель Милан Кундера разразился в американской печати громкими заявлениями о вечной агрессивности русских и об их культурной никчемности, не кто иной, как Иосиф Бродский дал ему достойный ответ. Да и на эмигрантских собраниях, где он изредка бывал, он защищал русскую культуру от примитивных антисоветских наскоков литературных графоманов.
Впрочем, не будем забывать, что и побег в англоязычную литературу был, мягко говоря, ему навязан. Все-таки он не особенно хотел уезжать из России. Тут жили его родители, тут жила его любовь, а значит, и какие-то надежды на будущее. С одной стороны, хотелось уехать, чтобы вырваться из литературной и любовной безнадеги, с другой – жила надежда на примирение и жил его сын, тут было пространство русского языка, которое он покидать не собирался. Ему бы радоваться, что без очереди дали израильскую визу, что отпускают на желанную свободу, а он пишет письмо Леониду Брежневу, так и недооцененное историками литературы. Письмо не политическое – письмо литературное. Уже 4 июля 1972 года оно было опубликовано в газете «Ди Прессе», а потом обильно процитировано в югославской газете Душаном Величковичем. Уезжающий поэт не плачется и не жалуется генеральному секретарю, но и не предъявляет ему политические обвинения, письмо отнюдь не покаянное, не вынужденное. Это письмо о его незыблемом праве на жизнь в русской культуре, и ни в какой другой:
«Дорогой Леонид Ильич, покидая Россию не по своей воле (о чем Вы несомненно осведомлены), позволяю себе обратиться к Вам с просьбой, на что, как я считаю, у меня есть право, поскольку я убежден в том, что все, что я сделал в своем литературном творчестве за 15 прошедших лет, служит и будет служить русской культуре. Я хочу попросить Вас дать мне возможность остаться в русском литературном мире хоть переводчиком, кем был я до сих пор. Я принадлежу русской культуре, чувствую себя ее частицей, и никакая перемена места пребывания не может повлиять на конечный исход всего этого. Язык – явление более старое и более неизбежное, чем государство. А если речь идет о государстве, то, на мой взгляд, мера любви писателя к родине – не клятва с какой-то высоты. Это то, что он пишет на языке детей, среди которых он живет. Покидая Россию, испытываю горькое чувство. Здесь я родился и воспитывался, здесь я жил и благодарен России за все, что у меня есть на этом свете. Все пережитое мною Зло преодолено Добром, и никогда у меня не было такого чувства, что Родина обидела меня. Его нет и теперь. Несмотря на то что я теряю советское гражданство, я не перестаю быть русским писателем. Я верю, что вернусь, ведь писатели всегда возвращаются – если не лично, то на бумаге. Хочу верить, что возможно и то и другое. Надеюсь, что Вы меня правильно понимаете. Прошу Вас дать мне возможность и впредь жить в русской литературе и на русской земле. Не верю в свою вину перед родиной. Наоборот, верю, что во многих отношениях я прав… и если мой народ не нуждается в моей плоти, то, может быть, моя душа ему пригодится».
Иосиф Бродский может гордиться таким письмом к лидеру государства. Это, как в случае с Мандельштамом, тот же имперский выход один на один – «поэт и царь», и поединок явно в пользу поэта. Он ни перед кем не кается и отделяет советскость, в которой он не нуждается, и русскость, как следование национальным, культурным и литературным русским традициям, которая остается при нем, куда бы он ни уехал. Письмо нельзя назвать просоветским или антисоветским (в такой системе координат Бродский никогда и не работал), письмо – прорусское, и в нем поэт выглядит более русским, чем Леонид Ильич Брежнев, живущий в интернациональной, вненациональной системе координат. Это письмо можно спокойно поставить в ряд знаменитых писем русских писателей императорам и генсекам. Письмо не только о себе и своей русскости, но и во славу русской литературы.
Не кто иной, как Иосиф Бродский воспел в мировой печати, и не единожды, всю пушкинскую плеяду поэтов от Баратынского до Вяземского, заявил о мировом уровне русской культуры XX века, назвал Марину Цветаеву лучшим поэтом всего столетия, а Андрея Платонова и Николая Заболоцкого классиками мировой литературы. Да, были у него и свои, не вполне объективные пристрастия: он постоянно возвеличивал своих ленинградских друзей, называя их всех равными себе по таланту, хотя эти старые дружки часто из зависти его же и предавали. Но у кого из нас нет этих групповых и дружеских пристрастий?
В целом тема «Иосиф Бродский как просветитель и пропагандист русской культуры в мире» несомненна. Многие из самых тонких ценителей культуры в англоязычном мире впервые услышали от Бродского имена Державина и Ломоносова, Хлебникова и Клюева. Не забывал он даже о таких советских поэтах, как Николай Тихонов и Владимир Луговской, помнил о своих учителях Борисе Слуцком и Анне Ахматовой. Для него как для человека культуры интересны даже самые незначительные поэты второго и третьего ряда. «Вообще-то говоря, среди русских поэтов… фигур второго ряда – были совершенно замечательные личности. Например, Дмитриев с его баснями. Какие стихи! Русская басня – совершенно потрясающая вещь. Крылов – гениальный поэт, обладавший звуком, который можно сравнить с державинским. А Катенин!.. Или – Вяземский: на мой взгляд, крупнейшее явление в пушкинской плеяде». И какие замечательные строки написаны им о вечном бескультурье нашей русской политической элиты: «За равнодушие к культуре общество прежде всего гражданскими свободами расплачивается. Сужение культурного кругозора – мать сужения кругозора политического. Ничто так не мостит дорогу тирании, как культурная самокастрация…»
Кстати, интересно, как почти в одно и то же время Иосиф Бродский и Станислав Куняев пишут стихи об отказе от поклонения перед учителями, перед тем же Борисом Слуцким. У Куняева – «Я предаю своих учителей» – жестко и решительно. У Бродского помягче – «Приходит время сожалений. / При полусвете фонарей, / при полумраке озарений / не узнавать учителей». Нынешняя культурная самокастрация наших либералов, в том числе литературных, приводит и к сужению понимания стихов того же Иосифа Бродского. Почти забыты уже два его прекрасных стихотворения, посвященных Глебу Горбовскому, которого он крайне высоко ценил: «Посвящение Глебу Горбовскому» («Уходить из любви…»), и «Сонет к Глебу Горбовскому» («Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы…»). Сам-то Бродский при явном расхождении, и политическом, и творческом, с поздним Горбовским все-таки признавал в американских интервью: «Конечно же, это поэт более талантливый, чем, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, кто угодно…» А в книге диалогов с Волковым еще определеннее: «Если в ту антологию (русской поэзии XX века. – В. Б.), о которой вы говорите, будет включена „Погорельщина“ Клюева или, скажем, стихи Горбовского – то „Бабьему яру“ там делать нечего…»
Но «ахматовские сироты» все одеяло славы Бродского предпочитают натянуть на себя, и бродсковеды этому активно подыгрывают. Нет, чтобы взять и провести интересную творческую параллель между стихотворением Николая Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» и стихотворением Бродского «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…». Опять же, время написания почти одно, да и поэты были хорошо знакомы. Взаимовлияние, творческое соперничество? В любом случае интересная страница в биографии обоих, которую записные поклонники того и другого предпочитают не замечать. Или их встречи с Татьяной Глушковой; как рассказывала Глушкова, они оказались во многом близки по отношению к искусству и русской классике. Неплохо бы и задуматься над Державиным, как общим предтечей Юрия Кузнецова и Иосифа Бродского. Оба ведь – птенцы не из пушкинского гнезда…
Не так узок был наш герой, не влезает он в нынешнее либеральное прокрустово ложе. Увы, русскость в Бродском оказалась не нужна ни русским патриотам – критики почвенного стана если и вспоминают его, то только чтобы лишний раз ругнуть, – ни либералам, перечеркивающим Россию как таковую и вычеркивающим любое проявление русскости из судьбы поэта.
Кстати, при всем своем чувстве одиночества и отделенности ото всех, он никогда не терял чувства поколения, неоднократно писал о своем поколении: поколении писателей, рожденных перед войной, следующем за шестидесятниками, которых он всегда чурался и презирал, от Аксенова до Евтушенко с Вознесенским, – по сути, о последнем состоявшемся поколении русской культуры XX века. Не забудем, что оно, это поколение, как правило, отказавшееся от фальши шестидесятничества, кто справа, кто слева, вбирает в себя и ленинградскую группу Иосифа Бродского, и его друзей, и почти всю «тихую лирику» от Николая Рубцова до Олега Чухонцева, и Татьяну Глушкову, и мистического Юрия Кузнецова. Неплохой набор поэтов выставило на щит литературы само время! Концовка XX века оказалась ничем не хуже его начала. Иосиф Бродский говорил об этом поколении: «Это последнее поколение, для которых культура представляла и представляет главную ценность из тех, какие вообще находятся в распоряжении человека. Это люди, которым христианская цивилизация дороже всего на свете. Они приложили немало сил, чтобы эти ценности сохранить, пренебрегая ценностями того мира, который возникает у них на глазах». Утверждение вполне ортодоксальное и не раз подтверждаемое Бродским в стихах.
Я не хочу выискивать в многочисленных интервью русского поэта Иосифа Бродского аргументы в поддержку моей уверенности в его русском природном менталитете. В его многочисленных американских интервью можно найти аргументы в поддержку любой версии. Кто знает его творчество, тот найдет подтверждение в стихах, кто верит мне, поверит и моей концепции, а кто не хочет видеть в Иосифе Бродском русского поэта (такие есть и справа, и слева – и среди русских, и среди евреев), пусть ищут в нем что-то иное, создают облик чисто американского или чисто еврейского поэта. Мне важнее высказать саму версию. И если она правдива, то и восторжествует. Любой миф, в том числе и критический, держится на правде, и каждый Генрих Шлиман в конце концов находит свою Трою.
Да, Бродский сотни раз называл себя русским поэтом, он не стеснялся выступать не только от своего имени, но и от имени русской культуры, русской поэзии. Это больше всего и поражает, он – ярчайший индивидуалист, сделавший ставку на личность, вдруг перебарывает себя, отказываясь от своего «я» ради русского, народного «мы». Думаю, это тема для будущих исследований: «я» и «мы» в творчестве Иосифа Бродского.
К тому же кроме таких объективных исследователей, как Лев Лосев, или таких мемуаристов, как Евгений Рейн, большинство пишущих о Бродском или вообще не касаются его поэтической, творческой и эмоциональной русскости, или же начисто отрицают ее, старательно обходя высказывания и стихи самого же Бродского или находя в них примеры его раздражения на свою страну и полемики с ее властями.
Конечно, в самой русской культуре он принадлежал к ее западническому крылу и в споре славянофилов с западниками он, безусловно, защищал интересы западников. Но – русских западников, русских европейцев. Когда же ему приходилось встречаться с неприкрытой русофобией, неприятием России и русской культуры, он интуитивно, не размышляя, становился на сторону русских. Так было и с западником Герценом, который для Карла Маркса был замшелым русским мракобесом. Не знаю, шла ли воинственная защита русской культуры Бродским от офицерства его отца, которым он гордился, или же зачарованность русскостью пришла к нему в северной ссылке, которую он вспоминал с восторгом до последних дней своих. Или же он пропитывался ею во время встреч и разговоров со своей возлюбленной – русской художницей Мариной Басмановой.
Все аргументы в его стихах, которые он никогда не прикрывал размытым образом лирического героя, а следовал девизу своего любимого поэта Константина Батюшкова: «Живи – как пишешь, пиши – как живешь», шли от него самого. И потому соглашусь с мнением Льва Лосева: «Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет».
Впрочем, его русский менталитет чаще всего проявляется спонтанно, неожиданно. К примеру, в грубом и хлестком, для него самого рискованном стихотворении «На независимость Украины» проскальзывает: «Не нам, кацапам, их обвинять в измене…» То есть поэт ощущает себя «кацапом», русским. А ведь написано уже в Америке, спустя годы после эмиграции, когда его довольно настойчиво подталкивали к признанию своего еврейства, которое «стало чуть более заметным для меня именно здесь, где общество построено с учетом строгого разграничения на евреев и неевреев». И при этом строгом разграничении он в вольных поэтических строчках вольно чувствовал себя именно «кацапом». И остро переживал отделение Украины от России. Уж тут его, как в случае со стихотворением «Народ», никто в «паровозности» написания не обвинил бы. В Прибалтике он был гостем, Украину всегда чувствовал, как и все мы, частью единого целого. Любил героическую историю обороны Севастополя. Да и Киев для него был «матерью городов русских». Потому так остро, болезненно реагировал Бродский даже в далеком Квинсе на «незалежность» Украины.
Естественность и искренность поведения были заложены в нем с детства, стали его позицией, и нынешним исследователям не приходится отделять его искренние стихи от стихов, написанных в угоду властям или кому бы то ни было. Разве что единственный, может быть, раз в жизни, во время суда над ним в Ленинграде, он выдавил из себя: «Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд…» Потом он сам же и высмеял свою попытку заигрывания с судом в иронических стихах, когда писал в «Речи о пролитом молоке» об «ученье строить Закону глазки, / Изображать немого…». Насколько я знаю, больше никогда никакому закону он глазки не строил, и с уверенностью можно цитировать его стихи и высказывания как истинные мнения самого поэта, какими бы политкорректными или, наоборот, неполиткорректными эти высказывания ни были. Вообще, он не выносил политкорректности по характеру своему, был всегда максималистом, в лицо говорил человеку всё, что думал.
Да и что он выигрывал, к примеру, от письма Брежневу, посланного перед отъездом из России в эмиграцию? Зачем писал, требовала ли этого его душа? Сегодня это письмо иные его поклонники хотят обратить чуть ли не в шутку, в пародию, написанную совместно пьяной компанией перед отлетом из России. Нет, господа, такие проникновенные слова в шутку не пишутся: «Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. (И не повлияла! – В. Б.) Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятва с трибуны…»
В этом письме продумано каждое слово. Это писательская концепция Бродского, подтвержденная всей жизнью и творчеством. К сожалению, по-моему, только я один и опубликовал полностью это письмо дважды в своих книгах «Последние поэты Империи» и «Живи опасно».
Никто, по-моему осознанно, не замечает той жесткой полемики, которую вел Бродский с недругами русской культуры на страницах западной печати. Наши либералы до сих пор строго цензурируют его, хотя никаких запретов на публикацию и цитирование (кроме личного архива) сам поэт не оставлял.








