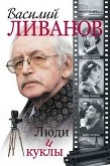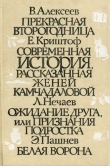Текст книги "Белая ворона. Повесть моей матери"
Автор книги: Владимир Фомин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
В то время я не могла понять, что мешает врачам видеть такую выявляемую болезнь, как истерия. А сейчас я нашла ответ на этот вопрос: это деградация медицины. Другой вариант, что ребёнка специально мучили, чтобы вытянуть побольше денег из родственников, я не могу представить.
Когда девочку выписали, она, умница, решила меня проверить, действительно ли я её вылечила.
– Значит, вы можете разрешить мне теперь ходить в школу? – спросила она меня.
– Конечно, – ответила я.
– А если случится припадок, и я попаду под машину?
– Не случится, ты здорова, и болезнь никогда не возвратится.
– А если я специально брошусь под трамвай? – спросила Ира.
Её мама при этом даже охнула. Я засмеялась и сказала:
– Отсижу в тюрьме, но справку, что ты здорова, всё равно тебе выдам.
В стационаре она провела всего две недели. Её жизнь резко изменилась после выписки. В тот же день она купалась в Волге и, как в сказке, подплыл к берегу парусник с алыми парусами. Ей разрешили по лесенке забраться туда. Мама рассказывала, что Ира была очень бледна и дрожала, когда забиралась на высоту. В дальнейшем она окончила педтехникум, затем и университет. Болезнь не возвращалась.
Нейрохирурги не знали ничего кроме своего ремесла. Возможно, они хорошо оперировали, но надо ли так часто оперировать больных с грыжами дисков? За 30 лет своей работы в качестве невропатолога, работая без нейрохирургов, я отправила в город Иваново на оперативное лечение только одного человека – пожилую женщину старше 70 лет, у которой грыжа межпозвонкового диска привела к тазовым расстройствам и парезам ног, и заболеваемость была наименьшей по области. Кинешемские нейрохирурги стали делать такие операции чаще, чем аппендэктомию; выход на инвалидность стал больше, заболеваемость выросла. Особенно они любили оперировать молодых, с лёгким течением болезни, которые выздоровели бы и без операции. Нейрохирурги, будучи специалистами узкого профиля, видели больных только через узкую щель своего сознания. Когда моя больная с истерическими реакциями попала после очередной драки с мужем в НХО с травмой шеи, нейрохирурги поинтересовались, нет ли слабости в ногах, онемения в них – слабость в ногах появилась сразу, а затем и в руках. Ей нужно было посадить мужа, так как он решил уйти от неё. Консультант невропатолог подтвердил диагноз нейрохирурга: тяжёлая травма шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, с парезами рук и ног. Больная получила вторую группу инвалидности, а муж Михаил Кустов – 5 лет лишения свободы за тяжкие телесные повреждения, которых и в помине не было. Об этом я узнала через полгода, и Михаила я спасти не могла. Истерические параличи возникали у больной и раньше после ссор с мужем. Больничный лист я ей не выдавала, и параличи проходили сразу же. Снять группу инвалидности было очень трудно. В новое время мне уже стало невозможно при заполнении посыльного листа в ВТЭК выставить свой диагноз. Я должна была поставить диагноз стационара и врачебно-контрольной комиссии, а свой диагноз – просто как особое мнение.
Врачи в упор не замечали такой болезни, как истерия. 45 капельниц по поводу инсульта с глубокой гемиплегией перенесла Людмила Александровна, преподаватель ПТУ. Полтора месяца держали её на строгом постельном режиме в неврологическом отделении, хотя у ней были истерические параличи, которые излечиваются за минуты при правильной диагностике. Я не допустила её до инвалидности, и она успешно работала до пенсии.
Сразу же после окончания института я увидела инвалида первой группы Марию Ивановну Кандову. Она, ссылаясь на авторитеты заслуженных старых профессоров невропатологов, считала, что у неё очень сложное заболевание – энцефаломиелополирадикулоневропатия. Она много лет не выходила на улицу, выполняя все домашние дела, лечилась уже много лет регулярно у невропатологов. Я своим глазам не верила: за диагнозом из 35 букв скрывалась обыкновенная истерия. Бесполезно что-либо внушать после таких авторитетов, да и больную устраивало положение инвалида первой группы. Она говорила мне: "Я сама могу кому что угодно внушить". Она хорошо воспитала четырёх сыновей. Я заметила, что и другие больные истерией очень хорошо управляют другими людьми – у них растут заботливые дети. Видя всё это, я сказала Марии Ивановне: "Я хорошо знаю, что ваша болезнь проходит в возрасте 55 лет, и вы будете ходить без труда". Так и случилось. После 55 лет Мария Ивановна совсем забыла о своей болезни. Первую группу уже никто не мог снять. В данном случае не врачи внушали больной болезнь, а наоборот больная внушала врачам свою болезнь и управляла их сознанием.
Мне запретили ставить диагноз "истерия", объясняя это тем, что такой диагноз может поставить только психиатр. Но психиатр мог поставить такой диагноз только в том случае, если терапевт и невропатолог исключат свою патологию, чего перестраховщики и невежды в медицине сделать не могли: а вдруг какую-нибудь болезнь пропустят? За недосмотр накажут, а если человека загонят в болезнь – за это никто не отвечает, и больной никому не нажалуется, так как будет чувствовать внушённую болезнь. Терапевты и невропатологи, не зная психиатрии, в упор не замечали у больного истерии, и придумывали несуществующие болезни. Психиатры, совсем не зная терапевтических и неврологических болезней, слепо доверялись терапевтам и невропатологам и диагноз истерии не выставляли. Таким образом по причине узкой специализации врачей, приведшей к невежеству, больные становились на многие годы инвалидами, невинные попадали в тюрьмы, другие – в могилу.
До сих пор меня мучает совесть, и я спрашиваю себя, а что я могла тогда сделать, и всё ли я сделала, чтобы спасти от смерти молодую женщину, которую коллективно загнали в гроб. Когда на Красноволжском комбинате произошло крупное хищение денежных средств, под следствие попали 9 человек. Воры переложили всю ответственность на Татьяну Пиголкину (Павлову), воспитанницу детского дома, работающую рядовым бухгалтером. А врачи из диагноза лёгкого сотрясения головного мозга, которое получила Таня, сделали посттравматический церебральный арахноидит. Особенно старались врачи нейрохирургического отделения во главе с Савиным Адольфом Александровичем. Татьяне делали спинномозговые пункции, находили на ПЭГ кисты, состояние её становилось всё тяжелее и тяжелее, появились припадки. У Татьяны была явная истерия, и она поправлялась от лечения словом. Я объясняла ей смысл её болезни и говорила, что при неврозе нельзя лежать в постели, надо отвлекаться, работать, и поэтому я не могу её держать на больничном листе более трёх дней. Тогда она откровенно сказала мне, что если я её выпишу, то её сразу же посадят, но, если её посадят, то она "заложит" всех. Я не могла держать её на больничном листе, и страх заставлял её вызывать скорую помощь, а скорая помощь, видя её тяжёлые приступы, отвозила в НХО. Там её держали на стационарном лечении месяцами, и за год она прошла 11 курсов интенсивного лечения по поводу несуществующей болезни. Следствие затягивалось по причине её болезни. Областное отделение НХО подтвердило диагноз города Кинешмы. Одна я была уверена, что органического поражения нервной системы у Татьяны не было, и по-прежнему упорствовала, писала в амбулаторной карте подробно об отсутствии неврологической симптоматики и наличии только функциональных расстройств. Наверное, кто-то ещё в следственных органах был честным человеком и хотел вывести эту красноволжскую мафию на чистую воду, и поэтому амбулаторную карту с моими записями отправили в Ивановский облздравотдел. Психиатры не решались поставить диагноз "истерия", так как невропатологи и хирурги выставили свой страшный диагноз. Не имея возможности поставить диагноз "истерия", я написала просто: "уход в болезнь". Мне передали, что в облздравотделе возмущались: "Такого диагноза нет, а этого врача давно пора гнать с работы". И выжили своим способом. Об этом в следующей главе. Когда я почти через два года вернулась на работу, Татьяну я не узнала. Её уже лечили гормонами, и от них у неё произошло расстройство регуляции всех жизненных процессов: высокое давление, сердцебиение, частое повышение температуры, выраженные вегетативные расстройства, изменения в крови и припадки. У неё была вторая группа инвалидности, и дело о краже было закрыто, на Красноволжском комбинате никто не пострадал. У нас с Таней всегда были очень хорошие, доверительные отношения. Она попросила разрешение называть меня мамой. Она верила мне и была мне как дочь. Я убедила её бросить все лекарства, и она стала выздоравливать. Нервы её успокоились, тюрьма не угрожала, но установки на труд у неё не было. На второй группе ей жилось хорошо. Вероятно, ей хорошо заплатили. Она хорошо одевалась, гуляла и пировала с мужчинами, вышла замуж, развелась. Она больше не лечилась, и её ничего не беспокоило. Если бы она ходила на работу каждый день, то, вероятно, она не стала бы часто употреблять спиртное, но на второй группе делать было нечего, а только гулять и развлекаться. Она выпивала, и однажды наступила внезапная смерть. Вскрывал тело судебный медэксперт. По телефону я узнала, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на почве алкогольной интоксикации; в головном мозгу никакой патологии не обнаружено. Я доложила судебному мед. эксперту, что должны быть кисты, спайки, которые находили нейрохирурги при жизни, но судебный медэксперт заверил меня, что мозг осмотрен особенно тщательно, и патологии не обнаружено никакой. Аналогично скончался и лечащий нейрохирург Савинов Адольф Александрович: пришёл на работу, принял чего-то с похмелья и умер мгновенно прямо на рабочем месте. Спасти Таню от врачей я не смогла.
После перестройки стало ещё хуже. Я с трудом тащилась до своей пенсии. Я ставила свой диагноз, а нейрохирурги с невропатологами коллективно ставили совсем другой, ссылаясь на новую аппаратуру, в которой ничего не смыслили. Врачебная этика не позволяла мне говорить больным о врачебных ошибках. Мне только оставалось молчаливо наблюдать, как их загоняли в мнимые болезни. Кураторы из Иванова больше не приезжали с проверкой. Медработники занимались в основном бумагами, а не больными, зарплаты не выплачивали, и поэтому все заботились о том, как выжить. Однажды все проголосовали за забастовку. Я одна была против: нам бастовать нельзя, так как от забастовки пострадают больные, а жирные чиновники лечились у платных профессоров. Я объясняла, что мы не получаем зарплату только два месяца, а рабочие не получают зарплату уже шесть месяцев, и по сравнению с нашим их труд более интенсивный, у них больший расход энергии, и поэтому именно им надо выплатить заработную плату, а потом уже и нам.
Меня не понимали:
– Но у нас дети.
– И у рабочих есть дети, – отвечала я.
У коллектива была своя логика: "своя рубашка ближе к телу", но откровенно и честно выразить свою мысль они не могли.
От произвола начальства страдали рабочие Красноволжского комбината, на котором участились производственные травмы. Наглый начальник, скрывая факты производственного травматизма, уговаривал рабочего написать в акте, что тот страдает эпилепсией, а затем увольнял его с работы. Я не соглашалась и писала свой диагноз. У больных, пользуясь их беспомощным состоянием, отнимали квартиры и дома. Если автомобиль богатого приносил увечье бедному, то нейрохирурги "не замечали увечья". Я никогда не отказывалась защищать интересы своих пациентов в суде, но смотреть на потерявших совесть и на равнодушных было тяжело.
Последние три года я зачёркивала ежедневно цифры в календаре, и не доработав до пенсионного возраста 20 дней, ушла 31 марта 2000 года, отработав ровно 30 лет в одной больнице, в одном кабинете, под счастливым номером 13. Но ушла я, не как все люди: без юбилея, без почётной грамоты и без обычного чтения всех заслуг перед обществом (как некролог на похоронах), после чего работник, уходящий на пенсию, прослезится и остаётся работать на своём месте до тех пор, пока не умрёт прямо на работе. Проводы были очень короткими, между двумя сменами в обед. Я отделалась от них очень легко – никакого юбилея, только торт и несколько бутылок красного вина. Разрезала я свою личную печать на мелкие кусочки в знак того, что больше никогда не вернусь в медицину, и оставила свой молоточек, как наследство будущему невропатологу.
Напоследок, за полтора месяца до ухода, мне дали первый и последний выговор. Выговор от высшего начальства получили ещё двое врачей кроме меня: у одного из-за неправильно поставленного диагноза умер на участке больной; другой прогуливал и пьяный засыпал прямо на работе на глазах пациентов. Мне дали выговор, посмотрев на выбор 5 амбулаторных карт с моими записями. Замечания, которые мне сделали, показались мне смешными, годящимися только для вечера юмора, но их приравняли к смерти больного по халатности и пьянству на работе. Я показала амбулаторные карты и выговор заведующей поликлиникой, написала опровержение этого абсурда и отправила его к главному врачу ЦРБ. Заведующая поликлиникой ничего не могла сделать, так как была лишь бесправным промежуточным звеном. Главврач, наверное, выбросил в урну моё опровержение, не читая. Заместитель главного врача по экспертизе Смирнова Л. С., молодой амбициозный доктор, демонстрируя свою дебильность, учила меня делать записи в амбулаторной карте. Например, я писала: "сухожильные рефлексы равномерны – S=D". Это допустимое сокращение: S– sinistra (слева), D – dextra (справа). Она придиралась к другому: надо добавить "на обоих ногах". Я сопротивлялась: "А что, бывают разве три ноги? Их всегда две. Об этом и говорит запись "S=D", то есть сесть и левая, и правая нога, а если бы была одна нога, то записи "S=D" и слова "равномерны" не было бы". Вот в таком ракурсе происходило моё обучение русской грамоте на склоне моей врачебной деятельности, и, как неспособной ученице, мне она и поставила "двойку" – выговор.
Заведующая поликлиникой Борисова Инесса Николаевна на моих проводах была немногословна. Первое, что она сказала: "Светлана Фёдоровна – честный человек". Как хорошо, что это было замечено, и что это главная черта моей личности! Для меня это было главным – не потерять совесть, сохранить честь. Я чувствовала себя птицей, томящейся много лет в клетке, и, наконец, вылетевшей на свободу. Мне не верилось в это, как когда-то не верилось в то, что я получила квартиру. Я как будто тащила на своих плечах горы, и вот, легко. Свобода!
Меня спрашивали, почему же я не доработала двадцать дней?
– Это для отчёта на страшном суде – отвечала я. – Когда Бог призовёт всех к ответу, он спросит у меня, почему я, видя, как мерзко устроена наша медицина, однако, трудилась в ней 30 лет, получая деньги за свою работу. Я отвечу, что трудилась через силу, и даже не смогла доработать до пенсии, и даже ушла досрочно.
Бог возразит мне:
– Но ведь только двадцать дней не доработала.
– Тогда я предъявлю ему свою трудовую книжку и покажу ему запись на другой странице, и он увидит, что я не работала почти два года, питаясь травой, кореньями и ягодами. Об этом следующая глава.
16. Крыша поехала.
Когда началась перестройка – раздолье для аферистов и хапуг, стало всем, и медикам в том числе, ещё тяжелее жить. Каждый искал свою нишу в новых условиях. К власти лезли, расталкивая локтями, сильные, активные люди, любящие власть, деньги и привилегии. Таковых в нашем коллективе, называемым Филиалом Љ1 ЦРБ г. Кинешмы, не оказалось. В качестве заведующего Поликлиникой нам прислали психиатра Чернявского Александра Гавриловича – олицетворение бюрократизма и глубокого равнодушия к больным, плоть от плоти, кровь от крови нового времени. Наверное, он был самым исполнительным промежуточным звеном между властью и врачами, доводя до коллектива реализацию всех постановлений и приказов. Кроме этого, он часто отлучался в Москву, где обучался психотерапии по какой-то американской методике. В дальнейшем, получив звание магистра каких-то наук, он занялся платным лечением больных. Кроме этого, он был подростковым врачом и играл большую роль в определении годности или негодности подростков к служению в армии.
Когда он вошёл в мой кабинет, я, как и много лет назад, увидев Тоню, жену сына, почувствовала то же самое: как будто кто-то мягко толкнул меня в грудь. Конечно, внешность его была отталкивающей: тяжёлая, выступающая, как у преступников, нижняя челюсть; тяжёлый пристальный взгляд из-под нависающего над глазами выпуклого лба; лысая голова. Но дело было всё-таки не во внешности; мало ли уродов я видела, но никаких толчков от этого не чувствовала. Он был безобразен изнутри.
Начало его деятельности ознаменовалось тем, что вдруг стали пропадать бесплатные путёвки в Ивановскую Сосневскую бальнеолечебницу, перестали поступать дефицитные лекарства, отпускаемые ранее регулярно на наш филиал. До появления заведующего наблюдать очередь на дефицит коллеги доверили мне, и я честно вела наблюдение. Каждый пациент знал, в каком месяце ему надо брать отпуск для лечения в Сосневе. Все тяжёлые больные получали дефицитное лекарство – церебролизин в порядке очереди. Но всё нарушилось с приходом Чернявского. Он, не мигая, глядя прямо в мои зрачки, лгал о том, что путёвок в Соснево на наш филиал в настоящее время не отпускают, и при этом чернил заслуженного врача, заведующую центральной поликлиникой Захарову Лидию Ильиничну, уверяя, что у неё плохо с головой, и от старости у неё снизилась память. Лидия Ильинична говорила противоположное, что теперь все дефицитные лекарства получает наш заведующий Чернявский, и я должна спрашивать с него.
Дефицитом пользовались спекулянты: если в аптеке коробка церебролизина стоила 70 копеек, то мои больные покупали её уже за 100 рублей и не выдавали своих "благодетелей". Лекарство действительно было очень эффективным при лечении больных с параличами, и больные не жалели никаких средств, чтобы достать его. Один больной продал последнее пальто и не выходил больше на улицу, чтобы приобрести коробку церебролизина. Так как я следила за очерёдностью на лечение в Соснево и на получение церебролизина, то больные от терапевтов шли ко мне, и я записывала их в порядке очереди в свой журнал. В это время одна женщина, не пожелавшая ждать своей очереди несколько месяцев, предложила мне взятку. Я удивилась такой наглости и долго убеждала её, что и те, которые ждут своей очереди, такие же люди, как она, а болеют даже тяжелее, чем она. Я уже месяц ходила к Чернявскому, ожидая путёвки для другой больной, которая всё ещё не брала отпуск, необходимый для лечения. Я звонила в Соснево, звонила Захаровой Л. И., но она уже трубку бросала, не понимая, зачем я пристаю к ней, если у нас есть свой заведующий. И тут я узнала, что женщина, предлагающая мне взятку, легко получила путёвку в Соснево у Чернявского, а терапевт Юрова Нина Ивановна заполнила её, считая, что путёвка горящая, и любительница получать всё без очереди уже лечилась в Сосневе.
Та же история происходила и с церебролизином. В тот месяц мои тяжело больные так и не дождались церебролизина, а в соседнем процедурном кабинете его получали больные, которые никогда не стояли в очереди, и которым он был даже не показан.
Тогда я решила выступить на очередном общем собрании сотрудников, и заранее поставила об этом в известность Чернявского. Он разрешил, как разрешал всем и всё, о чём бы его не попросили. Он всегда шёл навстречу желаниям медработников: дать подработку – нет проблем, взять отгул – сколько хотите, уйти пораньше с работы – пожалуйста. Да хоть совсем не работайте, но только напишите хорошо отчёты, оформите правильно документы – вот и все требования. Он никогда не повышал голоса, никого ни за что не отчитал – для этого была старшая медсестра, Байкова Валентина Кондратьевна. Её все боялись. Она была настоящей хозяйкой поликлиники, работая в ней уже около 50 лет. Я её не боялась нисколько – так она меня чуть не избила за непослушание, запустив в мою голову пачку амбулаторных карт. Она верно служила всем постоянно меняющимся заведующим; первая приходила на работу и последняя уходила, открывая и закрывая поликлинику. Её командный голос на высоких тонах постоянно раздавался то там, то тут. Валентина Кондратьевна работала вместе с отолярингологом и окулистом, а когда те отсутствовали, заменяла их. К больным она относилась исключительно внимательно, никогда не повышая на них голос.
На собрании я изложила то, что стало происходить в поликлинике с приходом Чернявского и привела факты, доказывающие его нечестность, и то, что по его вине страдают больные. Я просила всё сказанное занести в протокол собрания, что и делалось. Все слушали очень внимательно. Я закончила свою речь. В кабинете стояла гнетущая тишина, как будто все перестали даже дышать – так было тихо. Я ждала, ждал Чернявский – коллектив не подавал признаков жизни.
– Есть ли какие вопросы? – хладнокровно спросил Чернявский, как будто не о нём была речь.
В ответ – гробовое молчание.
– Занесли ли всё в протокол? – спросила я.
– Занесли.
– Переходим к следующему вопросу. На повестке собрания… – спокойно продолжал заведующий собрание по текущим вопросам.
Такого я никак не ожидала. Я предполагала, что все зашумят, начнут переговариваться хотя бы друг с другом. Такой ропот и даже гвалт всегда был, когда нас давили сверху какими-то новыми требованиями. Оказывается, им была небезразлична только своя жизнь, свой заработок, а жизнь больных была безразлична. Я проработала с ними уже 20 лет и ни с кем не поссорилась, так как воевала только с начальством и старшей медсестрой. Я была всегда вместе со всеми, когда устраивали юбилеи, когда встречали Новый год в лесу, отдыхали на зелёной, ездили на экскурсию. Я фотографировала всю нашу жизнь и дарила всем фотографии. Меня считали хорошим диагностом, приводили ко мне всех своих родственников, молодые врачи консультировались по терапевтическим болезням. Я считала себя частью этого дружного в отдыхе коллектива, считая всех подобными себе, но моё выступление никто не поддержал. Оказывается, я не знала их.
После собрания я спросила Нину Ивановну Юрову, почему она, будучи участницей этих событий, промолчала.
– А меня никто не спросил, – ответила она, не смущаясь.
Так ответила моя подруга, которая писала замечательные стихи, которую я считала чутким и отзывчивым человеком.
Я уважала очень умного рассудительного врача Галину Васильевну Семенникову. С ней всегда было очень интересно беседовать, но она отреагировала на моё возмущение ещё более странно: "А что здесь особенного, Светлана Фёдоровна?"
Выходило, что поведение заведующего было нормальным явлением, а я была, не как все люди – "Белой вороной". Как страшно быть "не как все люди", быть "не от мира сего". Такие несут в своих генах печать шизофрении, и в конфликтных ситуациях у таковых развивается болезнь. Всё это время Чернявский хладнокровно добивал меня, срывая врачебную работу ради раздутой, как мыльный пузырь, всеобщей диспансеризации, демонстративно подчёркивая важность оформления документации. Кроме этого, в амбулаторных картах он писал диагнозы, противоположные моим, указывая своё громкое звание магистра. В это время у меня умер больной из-за отказа в медицинской помощи; врачи ставили ложный диагноз Пиголкиной Татьяне, убивающий её; на комбинате начальники безнаказанно издевались над рабочими. Работать было невыносимо
Я поняла, что плетью обуха не перешибёшь. Одна, без коллектива, я была бессильна что-нибудь изменить, а они разумно молчали, сохраняя свою нервную систему. Зато разбушевалась старшая медсестра, Валентина Кондратьевна, будучи всегда солидарна с начальством. Она уже в присутствии санитарок топала ногами и кричала, что меня уволят по 33-й статье. Однако, через несколько лет уволили за пьянство с работы по 33-й статье её дочь, затем и её по старости. Она не пережила позора, заболела, получив рак желудка, и умерла.
У меня не было обиды на свой коллектив. Мне просто очень захотелось уйти с работы, чтобы быть непричастной к грязным делам. 15 декабря 1988 года я подала заявление на расчёт по собственному желанию, а Чернявский подал на меня заявление в суд. Допризывник-подросток, который стоял у него на учёте перед службой в армии, написал в суд ложное свидетельство, что я в его присутствии оскорбляла Чернявского, то есть нарушала медицинскую этику. Судья Крылова Антонина Васильевна вызвала нас обоих на предварительное собеседование. Я сказала судье, что всё, что я говорила о Чернявском, я говорила на общем собрании, и всё занесено в протокол и известно всему коллективу, а в присутствии подростка мне говорить с заведующим было не о чем. Я ждала помощи от коллектива, а не от подростка. Чернявский сохранял олимпийское спокойствие при этом, а судья очень волновалась – ей необходимо было нас примирить. Я подумала, что если в суде судят так же, как у нас лечат, то мне из тюрьмы не выйти. Я торопилась на работу, и, чтобы успокоить судью, мы пожали друг другу руки, как бы заключая мир.
С этого момента у меня появился страх, постепенно выливающийся в бредовые идеи преследования. Я понимала, что заболеваю. Если на меня можно было написать ложное заявление в суд, то почему нельзя подбросить в стол наркотики? Кабинет и стол не запирались, любой мог прийти и бросить в стол наркотики. Мог найтись ещё один продажный допризывник или двое, которые в суде скажут, что я продавала им наркотики. У страха глаза велики. Мне стало казаться, что мой голос как-то необычно раздаётся в кабинете, как будто появилось эхо. "Это прослушивающая аппаратура", – подумала я. – "Надо быть осторожнее в словах, придерутся к слову". В кабинете стояли какие-то шкафы – надо проверить, не появилось ли там чего-то подозрительное. Выйдя на улицу, я петляла, как лиса, заметающая следы. Мчащиеся по улице автомобили тоже имели ко мне какое-то отношение, и я боялась их.
Мне казалось, что за мной следят те, которым выгодно спекулировать лекарствами и наживать своё состояние на несчастье больных. Мама заметила, что я постоянно оглядываюсь. "Значит, надо перестать оглядываться, а то все заметят моё сумасшествие". Это надо скрыть, и я скрывала, ни с кем не делясь своими страхами. Я с трудом дорабатывала свои дни. С 1 января я просила очередной отпуск, затем отпуск за свой счёт по уходу за внуком, и т. д. Надо было как-то просуществовать два месяца до расчёта, не выходя на работу. В коллективе я никому ничего не говорила, как будто ничего не произошло, а мотивировала свой уход тем, что мне необходим длительный отдых перед предстоящей операцией по удалению быстро растущей опухоли.
Говорят, что психически больной не замечает своей болезни, считая себя здоровым, принимая и бред и галлюцинации за реальность. Но это касается только тех больных, которые не знают симптомов болезни. Я хорошо знала симптомы шизофрении со студенческой скамьи и понимала, что больна, что всё происходящее – бред больной души. Я видела себя со стороны и считала своим долгом скрыть болезнь. Для этого надо имитировать поведение здорового человека, вести образ жизни нормального человека, говорить о том, о чём говорят все, и молчать том, что я думала, ощущала, видела. Однако, сосредоточить своё внимание я не могла, так как произошла дезорганизация мышления. Например, в Заречном я не могла списать цифры со счётчика и сосчитать плату за электроэнергию. Я считала и пересчитывала, но получались постоянно разные цифры. Мать обиделась и сказала: "Ты что, с ума сошла?" У неё была такая поговорка."Ну и считай сама, коли я с ума сошла", – сказала я спокойно, перестав заниматься таким бесполезным делом. Мама всегда считала сама, и мой отказ приняла за нежелание считать, а не за невозможность этого. Я сделала вывод, что нельзя заниматься делами, которые требуют внимания. Так я корректировала своё поведение, чтобы ничего не было заметно.
Но вот наступала ночь, и я оставалась один на один с "Этим". Я чувствовала, что стены и потолок моей комнаты прозрачны, я открыта со всех сторон, и меня пристально рассматривают, как маленькую букашку. Мне не было страшно, потому что "Это" было настолько велико и могущественно, что имело возможность, не причиняя никому вреда, оставаться всевластным, вечным и непоколебимым. "Это" не имело образа и никаких очертаний и поэтому пронизывало всё пространство и знало обо мне всё: все мои мысли и дела были у него как на ладони. Я не могла назвать "Это" Богом, так как не знала Бога и не имела понятия о нём. Сравнить "Это" мне было не с чем, но мне хотелось его как-то обозначить. Больше всего "Это" походило на Мысль, которая жила в моей голове, то есть пришла в мою больную голову, но эта мысль была точно не моя. Свои мысли я всегда бы узнала по их изменчивости и колебаниям. Они всегда метались, в них не было уверенности, были сомнения, они долго боролись друг с другом, пока не приходили в согласие. Эта же "Мысль" была как сама реальность, как незыблемый закон. Так возникли симптомы, известные в психиатрии, как "отчуждение мыслей" и "навязывание мыслей".
Я сама раздвоилась, и меня стало двое. Одна из меня была наблюдающим врачом и следила за другой, которая сходила с ума. Однако и та и другая были всё-таки одна и та же "Я". (Симптом раздвоения личности). Мало этого, раздвоилось и время, разделившись на прошлое и будущее, в котором одновременно существовало моё "Я". Настоящего уже не было, и из будущего моё "Я" видело его, как далёкое прошлое: в холодном бездонном космосе вращалось (как и всё в нём вращалось), огромное колесо – мёртвый бездушный механизм, в котором по мёртвой безжизненной схеме протекала жизнь, нет, не жизнь, а деятельность людей. Жизни там быть не могло, так как люди эти были все мертвецами (потому, что это уже было прошлым) и поэтому ничего не могли изменить, а действовали, как автоматы по заданной им инструкции. Механизм этот давно испортился, и поэтому поступки их были абсурдными, но они не замечали этого, так как были мертвы. Живой была я одна, обитая сразу в двух мирах, и поэтому страдала. Это был ад, в который я была помещена за какую-то провинность, и та другая, которая в будущем, жалела ту, которая оставалась в прошлом. Я просила "Это" избавить меня от мертвецов, а для этого я должна была сдать экзамен. Всё описанное не было галлюцинацией. Галактический бред происходил в моём сознании. И моё третье "Я" отчётливо видело себя в тёмной комнате, на своём диване. Я знала, что не сплю, а мучаюсь бессонницей, и меня накрывает с головой моя болезнь. Экзамен происходил каждую ночь, и происходил только в моей голове. От этого нельзя было никуда уйти. Мне задавали страшные по своей сложности вопросы, которые требовали огромного напряжения мысли. При этом мне казалось, что надо мной довольно добродушно подсмеиваются, так как я дерзнула решать глобальные вопросы жизни, имея ничтожный уровень знания.