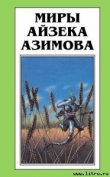Текст книги "Бегемот"
Автор книги: Владимир Дяченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Во время второго урока Сергея Петровича вызвала из класса в коридор Анжелика Александровна и как-то особенно по-деловому, сухо, сказала ему:
– Сергей Петрович, я только что узнала, что наша школьница… Любовь Довостребования… сегодня утром в больнице умерла… Сергей Петрович, мне только что звонил Ласточкин… А после Ласточкина звонили из прокуратуры… Они… Всеволод Всеславович и следователь хотят с вами поговорить. Они вот-вот… с минуты на минуту… должны приехать. Так что, будьте добры, пожалуйста, после урока зайдите ко мне в кабинет. Я понимаю, что вы ни в чём не виноваты, но всё-таки… сами понимаете…
Сергей Петрович пообещал Анжелике Александровне, что зайдет, но не зашёл, а сразу после урока из школы сбежал. Так как во дворе школы стояла Анжелика Александровна, видимо, в ожидании Ласточкина и следователя из прокуратуры, то пришлось Сергею Петровичу убегать по крышам гаражей, окружавших школьный стадиончик.
Только уже дома Сергею Петровичу в голову пришла мысль, что, быть может, Анжелика Александровна ошиблась, или он сам ошибся и не правильно её понял.
Но когда он дозвонился в городскую больницу, и голос в телефонной трубке подтвердил, что Любовь Довостребования действительно сегодня утром умерла, Сергей Петрович, совершенно уже потеряв себя для этой жизни, разобраться в которой у него не было сил, прихватив с собой ружьецо, поехал к отцу.
Отец Сергея Петровича – Пётр Анисимович Жилин – всю жизнь проработал лесником, и Сергей Петрович с самого своего рождения жил с отцом и матерью в бревенчатом доме посреди глухого леса. А в школу, в ближайшее село, за пятнадцать километров, добирался так: летом на велосипеде, зимой на лыжах, а весной и осенью, известно как: наворачивая на кирзовые сапоги тяжёлые комья размокшей земли.
После смерти жены, матери Сергея Петровича, Пётр Анисимович одиноко жил в лесу, в доме, который построил собственными руками ещё в молодости. У него была немалая – в тридцать ульев – пасека, так что, как знал Сергей Петрович, отец не бедствовал; а бывало, что и сыну-учителю подбрасывал на праздники деньжат.
Сергей Петрович трясся в кузове грузовика, кутаясь в огромный овечий тулуп, вглядывался сквозь пелену колючих снежинок в знакомые пространства, смахивал с ресниц ледяные капли, думая о той, кто безвозвратно умерла.
Ему хотелось, чтобы вся его прошедшая жизнь сегодня закончилась и началась новая жизнь в лесу у отца: и он бы, как в детстве, помогал ему во всём, а потом, когда отец уйдёт на пенсию, сам стал бы лесником. Эта его будущая жизнь казалась ему сейчас простой и счастливой.
О Любе Сергей Петрович мог думать сейчас только то, что он не хочет больше о ней думать, что как было бы хорошо совсем о ней забыть, забыть её лицо, её голос, её глаза, забыть то, как она ему говорила: «Сергей Петрович, я люблю вас… Вот увидите, я ещё заслужу вашу любовь…»
Но как ни хотел он сам сейчас забыть о Любе, его рука помнила прикосновение Любиных губ и как-то по-особенному была горяча. Сергей Петрович злился на свою руку, он даже снял с неё рукавицу для того, чтобы его рука побыстрее протрезвела и забыла на морозе Любины губы. Он растирал руку снегом до крови, но ничего с ней поделать не мог. Рука была пьяна Любиным поцелуем и не собиралась о нём забывать, а только назло Сергею Петровичу и морозу, крепче цеплялась за воспоминание и оттого от счастья пьянела всё больше.
Чем дальше он шёл по наезженной машинами колее, припудренной свежим снежком, среди знакомых ему с детства деревьев, тем больше одна новая мысль развлекала и всё больше увлекала его. Сергей Петрович под гипнозом своей новой мысли свернул с дороги в лес, продолжая думать о своём новом увлечении.
Он вышел на полянку, постоял, глядя вокруг себя, словно чего-то ждал. Вокруг него тихо засыпал прозрачный заснеженный лес: солнце уже садилось, красные отблески неба отражались в чёрных стволах деревьев. Он снял с плеча чехол, собрал ружьё, зарядил оба ствола новенькими красными патронами, взвёл холодные курки, снова вспомнил Любочку, её глаза, и неожиданно для себя заплакал так легко, что в его груди от этих слёз вдруг ожило и зашевелилось забытое им ещё в далёком детстве, какое-то соленное смирное счастье. Ружейные чёрные стволы удачно поместились во рту, обожгли морозом и тут же прилипли к языку и губам Сергея Петровича. Рука, на прощание ещё раз вспомнила Любины губы Любы и приготовилась нажать на гашетку.
Вдруг незнакомый женский голос в тишине леса, совсем рядом с ним, сказал:
– Сережа, что ты делаешь?
А потом крикнул:
– Сережа, подожди!
А потом ещё раз:
– Сережа!
Сергей Петрович очень хорошо запомнил, как тогда он поднял глаза и увидел перед собой молодую женщину в длинной серебристой шубе нараспашку, как он всё не мог вспомнить, кто же она, хотя он знал, что он её знает, как в его голове тогда в один миг вдруг сошлись вместе две мысли: что сейчас здесь в лесу он делает что-то очень стыдное, чего никто не должен был увидеть, и что нужно как можно скорее оправдаться и объясниться сейчас перед этой женщиной.
Сергей Петрович опустил ружьё и улыбнулся.
– Я ничего… Я так… Я только… Я сейчас… – заговорил Сергей Петрович, чувствуя, как тёплая кровь течёт по его подбородку.
А потом он сидел в куда-то едущей машине, в тепле, и всё старался оттереть с ружейных стволов кровь. Он уже знал, что женщина в серебристой шубе – Мальвина Кузнецова; она всё оглядывалась на него и спрашивала: «Сережа, тебе плохо? Что с тобой?» Сергей Петрович всё хотел попросить, чтобы она никому не говорила о том, что видела. И чтобы особенно она не говорила об этом Лилечке и Верочке, не говорила отцу и не говорила Любе, а потом он вспомнил, что Люба уже умерла и её можно уже не стыдиться.
Проснулся Сергей Петрович уже в больничной палате. Пожилой врач с усталым, безразличным лицом, долго осматривал Сергея Петровича, прикладывал своё волосатое ухо то к его груди, то к спине, стучал пальцами по его горячему телу. Мальвина, словно она была его матерью или женой, вытирала его лицо мокрым, пахнущим мылом полотенцем, целовала его лоб, глаза, отчего-то смотрела на него так, словно вот-вот собиралась заплакать, и, наклоняясь к нему, как и Люба, целовала его руку, и ему казалось, что его рука предаёт сейчас Любу, и он всё отнимал и отнимал у Мальвины свою руку.
Когда врач ушёл, Сергей Петрович снова провалился в сон, и снова он куда-то ехал в машине, всё искал своё куда-то пропавшее ружьё, а проснулся уже оттого, что его разбудила Лилечка. От жены Сергей Петрович узнал, что у него воспаление лёгких и что Люба Довостребования в морге ожила.
Лилечка ещё долго говорила, рассказывала Сергею Петровичу о том, что приказ о её увольнении даже чуть было не подписал Ласточкин, пересказывала Сергею Петровичу все сплетни о нём и о Любе, говорила, что «празднует победу над своими тайными недоброжелателями», которые «теперь посрамлены». Под конец Сергею Петровичу досталось от Лилечки и за побег из школы, и за то, что он простудился ночью в школьной мастерской.
Позже, когда Сергей Петрович стал выздоравливать, он узнал подробности чудесного Любиного воскресения из мёртвых: санитары, пришедшие в морг, нашли Любу живой, она дрожала всем своим большим телом, и спокойными ласковыми глазами встретила пришедших; она не была испугана и даже не простудилась, а в тот же самый день сбежала из больницы домой не только вполне здоровой, но и отчего-то даже как бы радостной.
15В первый же день, когда Сергей Петрович после своей болезни вернулся в школу, Люба пришла к нему в мастерскую.
– Здравствуйте, Сергей Петрович! – громко сказала Люба и улыбнулась ему какой-то особенной, счастливой улыбкой.
– Здравствуй, Люба…
– Простите меня, Сергей Петрович!
– За что, Люба, я тебя должен извинить? – Сергей Петрович хмурился, прятал глаза, старясь показать Любе, что ему сейчас не хочется с ней говорить.
– Я люблю вас, Сергей Петрович, а когда любишь, нужно меняться, нужно трудиться менять себя и внешне, и внутренне, – Люба продолжала улыбаться. – Вы думаете, мне легко было тогда сказать вам, что я вас люблю? Сергей Петрович, когда я лежала в реанимации, я очень много думала. И поняла, что вы никогда не полюбите меня. И поэтому я умерла. Вот за это я и прошу меня простить…
– Как умерла? Как же умерла? – улыбнулся в свою очередь Сергей Петрович, уже не отрываясь, глядя на Любу. – Ты же тут, живая…
– Нет, нет, я умерла. Я на самом деле умерла. А это уже не я. Это совсем другой человек. Это другая Любовь Довостребования. Разве вы не видите? А та, что была, та умерла. Она умерла, потому что не верила, что вы сможете полюбить её, а я знаю, что вы можете полюбить меня. Вот увидите, Сергей Петрович, я ещё заслужу вашу любовь!
Теперь Люба каждый день приходила в мастерскую к Сергею Петровичу, говорила ему о своей любви и даже приглашала его к себе домой. По её словам, выходило, что отец её всегда был в командировке, а мать всегда работала в ночную смену в больнице.
– Вы не бойтесь, – говорила Люба, – мама всё знает, она понимает меня. Моя мама говорит, что если любишь человека, то нужно делать для него много хорошего. Хотите, Сергей Петрович, я вам рубашку постираю или носки заштопаю? А хотите, я вам борщ сварю?
Сергей Петрович отмалчивался, каждый раз надеясь, что разговор без его ответов закончится быстрее, но каждый раз оказывалось, что о своей любви к нему Люба могла говорить и без его ответов.
Люба приносила в мастерскую пирожки собственного приготовления. Сергей Петрович съедал их прямо у Любы на глазах, чтобы только поскорее от неё отделаться. А однажды Люба после уроков даже притащила в сумке в мастерскую целый обед: стеклянную банку с борщом, алюминиевую кастрюлю с картофельным пюре и котлетами.
– Сергей Петрович, я ведь знаю, что мужчины любят за обедом пить водку… – сказала Люба и поставила на верстак запотевшую бутылку.
Увидев водку, Сергей Петрович не выдержал: он раскричался и вытолкал Любу из мастерской вместе с её обедом и водкой, но потом успокоился, зазвал назад в мастерскую рыдавшую в школьном дворе на морозе Любу, и взял с неё слово, что «она отныне, когда будет встречать его в школе, не будет больше так по-идиотски улыбаться ему», а потом, даже как-то неожиданно для самого себя, покорно всё съел – и простывшие на морозе борщ, и пюре, и котлеты, и даже выпил водки, стараясь не поднимать своих глаз на Любу, чтобы не наткнуться на её ласковые заплаканные глаза.
Люба так долго, может быть, даже целую неделю, не приглашала его к себе домой, что Сергей Петрович решил, что большее зло – её дом – уже миновало его, а с меньшим и довольно-таки приятным злом – ежедневными Любочкиными обедами – можно и примириться. Главное, чтобы об этих обедах никто в школе не узнал.
Надо сказать, что сама Люба после своего чудесного воскресения переменилась: теперь она всегда находилась в каком-то особенно весёлом и даже счастливом состоянии духа, радостно и с удовольствием общалась с одноклассниками и, хотя она всё ещё оставалась толстой девочкой, даже очень толстой, теперь ей часто говорили: «А ты, Люба, похудела»; а тот, кто давно её не видел, иногда даже и не узнавал.
В тот день, когда жизнь Сергея Петровича переменилась и переменилась совершенно неожиданным образом, Любочка застала Сергея Петровича в мастерской, как раз тогда, когда он осторожно выглядывал в окно, гадая, ушла Люба домой или караулит его возле школы.
– Сергей Петрович, если вы сегодня вечером свободны, приходите ко мне, – весело сказала Люба. – Мой папа из Астрахани привёз икры, а я хочу блинов гречневых напечь. Вот мы с вами и поедим икры с блинами. Я уже и водку в холодильник с утра поставила. Я ведь знаю, что мужчины любят водку пить холодной. А ведь водка будет хороша под икру с блинами, правда? И я с вами выпью немножко, чтобы не отрываться от компании, хорошо? И ещё я сегодня, Сергей Петрович, буду печь печенье. Приходите ко мне, чайку попьём, музыку послушаем, поговорим. Папа уехал в командировку, мама сегодня будет на ночной смене, так что мешать нам никто не будет…
– Люба, спасибо тебе за твоё приглашение, но я сегодня очень занят…
– Поцелуйте меня, пожалуйста, Сергей Петрович! – вдруг попросила Люба.
Она стояла, заглядывая в его глаза, и ждала, что он ей ответит, но Сергей Петрович так напряжённо смотрел в окно, что Люба не выдержала и снова заговорила:
– Вы знаете, Сергей Петрович, когда любишь человека, то почему-то очень хочется, чтобы он тебя поцеловал. Чтобы он был рядом с тобой, чтобы он был сыт, обстиран, обштопан, чтобы ему было хорошо… Ведь правда?
– Ну, да, Люба, конечно.
– Вот и мне хочется, чтобы вы меня целовали… Я бы вам пироги пекла, стирала, убирала в квартире, а вы бы меня иногда целовали. Разве это плохое желание, Сергей Петрович?
– Да нет, Люба, вроде бы, не плохое.
– Вот и приходите ко мне сегодня вечером, Сергей Петрович, только не «вроде бы», а на самом деле приходите. Разве я виновата в том, что я вас полюбила навсегда, до гробовой доски? Я клянусь вам, я буду вам верна вечно, а потом буду верна вам и после вашей смерти, вот увидите. Так вы придёте?
Когда Сергей Петрович сказал, что нет, не придёт, Любочка разрыдалась и убежала из мастерской, но, как видел сквозь окно Сергей Петрович, убежала недалеко, и теперь мёрзла на лавке в школьном дворе, иногда печально взглядывая на окна мастерской. Чтобы не угодить в Любочкину засаду, пришлось Сергею Петровичу снова убегать из школы по заснеженным скользким крышам гаражей, окружавшим школьный стадиончик.
Убегая от Любы, Сергей Петрович неудачно спрыгнул с гаражной крыши в сугроб, подвернув ногу и, оглядываясь на школу – не заметила ли его Любочка – похромал домой.
Но в этот день не суждено было Сергею Петровичу ночевать дома в своём спальном мешке. Из обогнавшей его и резко остановившейся впереди чёрной машины, вышла женщина в серебристой длинной шубе и пошла ему навстречу, в руках у нее было ружье.
– Сергей, – сказала Мальвина, остановившись перед Сергеем Петровичем, и на её лице Сергей Петрович увидел какое-то странное волнение, какого он за всю свою жизнь ни на одном лице прежде не видел: Мальвина то ли собиралась рассмеяться, то ли заплакать. – Сергей, давайте я вас подвезу.
– Да нет, спасибо… Мне недалеко… Зачем же? – пробормотал Сергей Петрович, глядя на ружьё.
– Пожалуйста, давайте я вас подвезу… Пожалуйста… Сережа, я приехала, чтобы вернуть вам ружьё, то есть не вернуть, а возместить ущерб, который я вам принесла. Ваше ружьё я выбросила с моста в речку. Понимаете, я так тогда боялась, что вы снова захотите попробовать ещё раз застрелиться… Вот я и выбросила его… Вот, возьмите… Это вам… – она подала Сергею Петровичу ружьё.
Сергей Петрович взял из рук Мальвины потрёпанное жизнью ружьецо с ореховым, словно маслянистым, ложем, с чёрными, как-то особенно ладно сработанными стволами.
– Это ружьё моего отца, – сказала Мальвина. – Он подарил мне его, когда я училась в институте. А теперь я хочу, чтобы оно было твоим, Сережа. У меня и документы на него есть.
– Джеймс Перде и сыновья, – прочитал вслух Сергей Петрович надпись на колодке».
16Рассказчик помолчал и продолжил: «Он стал её любовником…» Рассказчик так осторожно сказал это: «Он стал её любовником…», так обтекаемы были эти его «он» и «её», что Сергей Петрович вздрогнул, ему вдруг показалось, что Лилечка уже не спит. Сергей Петрович осторожно скосил глаза на жену. Разглядев в темноте её спящее лицо, он стал думать, отчего же рассказчик так осторожно сказал, если Лилечка спит и не слышит этих его слов: «Он стал её любовником…». Рассказчик, подумал Сергей Петрович, вполне мог сказать и так: «Сергей Петрович Жилин, учитель труда и домоводства, стал любовником Мальвины Амвросьевны Кувшинниковой, в девичестве Кузнецовой, генеральской дочери, а ныне жены олимпийского чемпиона и миллионщика из новых, самого Кувшинникова…» Да, он вполне мог бы начать именно так. А мог бы и так: «Она стала его любовницей», а ещё лучше так: «они стали любовниками», – перебирал слова Сергей Петрович.
Рассказчик то ли обиженно, то ли задумчиво молчал, словно ожидая, пока Сергей Петрович передумает свои мысли. Затем рассказчик откашлялся и заговорил:
«Нн-да… Ну, так вот… Э-э-э… Да, он стал её любовником… И спустя десять лет Сергей Петрович Жилин узнал, что генеральская дочка Мальвина Кузнецова приходила в общежитие на день рождения Веры Ройфэ с твёрдым намерением признаться ему в любви. И если бы Лилечка тогда ей не помешала, то, может быть, она на это окончательно тогда и решилась. Мальвина рассказала ему, что она с тех пор всё время помнила о нём и как она тогда испугалась, когда увидела Сергея Петровича на открытии бассейна, куда она была приглашена вместе с мужем.
Мальвина рассказала ему и о том, как она, проведав мужа в больнице и уже выезжая из Н., узнала в заснеженном человеке, стоявшем на обочине дороги, Сергея Петровича. Как она хотела вернуться к нему, и даже обязательно бы вернулась, но, увидев, что он уже забрался в кузов грузовика, долго ехала вслед за грузовиком и смотрела, как он всё кутался в огромный тулуп, и как, почувствовав что-то неладное, пошла вслед за ним в лес. Рассказала и о том, что она всё собиралась приехать в Н. и всё никак не могла придумать повод к встрече, а когда додумалась до ружья, то тут же и приехала.
Сам Сергей Петрович по многу раз рассказывал Мальвине о Любе Довостребования, о том, почему он тогда оказался в лесу, и она внимательно слушала его, улыбаясь усталой и счастливой улыбкой.
Если бы Сергей Петрович мог наблюдать за собой со стороны, он бы удивился, увидев, как быстро Мальвина Кузнецова преобразила угрюмого, отравленного мыслью о нечестном возвышении жены, человека, который уже и не верил в то, что в его жизни хоть что-нибудь перемениться к лучшему, в того Сережу Жилина, с которым она когда-то танцевала в общежитии. В его глазах появился какой-то особенный блеск, по которому можно безошибочно узнать человека, которого только и ждёт в свои объятия жизнь, чтобы расцеловать и приласкать.
Если бы Сергей Петрович не был в это время так увлечён своей вдруг начавшейся новой тайной жизнью, он вполне мог заметить новые искорки в глазах директрисы Анжелики Александровны: искорки, которые звали его к перемирию. Надо сказать, что Сергей Петрович так и не извинился перед Анжеликой Александровной за свою «дуру», потому что ждал, что она первой перед ним извиниться за то, что играла с ним в кошки-мышки, а не напрямую сказала о том, что ей было известно. А с Любой Довостребования, которая после третьей четверти уехала «худеть ради него» в какой-то «специальный санаторий», он так и не простился.
Со школьницами у Сергея Петровича тоже вдруг сложились новые отношения – он уже не краснел и не опускал глаза под пристальным взглядом своих учениц, а в ответ им даже сам подмигивал, а бывало, что скраивал иногда такие рожи, что ученицы сами краснели и опускали глаза, а некоторые так и вовсе пулей вылетали из класса…»
Рассказчик замолчал. Сергей Петрович услышал или, скорее, даже почувствовал, что рассказчик улыбнулся. Улыбнулся в темноте улыбке рассказчика и сам Сергей Петрович. Он даже с удовольствием улыбнулся его улыбке, потому что догадался, о чём речь пойдёт дальше. Сергей Петрович даже тихонько засмеялся в темноте от удовольствия, но, испугавшись, что своим смехом разбудит жену, замолчал. Рассказчик же, выдержав паузу, ещё несколько раз улыбнулся и заговорил:
«Нн-да… Так вот… Однажды Мальвина Кувшинникова призналась Сергею Петровичу и, как она сама сказала, «призналась как о чём-то стыдном» в том, что она пишет роман. Да-да, пишет самый настоящий роман страниц эдак в триста, и называется этот её роман «Правдивая история вертоградаря Ю»… Нн-да… Такое вот было у него название…
Теперь на своих свиданиях Сергей Петрович и Мальвина вслух читали друг другу главу за главой, и Сергей Петрович так увлёкся романом Мальвины, что целыми днями только о нём и думал. Они спорили до сипоты, ругались, мирились, и даже и представить теперь уже было нельзя, чем бы они занимались на своих свиданиях, если бы не этот роман… – рассказчик тихонько засмеялся. – Нн-да… Не могу умолчать и о самом романе… Даже, кажется, никак нельзя мне его обойти и пусть, хоть и вкратце, а придётся-таки его пересказать…»
Сергей Петрович приготовился слушать.
17Рассказчик шутливо откашлялся и пробормотал:
«Начнём, пожалуй, с самого начала… Нн-да… А начинался роман – вот именно с этих слов… – рассказчик ещё раз откашлялся, на этот раз уже, кажется, не шутливо, и громко, и отчётливо продолжил:
– И в столице и в богом забытой горной деревушке Поддинской империи можно услышать, как люди говорят друг другу: «Ну, что ты расстроился, как вертоградарь Ю?» или «Я заплатил свой императорский налог хризантемами». Все в Поддиной понимают эти странные и бестолковые для варваров выражения. Многие поддинцы даже слышали о книге вертоградаря Ю «Руководство для тех, кто желает вырастить белые императорские хризантемы», а самые любознательные жители Поддиной её даже читали; но во всей Поддинской империи есть только один человек, кто мог бы рассказать правдивую историю вертоградаря Ю. Этот человек – я, ваш покорный слуга…
Эту историю я получил в наследство от моей бабушки и, по сложившейся в нашей семье традиции, должен передать её своим внукам. Но так как у меня нет ни детей, ни внуков, а сам я уже такой ветхий старик, что все мужчины и женщины Поддиной, даже самые старые из них, кажутся мне моими внуками и внучками, я, нарушая древнюю традицию моей семьи, решаюсь передать правдивую историю вертоградаря Ю моей большой семье – великому народу Поддиной».
Рассказчик печально вздохнул, словно у него самого тоже не было ни детей, ни внуков, ни братьев, ни сестёр, а был у него на всём белом свете один только Сергей Петрович и продолжил:
«Всем в Поддиной известно, что Ю родился в деревушке, затерянной среди высоких, покрытых вечными снегами гор, так что с самого детства ему казалось (он об этом сам напишет позже в своей книге), что живёт он среди огромных белоснежных хризантем.
Также вполне достоверно известно, что у отца Ю, бедного крестьянина, было две жены, родивших ему в один год, в один зимний месяц Вью, по ребёнку. Одним ребёнком был сам Ю, а вторым его сводная сестра Ву Ли.
Известно и то, что в детстве Ю любил вместе с деревенскими мальчишками играть в пи-по, лазать по деревьям, драться на бамбуковых палках, удить рыбу, то есть любил делать всё то, что любят делать мальчишки по всей Поддиной.
Известно и то, что с самого раннего детства Ю проявлял особую любовь и заботу к белым хризантемам и к своей сводной сестре Ву Ли. Свою первую белую хризантему Ю вырастил, когда ему было всего 5 лет, а когда ему исполнилось 10 лет, он признался в любви Ву Ли. И они поклялись друг другу, что когда вырастут, то станут мужем и женой, и будут любить друг друга всю жизнь, до самой смерти.
И кто знает, может быть, так всё и случилось, если бы два года спустя в горную деревушку не пришли сборщики императорского налога в сопровождении военного отряда под командованием офицера Ци.
Когда выяснилось, что деревня задолжала императору за много лет столько золотых го, что не сможет выплатить налог, офицер Ци, человек с железными зубами и железным протезом вместо левой руки, приказал своим солдатам забрать из деревни всех красивых девушек, продать их на базаре, а вырученные деньги отдать в императорскую казну.
Деревня безропотно подчинилась приказу, и только один Ю, когда узнал, что солдаты забрали Ву Ли, догнал отряд на горной дороге и с садовым ножом в руке бросился на офицера Ци. Но офицер Ци только рассмеялся – на солнце блеснули его железные зубы – и влепил мальчишке такой подзатыльник своей левой железной рукой, что Ю замертво упал в дорожную пыль.
На столичном базаре торговля деревенскими девушками пошла бойко, не то что в нищей провинции. Двух девушек сразу же купил владелец цирка, четверых – хозяйка весёлого квартала, а предпоследнюю – торговец рыбой. И только Ву Ли никто не мог купить, слишком уж много золотых го приказал выручить за неё офицер Ци. Ближе к вечеру, когда слухи о красоте Ву Ли облетели всю столицу, её сторговал и увёз в императорский дворец смотритель императорского гарема Су.
Большинство жителей Поддинской империи имеет об императорском гареме весьма превратное представление. В их воображении гарем есть обитель сластолюбия, лени и опиумокурения. Но это так же похоже на правду, как и представление гражданских лиц о войне, как о бесконечной лихой атаке непобедимой поддинской конницы, летящей навстречу врагу с криком «Ай-да-а!», от которого в жилах варваров стынет кровь.
На самом же деле жизнь в гареме не слишком-то и отличается от жизни людей в любом другом месте. Далеко не все насельницы императорского гарема становятся наложницами императора. Многие из них стареют, так ни разу и не побывав в Северном павильоне, а, постарев, становятся банщицами, портнихами, поварихами, прачками, гладильщицами, белошвейками, вышивальщицами и проч. – то есть всей той бессчётной обслугой, которая толчётся в гареме с утра до вечера.
Когда Ву Ли привезли в гарем, все насельницы гарема сразу же решили, что «эта деревенская худышка», говорившая на своём квакающем южно-поддинском наречии так, что её почти никто и не понимал, конечно же, никогда не станет наложницей императора.
Да и разве можно было сравнить её с нынешней императорской фавориткой Дунь, дочерью главного императорского вертоградаря У, известной поэтессой и утончённой красавицей, чьи роскошные волосы доставали до самого пола. Поговаривали даже, что её волосы любил распускать и расчёсывать сам император Ы в то время, когда Дунь читала ему свои стихи.
Ву Ли по своей деревенской привычке подчиняться каждому, кто приказывает, сама того не зная, с первого же дня своей жизни в гареме, попала в свиту к Дунь. Теперь она целыми днями занималась тем, что мыла полы в покоях Дунь, носила ей в тазу горячую воду для умывания, прислуживала ей за столом.
И так бы Ву Ли и осталась безропотной служанкой императорской фаворитки, если бы однажды Дунь не поручила ей расчесать свои знаменитые волосы.
Как потом рассказывала сама Ву Ли, всё вышло так: когда она закончила расчёсывать волосы Дунь, сама Дунь сказала ей: «А теперь, деревенщина, срежь мои волосы», и, подчиняясь приказу, Ву Ли взяла ножницы и отрезала волосы Дунь у самой шеи. Дунь же говорила, что она сразу поняла, что «эта новенькая – змея подколодная», что она не говорила ей «обрежь мои волосы», а сказала только «свяжи мои волосы».
То ли Дунь действительно оговорилась (как известно, с поэтессами это случается чаще, чем с обычными людьми), сказав «срежь» вместо «свяжи», то ли Ву Ли нарочно решила отомстить капризной Дунь, которая целый днями только то и делала, что измывалась над ней, но после того как Дунь осталась без волос, в гареме случилась самая настоящая драка. И хотя Ву Ли была четырьмя годами младше Дунь, в обиду она себя не дала: на щеках обеих красавиц в конце драки насельницы гарема не без удовольствия насчитали равное количество царапин и синяков.
Об этой драке вскоре узнал весь дворец, так что главный смотритель гарема Су был вынужден сообщить о случившемся самому императору Ы.
Весь гарем с любопытством ожидал высочайшего решения императора Ы: все были почему-то уверены в том, что теперь Ву Ли непременно казнят и казнят самым жестоким образом – отрубят ей голову. Но император Ы только рассмеялся, узнав о случившемся, он долго выспрашивал у Су подробности драки, расспрашивал об «этой новенькой», и велел Су пригласить этим же вечером в Северный павильон «эту пикантную дикую пейзанку».
Всего за четыре года, с тех пор как в гареме появилась Ву Ли, жизнь гарема сильно переменилась. Теперь в нём не было воюющих между собой кланов, объединявшихся возле фавориток и фавориточек императора. За четыре года девочка из горной деревушки сумела подчинить себе весь гарем. Стоило ей только нахмурить свои чёрные брови, как в гареме затихали все перебранки, так что главному смотрителю Су совсем стало нечего делать; даже сам император Ы теперь приглашал к себе наложниц только с согласия Ву Ли. Дело дошло даже до того, что император Ы всю весну приглашал в Северный павильон одну только Ву Ли, чем вызвал даже ропот среди остальных насельниц гарема.
Вновь прибывшим в гарем девушкам (предварительно предупредив, что если об этом узнает Ву Ли, то сплетницам не поздоровится), шёпотом рассказывали, что в первый раз к императору Ы в Северный павильон будущая всесильная императорская фаворитка Ву Ли явилась с расцарапанными щеками и синяком под левым глазом. И совсем уже тихо, так тихо, что можно было только по движению губ разобрать слова, уточняли, что царапины и синяк на лице Ву Ли были делом рук Дунь. Дунь же теперь была всего лишь одной из многих наложниц, и ей самой теперь приходилось прислуживать Ву Ли, если той этого хотелось. И если император Ы правил всей Поддиной, то, как поговаривали при дворе, над императорским гаремом безраздельно властвовала Ву Ли. Многие высокопоставленные вельможи даже заискивали перед ней, зная, что она была одним из тех немногих людей в империи, к мнению которых император Ы прислушивался.
Однажды, когда в императорском вертограде стояла блаженная послеобеденная тишина и на землю при каждом дуновении ветерка падали белые нежные лепестки, император Ы отдыхал в Северном павильоне от государственных дел, любовался цветущими сливами, сочинял стихи, а императорская фаворитка Ву Ли записывала их.
Перед Северным павильоном молодой вертоградарь поливал из лейки белые императорские хризантемы, да так искусно и ловко, что даже сам император залюбовался им и тут же стал диктовать Ву Ли своё новое стихотворение о молодом вертоградаре, его старой лейке и белой хризантеме. Вдруг император Ы услышал хруст шёлка и оглянулся: Ву Ли медленно, словно её внезапно одолел сон, упала в ворох бумажных свитков; из её носа на свежие, ещё влажные стихи императора, выбежали две струйки крови…
Император Ы взял кисточку, обмакнул её в кровь Ву Ли и написал на белоснежной рисовой бумаге четверостишие, известное ныне всем школьникам Поддинской империи:
Опустела лейка в руках молодого садовника —
Всю воду до последней капли, выпили белые хризантемы.
В тушнице закончилась чёрная тушь.
Возьму кисточку, буду писать красной тушью…
Только после того, как император Ы дописал своё стихотворение, он вызвал в Северный павильон главного императорского врача Ги.