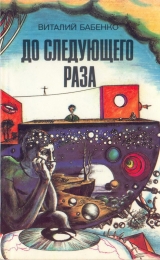
Текст книги "До следующего раза (сборник)"
Автор книги: Виталий Бабенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
– Понятия не имею. Сейчас посмотрю. Так, академиком он стал в двадцать седьмом, то есть девятнадцать лет спустя.
– И сколько же ему было, родимому? – Я чувствую, что ирония внутри Анфисы уже перегорает в желчь.
– Тридцать четыре года.
– Тьфу! – Анфиса с треском шлепает пеленки на стол и выходит в кухню. Почему-то в последнее время возраст автора стал для нее важнейшей характеристикой при оценке произведения науки или искусства.
Я продолжаю читать Тарле:
«И до настоящего времени историческая мысль смущается этим противоречием. Какая-то настойчивая объективная целесообразность и вместе с тем совершенно нелепый, совершенно иррациональный путь, по которому совершается движение к цели…»
– Да ты сам-то как думаешь, – Анфиса снова появляется в дверях, – у нас сейчас которые шаги – те, что пять вперед, или три назад?
Я совершенно сбит с толку этим вопросом.
– Полагаю, мы в точке перелома, – осторожно отвечаю, пытаясь сообразить, перелом – от чего к чему?
– А по-моему, у нас вся жизнь – сплошные переломы, – бросает Анфиса. – Все ломают, ломают… Историю переписывают, переписывают… Никак понять не могут, что история – это действительно прогресс: она всегда о будущем. Но не обязательно о будущем розовощеком и пышнотелом. История подсказывает нам не только то, что в будущем должно быть, но и то, от чего нужно немедленно освобождаться. Подумать только, мы тащим из прошлого в будущее огромный балласт, тяжеленный груз косности, предубеждений, недоверия, страхов, взаимного непонимания, глухоты к ближнему, насилия, рабства и раболепия, чинопочитания, унизительной зависимости от старших и сильных, предательств, измен… Бедные историки и литераторы!.. Когда они пишут, что всего этого уже нет, получается фальшь. Когда они пишут, что все это еще сохраняется и надо поскорее избавиться от бремени, их обвиняют в очернительстве и измене идеалам.
– Подожди, подожди, – перебиваю я. – Не надо мазать всех одним миром. Художники – люди свободные. О чем хотят – о том и пишут. В отличие от историков.
– То-то и заметно, – ядовито усмехается Анфиса. – Пансионер ты мой ненаглядный. Только на пансион и зарабатываешь. А что купить – так это мне приходится вкалывать. Твоими писаниями все ящики стола, все антресоли, все свободные углы забиты. И сколько из всего этого напечатано? То-то же… «Здесь автор недоосознал, там автор недооценил, тут перегнул, на пятьдесят восьмой странице проявил близорукость…» Когда же эти идиоты-рецензенты, эти вершители литературных судеб научатся понимать, что рукой писателя всегда водит Социум? Что если он пишет обидные и даже враждебные вещи, то, значит, Общество заслуживает этого, ибо вся ответственность за воспитание художника лежит на его плечах. Что взлеты и достижения писателя – всегда заслуга личного таланта, а ошибки и заблуждения – всегда грехи Общества? Когда же они поймут это, а? Ведь на протяжении всей истории почему-то считается наоборот…
Напряжение гневной страсти Анфисы было столь велико, что в воздухе полыхнуло желтым, красным, пурпурным, опаляющим, и меня опять вышвырнуло из одного потока времени в другой.
Теперь я попал в холодную мглистую ночь той самой весны, когда Анфиса ждала ребенка. Анфиса кончила подшивать пеленки и улеглась спать, а я сел за стол и открыл какую-то книгу. Я бодрствовал по обыкновению до трех часов утра, но в ту ночь не столько читал, сколько смотрел мимо страниц и думал о том, как бы мне хотелось, чтобы у Анфисы родился сын, как бы я его нянчил и как воспитывал бы, когда он будет совсем большим.
Я думал, что научу его в первую очередь не мудрости, которой научить нельзя, а гордости, которая только и приходит в результате учения, не игре на пианино и фигурному катанию, а самостоятельности и способности делать самому шаги в жизни, умению выбирать из множества только тот вариант, о котором впоследствии никогда не пожалеешь, то есть единственно верный, а не тот, который в данную минуту кажется верным друзьям, близким и родным.
Я так размышлял ночью и время от времени вставал, чтобы прихлопнуть комара, влетевшего в приоткрытую дверь. В последние годы на Орпосе почему-то развелось великое множество комаров.
И вдруг я услышал за своей спиной сонный голос Анфисы:
– Вроде я и не сплю, а пылья столько, прямо ужас…
– Какого пылья? – спросил я, изумившись.
– Ну, пылья…
– Какого, какого пылья? – переспросил я, потому что Анфиса говорила во сне, а разговаривая со спящим, можно услышать много удивительного.
– Хм… Хм-хм… – заулыбалась она таинственно. – Это я так пеленки называю. – Сказала и засмущалась, очевидно, даже во сне сознавая милую бессмыслицу своих слов.
– Какие пеленки? – задал я еще один вопрос, приходя в совершенный восторг от беседы.
– Которые летают… Которые лета-а-а-ают… – Анфиса погрузилась в ту область сна, где восприятие подсознательного полностью отделено от речи, а я представил себе ее загадочный ночной мир, населенный летающими пеленками, и… полетел сам, теперь уже в будущее.
18. Так мы бесконечно долго хлюпали по болоту, разбрызгивая вокруг зеленоватую мешанину, пятная одежду рыжими катышками. Нас засасывали бездарные рифмы, бесталанные стихи, скучные книги, порнографические брошюры, плохие фильмы. К ногам липли стереотипные сюжеты и банальные идеи. Пошлые песенки, навязываемые радио, бессмысленные шлягеры, навязываемые эстрадой, пустые клипы, навязываемые телевидением, унылые речитативы, навязываемые эпигонами великих бардов, и многозначительная заумь, навязываемая стекло-роком, – все это так и прыгало головастиками, так и прыгало. Вспучивались страшные пузыри гнилостной халтуры. Лопались эти ремесленные однодневки прямо на наших глазах.
Часто встречались пласты остервенелого рвачества. Сверху они представляли собой этакие зелененькие лужайки, прямо оазисы отдыха и комфорта, но мы знали, что ступать на них смертельно опасно, и делали огромные крюки, предпочитая кружные пути честной повседневной работы.
Многие кочки были обманчивы. Даже под малым весом моей спутницы они мгновенно проваливались, позволяя серой липучке жадно обволакивать наши ноги. Претендующая на глубину мудрость оборачивалась плоским здравым смыслом, игра ума подменялась пресным житейским опытом, а сатира – юмором.
И уж вовсе страшны были еле заметные глазу омуты преступных замыслов. Прелесть легкого обогащения и сладострастный садизм, обещаемый презрением к ближнему, соблазн возвышения над законом и множественность примеров ненаказанного зла, предоставляемых Системой, – о, сколько душ исчезло в этих безднах!
Тут и там вспыхивали огни, мы бежали к ним, надеясь, что это конец пути, граница болота или, на худой конец, путеводные звезды, но натыкались в большинстве случаев на гнилушки.
Иногда мы слышали бормотание. Это фонтанировал болотный гейзер – он давал нам разные советы: как правильно ставить ногу, как вытаскивать ступни из трясины, как нащупывать твердые места, как вести себя в случае, если провалишься по пояс и глубже. Все было верно, но относительно того, правильно ли мы идем и зачем идем вообще, – он предпочитал умалчивать.
19. Наконец, наше третье открытие состояло в том, что мир населен разумными существами и все они более или менее человекоподобны, но разум порой принимает несколько странные формы.
На одной из планет нам повстречались вполне людопохожие обитатели. Они выглядели точь-в-точь как земляне, и лишь спустя некоторое время мы открыли в них легкий физический изъян. У них было по четыре глаза (из них два на затылке) и по восемь ушей, расположенных через равные интервалы по периметру черепа. А вот носов не было вовсе. Вместо них были пупки. Зато изо рта торчало по 184 первоклассных зуба. Не считая коронок, конечно.
Нам повстречался разум в виде прекрасного кристалла и в виде прозрачной жидкости, переливающейся из сосуда в сосуд, в виде газообразного тумана и в виде тяжелого монолита.
Все эти виды разума толкали жителей обитаемых миров на диковинные поступки.
На планете № 216, которая на местном наречии называется Покадлакаяка, нас встретили очень радушно. Вокруг места приземления собрался большой симфонический оркестр, тут же подогнали составы с цветами, нас взяли под ручки, усадили в роскошные лимузины и повезли в изысканнейший ресторан планеты на праздничный обед. Обед состоял из ста девятнадцати блюд, а за столом прислуживали лучшие гейши, отборные куртизанки, прославленные гетеры и наидорожайшие кокотки.
Каково же было наше изумление, когда мы узнали, что непосредственно во время обеда столь гостеприимные аборигены подложили под ракету заряд тринитротолуола и подорвали его. Стоило нам примчаться к ракете, как все население планеты, заранее собравшееся поблизости, начало издевательски хохотать. Невдомек им было, что ракета-то наша цела и невредима (еще бы, какой-то тринитротолуол против первоклассных лама-дриц!). Мы залезли в люк, набросали в топку фотонов, нажали все кнопки сразу и покинули Покадлакаяку, занеся ее навеки в СНП (Список Нехороших Планет).
На планете № 482, под тарабарским названием «Бездна-ушнаина-ена», прием был достаточно холодный. В песках пустыни, где мы совершили посадку, установили кафедру, вкопали три ряда скамеек, посадили пятнадцать аборигенов. На кафедру влез докладчик и принялся читать речь. В середине своеобразного приветствия, то есть через полтора часа после начала, из-за кустарника, росшего неподалеку, внезапно выскочило местное чудовище – гигантский быдло-микроб. Этот самый быдло-микроб с ревом налетел на нашу ракету, стал ее валять, громить, крушить, кромсать, таскать, колотить, короче, ликвидировать. Мы обратились к аборигенам за помощью. В ответ на нашу просьбу докладчик укоризненно постучал карандашиком по стакану, а слушатели обернулись и уничтожающе зашикали. Злющий быдло-микроб и ухом не повел, продолжая грызть и валять нашу чудо-ракету. Его пришлось распылить на мю-мезоны, а планету отныне занести в РПМ (Реестр Плохих Миров).
20. А я сижу на пересечении и все еще двинуться не могу. Потом отпустило меня, но столько я страху натерпелся, что тут же какая-то апатия одолела. Вижу удаляющуюся спину благоверной и чувствую: мне все до фени стало, абсолютно все равно мне стало, уходит она или не уходит. Может, и нет вовсе никакого паука, может, и напридумывал я все, может, и не паутина это, а так… так… ну, так что-то, может, свойства у этого темного угла такие, чтобы сетка сверху была. Например, в случае, если гадость какая сверху падать будет. Или чтобы все думали – паутина, мол, паук рядом, и не трогали этот темный угол вообще, а никакого паука нет и не было никогда, есть просто одинокий, мизантропический, индифферентный ко всему темный угол-отшельник со Штуковиной внутри, и Штуковина эта очень хорошая и ценная, и она позарез нужна этому темному углу, и, если здраво рассудить, ведь должен же где-то быть по крайней мере хоть один темный угол с очень хорошей Штуковиной внутри, и ведь может же этот темный угол хотеть, не возбраняется же ему хотеть, чтобы эта Штуковина ему одному принадлежала; что, если все остальные темные углы мечтают о такой Штуковине и завидуют ему, а он хранит ее от посторонних взглядов, и ему хорошо с ней, и по ночам он улыбается ей и думает: вот какая замечательная Штуковина у меня есть.
– А-а-а-а-а-а-а-а-а! – услышал я леденящий душу, мозг, печенки, сердце, пальцы, ногти крик. Я вскочил с пересечения, посмотрел вдаль и немного вверх.
– А-а-а-а-а-а-а-а-а! – кричала моя благоверная.
21. Сюрприз заключался в том, что на четвертом этаже, помимо двух отдельных и одной совместной спальни, туалетов и ванных комнат, находился небольшой бассейн с розовой водой. Солидная высота потолков в этом доме (от четырех до семи метров) оставляла место даже для небольшой вышки, которая в случае необходимости выдвигалась из стены. На вышке были площадки для прыжков в воду с одного, двух и трех метров. Глубина бассейна тоже соответствовала: дно плавно понижалось на глубину до четырех метров. Замечательно то, что стены помещения были украшены фризами из русских полихромных и расписных изразцов XpII и XpIII веков, а дно и стены бассейна облицованы муравлеными швейцарскими изразцами XpI века. Розовые блики на бледно-зеленом фоне радовали глаз тонким подбором оттенков.
Рядом с бассейном располагались две ванные комнаты. Интерьеры были выдержаны в салатовых и лимонных тонах. Температура воды программировалась с помощью особого электронного устройства. Специальный паровой агрегат превращал ванную в некое подобие турецкой бани. А простым нажатием кнопки можно было привести в действие тонизирующий ионный душ.
Унитазы в туалетах были, конечно же, черного цвета.
Моя спальня представляла собой африканское бунгало. Гамак, кондиционер, даже противомоскитная сетка и электромеханические москиты (впрочем, безвредные) – все было учтено.
Спальня же моей жены являла точную копию будуара маркизы Помпадур. Пуфы, ковры, гобелены, огромная кровать с балдахином и пологом, изящные комодики, секретер, невероятных размеров трельяж. Возле кровати, на столике, инкрустированном перламутром и слоновой костью, лежала нефритовая шкатулочка для безделушек. Я полюбопытствовал и открыл ее: внутри оказалось несколько колец с бриллиантами и два массивных золотых браслета, отделанных рубинами и изумрудами.
Еще в коридоре чувствовался запах духов «Кристиан Диор», доносящийся из будуара.
В нашей общей спальне кровать была такой величины, что на ней вполне можно было развернуть небольшой театр военных действий. Без применения атомного оружия, разумеется.
Здесь обстановка выглядела совершенно непретенциозно. Если не считать, правда, ковра с ворсом сантиметров в десять, застилавшего весь пол, ренуаровской «Обнаженной» (подлинник) на стене, китайской бронзы с неподдельной патиной в дальнем углу и оригинальной работы Майоля при входе.
Все стены занимали встроенные стенные шкафы с отборнейшим гардеробом наимоднейших костюмов, платьев, гарнитуров и верхней одежды. Что меня особенно умилило, так это темно-красный мужской халат из тонкой ангорской шерсти, лежащий на пуфике возле Майоля. Халат был слегка нагрет к моему приходу.
…Жена уже давно перестала плакать. В своем будуаре она даже проявила минимальный интерес к безделушкам, комодикам и секретеру. Но здесь, в нашей общей спальне, она безучастно присела на краешек кровати и, подавленно глядя куда-то в угол, монотонно повторяла:
– Это невыносимо. Нет, это просто невыносимо. Это невыносимо… Снова ворвался представитель СУ, волоча снежно-белый телефонный аппарат и водружая его на столик у изголовья кровати. Потом он пощелкал какими-то тумблерами, включая и выключая мягкий свет и невидимый музыкальный автомат.
– Так, здесь все нормально, – скороговоркой произнес он. – Вот инструкция по заказу музыкальных программ и регулированию времени утреннего пробуждения. Наверх, наверх…
Я потянул за собой жену…
22. Барахтаясь в зловонной мерзейшей жиже, обжигая руки о кислотные стенки пещеры, сшибая друг друга с ног и вопя безумные слова, мы карабкались вверх с неописуемой ловкостью, достойной разве что предков наших – макак.
«И зачем только мы предприняли эту рискованнейшую затею? – прыгали в голове мысли. – Что мы хотели здесь найти? Рай небесный? Елисейские поля? Населенный город, как у Пантагрюэля? Что??? Нет, не лги. Не лги самому себе. Ты отлично знаешь, что искал не рай и не город. Ты думал найти здесь Вселенную, огромнейший мир, полный сверкающих звезд и обитаемых земель. Ты хотел найти здесь истинные чувства, радостные надежды и смысл существования. Но ничего этого ты не нашел, и не твоя в том вина, как не твоя вина и в том, что ты карабкаешься сейчас по внутренностям, и обжигаешь руки противной слизью, и не знаешь, увидишь ли когда-нибудь Божий свет хотя бы еще раз…»
23. Полетел я в другую ночь и в другой сон. Это было уже летом. Орпосовским летом. Имитационные экраны бледнели, предвещая скорый рассвет (по московскому времени), в кроватке посапывал малыш, я погружался в сон, которому активно противилось болезненное возбуждение после долгой ночной работы…
Перед глазами плавали фразы, только что вычитанные в «Советском энциклопедическом словаре», двадцать шестое издание:
«История (от греч. historia – рассказ о происшедшем, об узнанном), 1) процесс развития природы и общества. 2) Комплекс общественных наук (ист. наука), изучающий прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии… Превращение ист. знаний в ист. науку длит. процесс…»
«А почему, собственно, длительный процесс?» – цеплялся я засыпающим мозгом за последний островок бодрствования в сознании, как вдруг тишина заклинилась хриплым криком:
– И-и-и! И-и-и! И-и-ыгрм! Ай! А-а-а-а-и-и-и-й!
Я вскочил и наклонился к Анфисе. Ее глаза были открыты, но ничего не выражали, кроме слепого животного ужаса. Она задыхалась в сиплом вое. Не медля ни секунды, я стал трясти ее, понимая, что в такие мгновения только испуг пробуждения может спасти от испуга сна. Она очнулась.
– Что? Что с тобой? – шепотом спросил я ее.
– А? Что? Ох, да, сон, ужасный сон, страшный сон, страшный, страшный, страшный… – Анфиса даже затрепетала от воспоминания.
– Расскажи мне, может быть, ничего страшного нет, – просил я, – а если очень страшно, то расскажешь – и легче станет, ты скоро забудешь, что тебе снилось.
– Женщина… Пожилая женщина… Какая-то моя знакомая… Пожилая и добрая с виду. Мы с ней сидели за столом и разговаривали. Я укачивала маленького на руках. Вдруг эта женщина захохотала, протянула ко мне руки, они вытянулись, как резиновые, одной она стала отрывать от меня малыша, а второй рукой, очень жесткой и сильной, какой-то костяной, начала душить меня… Ох, как страшно… Я думала, я умру, но маленького не отпускала…
– Ну ничего, ничего, – успокаивал я Анфису, – все прошло. Очень плохой сон, но он кончился, сейчас ты заснешь, и тебе больше такое не приснится, ты увидишь что-нибудь очень хорошее. Договорились?
– Договорились…
Она заснула, а я не мог больше спать и, поскольку надо было что-то предпринимать от бессонницы, снова погрузился в обратный поток времени. Если бы я нырнул в прямой поток, он, может статься, вынес бы меня в тот день, в тот беспросветный стылый день, когда мы кремировали малыша Анфисы.
До этого черного дня оставалось еще три месяца.
24. Были кочки, с которых мы проваливались по колено, по пояс, по грудь – в секс, секс, секс, перенасыщенный плотский образ жизни, вне запретов и стыда, чавкающий, чмокающий, сладкий, страстный, сладострастный образ жизни, прерываемый сном, едой, служебными обязанностями и естественными надобностями.
Но самое страшное, что было в болоте, – это огромные пространства мелочей. Абсолютно ровные, без кочек, непонятного серо-грязно-лилово-будничного цвета, тряские, желейно-жидкие и чрезмерно податливые, они плавали в болоте, как саргассовые острова, и обойти их было невозможно. Более того, обходить их считалось предосудительным.
По мелочным омутам можно было продвигаться единственным способом – бежать что есть силы, на скорости отряхивая с ног разные оторвавшиеся пуговицы, нестираные носки, не купленный к ужину хлеб, утерянные копейки, просыпанную соль, разбитую тарелку, сломанный выключатель в ванной, капли мочи на полу в туалете, пыль на телевизоре и тысячи, тысячи, тысячи прочего, прочего, прочего…
Монолог
«Мой мальчик был высокого роста, хорошо ориентировавшийся в пространстве (не то что я)…»
Когда Фант впервые прочитал эти строки в прекрасной и трагической повести Сусанны Георгиевской «Монолог», его пронзило смертоносное в своей обнаженности ощущение. Фанту показалось, что буквы горят на белой странице и выжигают зрение…
«…Глаза его – словно крылья, всегда в полете.
…Велосипед… Я не успела купить ему трехколесный велосипед. Я была бедна.
Он знал все марки машин. Потому что – мальчик. Мой сын был мальчиком.
Перед тем как уйти на фронт, я каждый день зарывала в холмик его могилы игрушки. По ночам мне казалось, что он стучится в двери ко мне. Он одет в свое некрасивое желтое пальтецо. Стучится и улыбается робко, потерянно…
– Ма-а-ама!»
– Иоланта! – закричал, забился, задергался Фант. – Иоланта, Анфиса, благоверная, подруга моя, спутница! Боже, ВОТ ЧТО СТРАШНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ! Не слова, которыми мы обмениваемся, мало осознавая их тяжесть или их бестелесность… Не последствия даже этих слов… Не внезапное осмысление слепящей краткости счастья… Страшно ЭТО:
«…каждый день зарывала в холмик его могилы игрушки…»
Бежать, бежать, бежать… Спрятаться друг в друге… Войти друг в друга… Любить друг друга… Жить вечно… Это очень важно, чтобы люди жили вечно. Особенно маленькие…
У Фанта пока нет маленького. Так уж получилось, что не заимел он еще ни сына, ни дочки. Вот такой, неспешный, оказывается, человек: тридцать семь лет уже, а детей нет.
Малыш Анфисы, о котором Фант пишет в своей «Фуге», – не его ребенок. А под Анфисой следует понимать… Иоланту. Да-да, речь идет именно об Иоланте. Имя же Анфиса Фант выбрал специально. Такой уж он решил провести эксперимент: дать женскому персонажу самое ненавистное имя и – вопреки ему! – сделать героиню симпатичной, вызывающей сочувствие и даже заслуживающей любви.
Совершенно неважно, кто был отцом того самого малыша. Важно, что уже на четвертом месяце беременности Иоланта осталась одна-одинешенька.
И еще важно… горько… душераздирающе… что ребенок этот… умер…
у-м-е-р У-М-Е-Р УМЕР УМЕР УМЕР
Ему не исполнилось и полугода. Мальчик умер от лейкоза. Иоланта едва не сошла с ума. Она знала: причина болезни таилась в ней самой. И причина эта та же, что и у кошмара, который мучил ее двадцать пять лет. Спас Иоланту от самоубийства не кто иной, как Фант: он не отходил от нее ни днем, ни ночью. А потом они уже не могли расстаться. И жили вместе вот уже шесть лет. Оба были старожилами Орпоса…
…Это случилось на двенадцатом году жизни Иоланты. Ее отец работал в торгпредстве во Франции, они всей семьей жили в Париже. Той весной отец с дочкой отправились в короткую поездку на море – в Аркашон. Сняли на три дня домик в окрестностях города, предвкушая наслаждение солнцем, морским ветром и лангустами: оба страсть как любили морских раков.
Ясным апрельским утром подводная лодка «Дельфин», курсировавшая в Бискайском заливе, произвела немотивированный пуск ракеты. Кто отдал приказ – человек или компьютер, – осталось неизвестным. Ракета взорвалась, едва выйдя из шахты, – в трехстах метрах над уровнем моря.
Иоланта собирала ракушки на пустынном пляже. Внезапно вдали – почти на горизонте – что-то сверкнуло. Иоланта стояла спиной к морю, и это спасло ее глаза. Она не увидела, как в воздухе взбух ослепительный огненный шар и устремился ввысь. Но платье на девочке вспыхнуло. Когда Иоланта в ужасе обернулась, над морем расползался сверкающий «бублик» – гигантское тороидальное кольцо. Его подпирал толстый столб – смерч воды, выброшенной из моря Взрывом. Через несколько секунд «бублик» и столб воды приняли форму колоссального гриба, но этого Иоланта уже не видела. Она каталась по земле, объятая пламенем. И тут обрушилась ударная волна. Девочку понесло по песку, по пылающему кустарнику, по камням. Лопнула кожа на лице и руках. Изо рта и носа хлынула рвота, смешанная с кровью. А над пляжем уже вставала черная вода, окаймленная грязной пеной, – Взрыв поднял цунами…
Иоланту, полуживую, нашли через несколько часов в трех километрах от обезображенного пляжа. Поиски начались и продолжались под нудным дождем, сочившимся из внезапно образовавшихся низких туч. Тучи были пропитаны радиацией. Радиоактивный дождь шел еще несколько дней. Бассейн реки Лер и нижнее течение Гаронны, включая эстуарий Жиронду, были объявлены зоной национального бедствия. Чрезвычайная обстановка там сохранялась много лет…
В том же году, получившем название года Неприятности, только уже осенью, прогремел еще один случайный Взрыв – над полуостровом Варангер: там взорвалась перевозившаяся на тягаче боеголовка.
По счастью, ни тот, ни другой Взрывы не стали «казус белли». Более того, именно Неприятности послужили последними толчками к подписанию Договора…
В Европе погибли в общей сложности пятьсот тысяч человек, в том числе и отец Иоланты. Эксперты считали, что это «благополучный» исход: могло быть в несколько раз больше. Но Взрывы прогремели не в самых населенных районах.
Иоланта выжила. Больше года она лежала в разных клиниках. Перепробовала на себе все схемы лечения лейкоза: ВАМП, ЦАМП, циклосферан с преднизолоном, краснитин с циклофософаном и преднизолоном… Редчайший и давно преданный анафеме катрекс… Экстрасенсы, знахари, травники, рефлексотерапевты, колдуны… Наконец, произошел перелом: Иоланту вывели в длительную ремиссию. С психикой дело обстояло сложнее, но и здесь врачи справились: года через три Иоланта пришла в норму. Тогда-то мать и увезла ее на только что начатый Орпос.
Лишь сильные регулярные головные боли и постоянная сонливость напоминали ей о страшной весне в Аркашоне. И еще – ежедневный (точнее, еженощный) кошмар: сверкающий «бублик» над синим морем, а затем – черная стена воды с каймой грязной пены…





