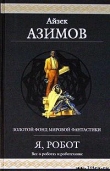Текст книги "Винный склад"
Автор книги: Висенте Бласко-Ибаньес
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Цыгане продолжали жадно глотать свою похлебку, a Сальватьерра вынулъ изъ кармана скудный свой ужинъ, съ улыбкой отказываясь отъ предложеній, которыя ему дѣлали со всѣхъ сторонъ. Въ то время какъ онъ ѣлъ кусокъ хлѣба съ сыромъ, глаза Сальватьерра упали на человѣка, который изъ всѣхъ остальныхъ, бывшихъ въ комнатѣ, одинъ не заботился о своемъ ужинѣ.
Это былъ худощавый юноша; его шея была обвязана краснымъ платкомъ, на немъ была надѣта одна лишь рубаха. Товарищи давно уже звали его ужинать, объявляя ему, что скоро ничего не останется отъ похлебки, но онъ продолжалъ сидѣть на обломкѣ пня, весь согнувшись надъ маленькимъ столомъ, на которомъ горѣла свѣчка. Онъ писалъ медленно, съ усиліемъ и съ упорствомъ крестьянина. Передъ нимъ лежалъ обрывокъ газеты, и, онъ списывалъ оттуда строки водянистыми чернилами и плохимъ перомъ.
Сарандилья, сидѣвшій рядомъ съ Сальватьерра, сказалъ:
– Это «Маэстрико!»
Такъ прозвали его изъ-за его любви къ книгамъ и бумагамъ. Не успѣетъ онъ придти съ работы, какъ уже беретъ перо въ руки и начинаетъ выводить буквы.
Сальватьерра подошелъ къ Маэстрико, а тоть повернулъ голову, чтобм взглянуть на него, и прервалъ на время свою работу. Съ нѣкоторой горечью сталъ онъ объяснять Сальватьерра страстное свое желаніе учиться, при чемъ онъ лишалъ себя часовъ сна и отдыха. Воспитали его, какъ животное; семи лѣть онъ былъ уже подпаскомъ на фермахъ и затѣмъ пастухомъ въ горахъ, и зналъ лишь голодъ, удары, утомленіе.
– А я хочу обладатъ знаніемъ, донъ-Фернандо. Все, чему подвергаемся мы, бѣдные люди, происходитъ оттого, что у насъ нѣть знанія.
Онъ смотрѣлъ съ горечью на своихъ товарищей-поденщиковъ, довольныхъ своимъ невѣжествомъ и которые въ насмѣшку прозвали его Maestrico, и даже считаютъ его сумасшедшимъ за то, что, возвращаясь съ работы, онъ садится читать по складамъ газетные обрывки, или же принимается медленно выводить буквы въ своей тетради при свѣтѣ зажженнаго огарка свѣчи. Онъ самоучка, и никогда не имѣлъ учителя. Его мучитъ мысль, что другимъ съ чужой помощью легко удается побѣдить тѣ затрудненія, которыя ему кажутся непреодолимыми. Но его вдохновляетъ вѣра и онъ идетъ впередъ, убѣжденный въ томъ, что если бы всѣ слѣдовали его примѣру, судьба всего существующаго на землѣ измѣнилась бы кореннымъ образомъ.
– Міръ принадлеждтъ тому, кто больше другихъ знаетъ, не правда ли, донъ-Фернандо? Есди богатые сильны и топчутъ насъ ногами и дѣлаютъ то, что хотятъ, то происходитъ это не потому, что деньги въ ихъ рукахъ, а потому, что они имѣютъ больше знаній, чѣмъ мы… Эти несчастные смѣются надо мной, когда я имъ совѣтую учиться, и говорять, что здѣсь въ Хересѣ богачи еще большіе невѣжды, чѣмъ поденщики. Но это не въ счетъ… Эти богачи, которые живуть тутъ у насъ – болваны. А надь ними громоздятся другіе, настоящіе богачи, тѣ, которые обладаютъ знаніемъ, которые устанавливають законы на весь міръ и поддерживають все это теперешнее неустройство общества, благодаря чему немногіе владѣють всѣмъ, а значительное большинство людей не имѣетъ ничего. Еслибъ рабочій зналъ все то, что они знадютъ, онъ бы не давалъ себя имъ въ обманъ, онъ ежечасно боролся бы съ ними и по меньшей мѣрѣ заставилъ бы ихъ раздѣлить власть съ нимъ.
Сальватьерра изумлялся горячей вѣрѣ этого юноши, считавшаго себя обладателемъ цѣлебнаго лѣкарства для уничтоженія всѣхъ золъ, претерпѣваемыхъ безконечной ордой нуждающихся. Учиться, обладать знаніемъ!.. Эксплуататоры насчитываются тысячами, а эксплуатируемые тысячами милліоновъ… Еслибъ люди не жили бы въ слѣпотѣ и невѣжествѣ, какъ могъ бы существовать подобный абсурдъ…
Maestrico продолжалъ излагать свои убѣжденія съ страстной вѣрой, свѣтившейся въ его искреннихъ глазахъ.
– Ахъ, если бы бѣдные знали то, что знаютъ богатые!.. Эти богатые такъ сильны и всѣмъ управляютъ, потому что знаніе къ ихъ услугамъ. Всѣ открытія и изобрѣтенія науки попадають въ руки къ нимъ, принадлежатъ имъ, а бѣднякамъ внизу едва достаются какіе-нибудь подонки. Если же кто-нибудь, выйдя изъ массы нуждающихся, поднимается надъ ней, благодаря уму и способностямъ, – вмѣсто того, чтобы хранить вѣрность своимъ по происхожденію, служитъ опорой братъямъ, онъ переходить въ станъ къ врагамъ, поворачивается спиной къ ста поколѣніямъ своихъ предковъ, угнетенныхъ несправедливостью, и продаетъ себя и свои дарованія палачамъ, лишь вымаливая себѣ мѣстечко среди нихъ. Невѣжество – самое худшее рабство, самое страшное мученіе бѣдныхъ! Но просвѣщеніе индивидуальное, обученіе отдѣльныхъ лицъ совершенно безполезно: оно служитъ только для того, чтобы создать роты дезертировъ, перебѣжчиковъ, которые спѣшать стать въ ряды непріятеля! Необходимо, чтобы всѣ обучались, чтобы вся большая масса поняла бы наконецъ свое могущество.
– Всѣ, всѣ, понимаете вы меня, донъ-Фернандо? Всѣ сразу, съ возгласомъ: «Мы не желаемъ больше обмана, мы не хотимъ больше служить вамъ, чтобы теперешнее неустройство продолжалось еще долго».
Донъ-Фернандо высказывалъ свое одобреніе утвердительными кивками головы, ему нравилась эта мечта невинности. Измѣнить весь строй міра безъ кровопролитія, съ помощью волшебнаго жезла ученія и знанія, безъ всѣхъ этихъ насилій, внушавшихъ отвращеніе нѣжной его душѣ, и которыя всегда кончаются лишь пораженіемъ несчастныхъ и жестокимъ возмездіемъ власть имущихъ; что за прекрасная мечта!.. Но кто же окажется въ силахъ разбудитъ всю массу бѣдняковъ, внушитъ имъ одновременно страстную вѣру этого бѣднаго юноши, идущаго ощупью, съ глазами, устремленными на свѣтлую звѣзду, которую одинъ онъ видить!..
Нѣсколько идейныхъ рабочихъ, и въ числѣ ихъ нѣкоторые старые товаршци Сальватьерра, подошли къ нему. Одиннъ изъ нихъ, Хуанонъ, сказалъ:
– Многое измѣнилось, Фернандо. Мы отступили назадъ, и богатые стали сильнѣе прежняго!
И онъ началъ разсказывать о режимѣ террора, принуждающаго къ молчанію все крестьянство. При малѣйшей жалобѣ батраковъ сейчасъ же начинаются крики, что воскресаетъ черная рука.
– Что это за «черная рука!» – гнѣвно воскликнулъ Хуанонъ. – Онъ претерпѣлъ гоненіе и судъ, потому что его обвинили въ томъ, что онъ членъ этого общества, а онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о немъ. Цѣлые мѣсяцы провелъ онъ въ тюрьмѣ съ другими несчастными. Ночью его выводили изъ тюрьмы для допроса, сопровождаемаго истязаніями въ темномъ одиночествѣ полей. Еще теперь у него на тѣлѣ немало рубцовъ отъ тогдашнихъ ударовъ и тогдашняго жестокаго избіенія. Но хотя бы его убили, онъ не былъ бы въ состояніи отвѣтить по желанію своихъ палачей. Онъ зналъ объ обществахъ и союзахъ для самозащиты поденщиковъ и для сопротивленія угнетенію господъ; онъ состоялъ ихъ членомъ; но о черной рукѣ, о террористическомъ обществѣ съ кинжалами и дикой местью, онъ не слышалъ ни одного слова. А въ доказательство существованія такого обшества могло быть приведено только одно единственное убійство. И вотъ изъ-за него казнили нѣсколькихъ рабочихъ и сотни изъ нихъ гноили, какъ и его, по тюрьмамъ, заставляя ихъ переноситъ мученія, вслѣдствіе которыхъ нѣкоторые лишились даже жизни.
Хуанонъ замолкъ, и всѣ кругомъ него погрузились въ невеселое раздумье. Въ глубинѣ комнаты женщины, сидя на полу, съ юбками округленными, какъ шапки большихъ грибовъ, разсказывали сказки или же передавали другъ другу о разныхъ чудесныхъ исцѣленіяхъ, благодаря чудотворнымъ иконамъ.
Надъ смутнымъ гуломъ разговоровъ поднималось тихое пѣніе. Это пѣли цыгане, продолжавшіе наслаждаться необычайнымъ своимъ ужиномъ. Тетка Алкапаррона достала изъ-подъ большого своего платка бутылку вина, чтобы отпраздновать свою удачу въ городѣ. Дѣтямъ досталась небольшая доля его, но веселье овладѣло ими… Устремивъ глаза на мать, которою онъ сильно восхищался, Алкапарронъ пѣлъ подъ аккомпаниментъ тихаго хлопанья въ ладоши всей его семьи. Онъ ррервалъ свое пѣніе, чтобы высказать матери то, что ему только что пришло на умъ:
– Мама, какъ несчастны мы, цыгане! Они, испанцы, изображаютъ собою все; и королей, и губернаторовъ, и судей, и генераловъ; а мы, цыгане, мы – ничто.
– Молчи, сынокъ, зато никто изъ насъ, цыганъ, не былъ ни тюремщикомъ, ни палачомъ!.. Продолжай пѣсни, спой еще что-нибудь.
И пѣніе, и хлопанье въ ладоши началось вновь. Одинъ поденщикъ предложилъ стаканъ водки Хуанону, но онъ отказался.
– Это-то и губитъ насъ, – сказалъ онъ поучительнымъ тономъ. – Проклятое питье!
И Хуанонъ сталъ предаватъ анаѳемѣ пьянство. Эта несчастные люди забываютъ обо всемъ, лишь только они напьются. Если они когда-нибудь возстанутъ, то, чтобы ихъ побѣдить, богачамъ придется лишь открыть для нихъ безплатно свои винныя лавки.
Многіе изъ присутствовавщихъ протестовали противъ словъ Хуанона. Что же дѣлатъ бѣдняку, какъ не пить, чтобы забыть свою нужду и горе? И прервавъ молчаніе, многіе заговорили сразу, высказывая свой гнѣвъ и недовольство. Кормятъ ихъ съ каждымъ днемъ все хуже: богатые злоупотребляютъ своей силой и тѣмъ страхомъ, который они сумѣли внушитъ бѣднякамъ и укрѣпить въ нихъ.
Только въ періодъ молотьбы имъ даютъ гороховую похлебку, во все же остальное время рода они получаютъ хлѣбъ, одинъ лишь хлѣбъ, и тотъ во многихъ мѣстахъ въ обрѣзъ.
Старикъ Сарандилья вмѣшался въ разговоръ. По его мнѣнію хозяева могли бы все устроить къ лучшему, еслибъ они хотъ нѣсколько сочувствовали, бѣднымъ и выказали бы милосердіе, побольше милосердія.
Сальватьерра, безстрастно слушавшій рѣчи поденщиковъ, теперь взволновался и прервалъ свое молчаніе, услыхавъ слова старика, Милосердія! Для чего? Чтобы удержать бѣдняковъ въ ихъ рабствѣ, въ надеждѣ на тѣ крохи, которыя имъ бросаютъ и которыя на нѣсколько мгновеній утоляютъ ихъ голодъ и способствуютъ продленію ихъ порабощенія. Милосердіе нимало не способствуетъ тому, чтобы сдѣлать человѣка болѣе достойнымъ. Оно царитъ уже девятнадцать вѣковъ; поэты воспѣваютъ его, считая его божественнымъ дыханіемъ, счастливые провозглашаютъ его одной изъ величайшихъ человѣческихъ добродѣтелей, а міръ остается все тѣмъ же міромъ неравенства и несправедливости. Нѣтъ, эта добродѣтель одна изъ самыхъ ничтожныхъ и безсильныхъ. Она обращала къ рабамъ слова, исполненныя любви, но не ломала ихъ цѣпи; предлагала кусокъ хлѣба современному невольнику, но не позволяла себѣ бросить ни малѣйшаго упрека противъ того общественнаго строя, который присуждалъ этого невольника къ голоданію на весь остатокъ его жизни. Милосердіе, поддерживающее нуждающагося лишь одно мгновеніе, чтобы онъ нѣсколько окрѣпъ, является столь же добродѣтельнымъ, какъ и та крестьянка, которая кормитъ куръ на своемъ птячьемъ дворѣ и заботится о нихъ до той минуты, когда она ихъ завклетъ, чтобы съѣсть.
Эта тусклая добродѣтель ничего не сдѣлала, чтобы завоевать людямъ свободу. Только протестъ разорвалъ цѣпи древняго раба, и онъ же сломитъ оковы современнаго пролетарія. Одна лишь соціальная справедливость можеть спастаи людей.
– Все это прекрасно, донъ-Фернандо, – сказалъ старикъ Сарандилья. – Но бѣдные нуждаются въ одномъ, въ надѣлѣ землей, чтобы жить, а земля – собственностъ хозяевъ.
Сальватьерра вспыльчиво отвѣтилъ, что земля ничья соботвенностъ, она принадлежитъ тѣмъ, кто ее воздѣлываетъ.
– Земля ваша, она принадлежитъ всѣмъ крестьянамъ. Человѣкъ рождается съ правомъ на воздухъ, которымъ онъ дышить, на солнце, которое его грѣетъ, и долженъ требовать, чтобы ему дана была земля, которая даетъ ему питаніе. He надо намъ милосердія, дайте намъ справедливость, одну лишь справедливость, дайте каждому то, что ему принадлежитъ!
IV
Двѣ большія дворняжки, которыя сторожили ночью окружности башни въ Марчамало, и лежали свернувшись въ клубокъ, опирая на хвостъ свирѣпыя морды, подъ аркадами дома, гдѣ были виноградныя давильни, перестали дремать.
Обѣ онѣ одновременно поднялись. Обнюхивая воздухъ, и покачиваясь съ нѣкоторой неувѣренностью, собаки зарычали, а затѣмъ, кинулись внизъ, по винограднику, съ такой стремительностью, что подъ ихъ лапами вырывалась земля.
Это были почти дикія животныя, съ глазами, искрящимися огнемъ, и челюстями, унизанными зубами, отъ которыхъ холодъ пробѣгалъ по тѣлу. Обѣ собаки бросились на человѣка, который шелъ нагяувшясь между виноградными лозами, а не по прямому спуску, ведущему оть большой дороги къ башнѣ.
Столкновеніе было ужасное, – человѣкъ пошатнулся, вырывал плащъ, въ который вцѣпилась одна изъ собакть. Но вдругъ животныя перестали рычатъ и бросаяъся кругомъ него, отыскивая мѣсто, гдѣ имъ можно было бы вонзить зубы, а побѣжали рядомъ съ пѣшеходомъ, подпрыгивая, и съ радостнымъ храпѣніемъ стали лизать ему руки.
– Эхъ вы, варвары, – обратился къ нимъ тихимъ голосомъ Рафаэль, не переставая ихъ ласкать. – Этакіе вы дурни!.. Не узнали меня?
Собаки проводили его до маленькой площадки въ Марчамале и, снова свернувшись въ клубокъ подъ аркадами, вернулись къ своему чуткому сну, который прерывался при малѣйшемъ шорохѣ.
Рафаэль остановился немного на площадкѣ, чтобы оправиться отъ неожиданной встрѣчи. Онъ плотнѣе закутался въ плащъ и спряталъ большой ножъ, вынутый имъ изъ бокового кармана для защиты отъ недовѣрчивыхъ животныхъ.
На синѣющемъ отъ звѣзднаго блеска пространствѣ вырисовывались очертанія новаго Марчамало, построеннаго дономъ-Пабло.
Въ центрѣ выдѣлялась башня господскаго дома. Ее было видно изъ Хереса, господствующей надъ холмами, покрытыми виноградными лозами, владѣя которыми Дюпоны являлись первыми помѣщиками во всей округѣ. Башня эта была претенціозной постройкой изъ краснаго кирпича, съ фундаментомъ и углами бѣлаго камня; острые зубцы верхней ея части были соединены желѣзными перилами, превращавшими въ обыкновенную террасу верхъ полуфеодальнаго зданія. По одну сторону этой башни выдѣлялось то, что считалось лучшимъ въ Марчамало, о чемъ донъ-Пабло заботился больше всего среди новыхъ своихъ построекъ – обширная часовня, украшенная колоннадой и мраморомъ, словно величественный храмъ. Съ другой стороны башни, одно изъ зданій стараго Марчамало почти неприкосновеннымъ осталось въ прежнемъ своемъ видѣ. Эта постройка, ннзкая, съ аркадами, вмѣщавшая въ себѣ комнату приказчика и обширную ночлежку для виноградарей, съ печкой, отъ дыма которой почернѣли стѣны, была лишь нѣдавно подкрѣплена незначительной поправкой.
Дюпонъ, который выписалъ артистовъ изъ Севильи для декорированія часовни и заказалъ въ Валенсіи образа, сверкавшіе золотомъ и красками, смутился, – видите ли, – передъ древностью зданія для виноградарей, не дерзнувъ прикоснугься къ нему. Оно отличалось такой стильностью, – попытка обновить этотъ пріютъ поденщиковъ равнялась бы преступленію. И приказчикъ продолжалъ жить въ своихъ полуразвалившихся комнатуркахъ, всю неприглядностъ которыхъ Марія де-ла-Лусъ старалась скрытъ, тщательно выбѣливая стѣны. А поденщики спали не раздѣваясь на цыновкахъ, которыя великодушіе дона-Пабло удѣляло имъ, въ то время какъ образа святыхъ утопали въ позолотѣ и мраморѣ, причемъ цѣлыя недѣли никто ихъ не лицезрѣлъ, такъ какъ двери часовни раскрывались только, когда хозяинъ пріѣзжалъ въ Марчамало.
Рафаэль долгое время смотрѣлъ на зданіе, опасаясь, чтобы его темная масса не освѣтилась лучомъ свѣта и не открылось бы окно, въ которое высунулъ бы свою голову приказчикъ, встревоженный стремительной бѣготней и топотомъ собакъ. Прошло нѣсколько мгновеній, но Марчамало оставалось погруженнымъ въ полнѣйшую тишину. Лишь съ полей окутанныхъ мракомъ поднимался сонливый рокотъ. На зимнемъ небѣ еще сильнѣе мигали звѣзды, словно холодъ обострялъ ихъ блескъ.
Юноша повернулъ съ площади и обогнувъ уголъ стараго зданія, пошелъ по дорожкѣ между домомъ и рядомъ густого кустарника. Вскорѣ онъ остановился у рѣшетчатаго окна, а когда онъ слегка ударилъ суставами пальцевъ о дерево переплета, окно открылось и на темномъ фонѣ комнаты выдѣлилась роскошная фигура Маріи де-ла-Лусъ.
– Какъ ты поздно, Рафае! – сказала она шепотомъ. – Который часъ?
Надсмотрщикъ взглянулъ на небо, читая въ звѣздахъ съ опытностью деревенскаго жителя.
– Должно быть теперь около двухъ съ половиною часовъ пополуночи.
– А лошадь? Гдѣ ты ее оставилъ?
Рафаэль объяснилъ ей, кась онъ ѣхалъ. Лошадь оставлена имъ въ маленькомъ постояломъ дворикѣ де-ла-Корнеха, въ двухъ шагахъ отсюда, на краю дороги. Отдыхъ былъ необходимъ для лошади, такъ какъ весь путъ сюда былъ сдѣланъ имъ галопомъ.
Эта суббота выдалась у него очень трудная. Многіе изъ поденщиковъ и поденщицъ пожелали провести воскресенье въ своихъ селахъ, въ горахъ, и просили выдать имъ разсчетъ за недѣлю, чтобы передать деньги семьямъ своимъ. Можно было сойти съ ума, сводя счеты съ этими людьми, которые вѣчно считаютъ себя обманутыми. Притомъ ему еще пришлось позаботиться о плохихъ сѣменахъ; перетряхнуть ихъ и принять другія мѣры съ помощью Сарандильи. Затѣмъ у него явились подозрѣнія на счетъ рабочихъ съ пастбищъ, такъ какъ выжигая уголь, они навѣрное обкрадываютъ хозяина. Однимъ словомъ, онъ не присѣлъ ни минуты въ Матансуэлѣ и лишь послѣ двѣнадцати часовъ ночи, когда въ людской потушили огни оставшіеся тамъ поденщики, онъ рѣшился предпринятъ свое путешествіе. Какъ только разсвѣтетъ, онъ вернется на постоялый дворикъ, сядетъ тамъ верхомъ и сдѣлаетъ видъ, будто сейчасъ пріѣхалъ изъ Матансуэла и явится на виноградникъ, чгобы крестный не подозрѣвалъ, какъ онъ провелъ ночь.
Послѣ этахъ объясненій оба хранили молчаніе, держась за рѣшетку окна, но такъ, что руви ихъ не дерзали встрѣтиться. И они пристально смотрѣли другъ на друга, при мерцающемъ свѣтѣ звѣздъ, придававшемъ ихъ глазамъ необычайный блескъ. Рафаэль первый прервалъ молчаніе.
– Тебѣ нечего сказать мнѣ? Послѣ того, какъ мы цѣлую недѣлю не видѣлись, ты точно дурочка, смотришъ на меня во всѣ глаза, будто я дикій звѣрь.
– Что же мнѣ говорить тебѣ, разбойнцвъ?… Сто я тебя люблю, что всѣ эти дни я провела въ тоскѣ, самой глубокой, самой мрачной, думая о моемъ цыганѣ.
И двое влюбленныхъ, вступивъ на покатый путь страсти, убаюкивали другъ друга музыкой своихъ словъ, съ многорѣчивостью, свойственной южнымъ испанцамъ.
Рафаэль, ухватавшись за рѣшетку окна, дрожалъ отъ волненія, говоря съ Маріей де-ла-Лусъ, точно его слова исходили не изъ его устъ, и возбуждали его сладкимъ опьянѣніемъ. Напѣвы народныхъ романсовъ, гордыя и нѣжныя слова любви, слышанныя имъ подъ аккомпаниментъ гитары, смѣшивались въ томъ любовномъ молебствіи, которое онъ вкрадчивымъ голосомъ шепталъ своей невѣстѣ.
– Пусть всѣ горести жизни твоей обрушатся на меня, свѣтъ души моей, а ты познай однѣ лишь ея радостіи. Лицо твое – лицо божества, моя хитана[1]1
Цыганка.
[Закрыть]; и когда ты смотришъ на меня, мнѣ кажется, что младенецъ Христосъ глядитъ на меня своими дивными глазами… Я желалъ бы быть дономъ Пабло Дюпономъ со всѣми его бодегами, чтобы вино изъ старыхъ бурдюковъ, принадлежавшихъ ему и стоющихъ многія тысячи песетасъ пролить у ногъ твоихъ, и ты бы встала своими прелестными ножками въ этотъ потокъ вина, а я сказалъ бы всему Хересу: «Пейте, кабальеросы, вотъ гдѣ рай!» И всѣ бы отвѣтили: «Ты правъ, Рафаэль, сама Пресвятая Дѣва не прекраснѣе ея». Ахъ, дитя! Еслибъ ты не полюбила меня, на твою долю выпала бы горькая судьба. Тебѣ пришлось бы идти въ монахини, потому что никто не дерзнулъ бы ухаживатъ за тобой. Я бы стоялъ у твоихъ дверей, и не пропустилъ бы къ тебѣ и самого Господа Бога.
Марія де-ла-Лусъ была польщена свирѣпымъ выраженіемъ лица ея жениха при одной лишь мысли, что другой мужчина могъ бы ухаживать за ней.
– Глупый ты! Вѣдь я же люблю одного лишь тебя! Мой мызникъ околдовалъ меня, и я – какъ ждутъ пришествія ангеловъ, – жду той минуты, вогда я переберусь въ Матансуэлу, чтобы ухаживать за моимъ умницей надсмотрщикомъ!.. Ты вѣдь знаешь, что я могла бы выйти замужъ за любого изъ этихъ сеньоровъ въ конторѣ, друзей моего брата. Наша сеньора часто говоритъ мнѣ это. А въ иной разъ она уговариваетъ меня идти въ монахини, и не изъ числа иростыхъ, а съ большимъ приданымъ, и обѣщаетъ взять на себя всѣ расходы. Но я отказываюсь и говорю: «Нѣтъ, сеньора, я не хочу быть святой; мнѣ очень нравятся мужчины… Іисусе Христе, что за ужасы я говорю! – не всѣ мужчины мнѣ нравятся, нѣтъ; одинъ лишь только мой Рафаэль, который, сидя верхомъ на конѣ. кажется настоящимъ Михаиломъ Архангеломъ. Только не возгордись ты слишкомъ этими похвалами, вѣдь я же шучу!.. Вся я горю желаніемъ быть мызницей моего мызника, который бы любилъ меня и говорилъ бы мнѣ сладостныя рѣчи. Съ нимъ кусокъ черстваго хлѣба мнѣ милѣе всѣхъ богатствъ Хереса».
– Да будутъ благословенны твои уста! Продолжай, дитя; ты возносишь меня на небо, говоря тажія рѣчи! Ничего ты не потеряешь, отдавъ мнѣ свою любовь. Чтобы тебѣ жилось хорошо, я на все пойду; и хотя крестный и разсердится, лишь только мы поженимся съ тобой я опять займусь контрабандой, чтобы наполнитъ тебѣ передникъ червонцами.
Марія де-ла-Лусъ запротестовала съ жестомъ ужаса. Нѣтъ, этому не быватъ никогда. Еще теперь она волнуется, вспоминая ту ночь, когда онъ пріѣхалъ къ нимъ, блѣдный, какъ мертвецъ, и истекающій кровью. Они будуть счастливы, живя въ бѣдности, и не искушая Бога новыми приключеніями, которыя могутъ стоитъ ему жизни. Къ чему имъ деньги?
– Всего важнѣе, Рафаэль, лишь одно: любить другъ друга, – и ты увидишь, солнце души моей, когда мы съ тобой будемъ жить въ Матансуэлѣ, какую сладкую жизнь я устрою тебѣ.
Она тоже изъ деревни, какъ и ея отецъ, и желаетъ оставаться въ деревнѣ. Ее не пугаетъ образъ жизни на мызѣ. Сейчасъ видно, что въ Матансуэлѣ нѣть хозяйки, которая бы сумѣла превратитъ квартиру надсмотрщика въ «серебряное блюдо». Привыкшій къ безпорядочному существованію контрабандиста и къ заботамъ о немъ той старой женщины на мызѣ, онъ тогда пойметъ лишь что такое хорошая жизнь. Бѣдняжка! По безпорядку его одежды она видитъ, какъ нужна ему жена. Вставать они будуть съ разсвѣтомъ: онъ, – чтобы присмотрѣть за отправкой въ поле рабочихъ, она – чтобы приготовить завтракъ и держать домъ въ чистотѣ этими вотъ руками, данными ей Богомъ, ни мало не пугаясь работы. Въ деревенскомъ своемъ нарядѣ, который такъ идетъ къ нему, – онъ сядетъ верхомъ на коня, со всѣми пришитыми на мѣсте путовицами, безъ малѣйшей дырки на штанахъ, въ рубахѣ снѣжной бѣлизны, хорошо проглаженной, какъ у сеньорито изъ Хереса. А возвращаясь съ поля домой, мужъ встрѣтитъ жену у воротъ мызы, одѣтую бѣдно, но чисто, словно струя воды; хорошо причесанную, съ цвѣтами въ волосахъ и въ передникѣ ослѣпительной бѣлизны. Олья[2]2
Похлебка, варево.
[Закрыть] ихъ будетъ уже дымиться на столѣ. А готовитъ она вкусно, очень вкусно! Отецъ ея трубитъ объ этомъ всюду и всѣмъ. Весело пообѣдаютъ они вдвоемъ, съ пріятнымъ сознаніемъ, что сами заработали себѣ свое пропитаніе, и онъ снова уѣдетъ въ поле, а она сядетъ за шитье, займется птицами, будетъ мѣсить хлѣбъ. Когда же стемнѣетъ, они, поужинавъ, лягутъ спать, утомленные работой, но довольные проведеннымъ днемъ, и заснутъ спокойно и пріятно, какъ люди потрудившіеся и не чувстующіе угрызеній совѣсти, потому что никому не сдѣлали зла.
– Подойди-ка ближе сюда, – страстно заговорилъ Рафаэль. – Ты еще не все хорошее перечислила. У насъ потомъ явятся дѣти, хорошенькія малютки, которыя будутъ бѣгать по двору мызы.
– Молчи, каторжникъ! – воскликнула Марія де-ла-Лусъ. – Не забѣгай такъ далеко впередъ, а то еще грохнешься на землю.
И оба замолчали, – Рафаэль, – улыбаясь, при видѣ густой краски, залившей лицо его невѣсты, въ то время какъ она одной изъ маленькихъ своихъ ручекъ угрожала ему за его дерзость.
Но юноша не могъ молчать и съ упорствомъ влюбленнаго заговорилъ снова съ Маріей де-ла-Лусъ о своихъ терзаніяхъ, когда онъ только что отдалъ себѣ отчеть въ пылкомъ своемъ чувствѣ къ ней.
Впервые онъ понялъ, что любитъ ее, въ страстную недѣлю, при выносѣ плащаницы. И Рафаэль смѣялся, такъ какъ ему казалось забавнымъ, что онъ влюбился въ такой обстановкѣ: – во время процессіи шествія монаховъ разныхъ орденовъ, при колыханіи хоругвей, и звувовъ кларнетовъ и мавританскихъ барабановъ.
Процессія проходила въ поздніе ночные часы по улицамъ Хереса среди унылаго безмолвія, точно весь міръ долженъ былъ умереть, и онъ держа шапку въ рукахъ, съ сокрушеніемъ сердда смотрѣлъ на процессію, волновавшую ему душу. Вскорѣ, во время одной изъ осталовокъ ея, какой-то голосъ прервалъ молчаніе ночи, голосъ, заставившій плакать суроваго контрабандиста.
– И это была ты, дорогая; это былъ твой золотой голосъ, сводившій съ ума людей. – «Она дочъ приказчика изъ Марчамало», – говорили подлѣ меня. «Да будутъ благословенны ея уста – это настоящій соловей!» Грусть сжала мнѣ сердце, я самъ не знаю почему, и я увидѣлъ тебя среди твоихъ подругъ, такую прекрасную, словно святую, поющую saeta[3]3
Стрѣлу.
[Закрыть] со сложенными руками, устремивъ на изображеніе Христа твои большіе глазища, казавшіеся зеркалами, въ которыхъ отражались всѣ свѣчи процессіи. И я, игравшій съ тобой въ дѣтствѣ, подумалъ, что это не ты, а другая, что тебя подмѣнили; и я почувствовалъ боль въ сердцѣ, словно меня рѣзнули ножомъ. Я посмотрѣлъ съ завистью на Христа въ терновомъ вѣнцѣ, потому что ты пѣла для Hero и смотрѣла на Hero во всѣ свои глаза. И чуть было я не сказалъ Ему: «Сеньоръ, окажите милость бѣдняку и уступите на короткое время мнѣ свое мѣсто на крестѣ. Пустъ увидятъ меня на немъ, съ пригвожденными къ кресту руками и ногами, лишь бы только Марія де-ла-Лусъ пѣла мнѣ своимъ ангельскимъ голосомъ».
– Сумасшедшій! – сказала смѣясь молодая дѣвушка, – Краснобай! Вотъ какъ ты мнѣ туманишь голову съ этой твоей ложью, которую ты придумываешь!
– Потомъ я опять услышалъ тебя на площади de la Carcel. Бѣдняжки арестанты, сидя за рѣшотками, точно какіе-то хищные звѣри, пѣли Христу очень грустныя saetas, въ которыхъ рѣчъ шла объ ихъ оковахъ и горестяхъ, о плачущихъ матеряхъ, и о дѣтяхъ, которыхъ они не могутъ обнять и поцѣловать. А ты, сердце мое, отвѣчала имъ съ площади другими saetas, столь сладостными, какъ пѣніе ангеловъ, прося Бога смиловаться надъ несчастными. Тогда я поклялся, что люблю тебя всей душой, что ты должна принадлежать мнѣ, и я испытывалъ желаніе крикнть бѣднягамъ за рѣшотками: «До свиданія, товарищи; если эта женщина не любитъ меня, я совершу что-либо ужасное: убью кого-нибудь, и въ слѣдудещемъ году и я буду пѣтъ въ тюрьмѣ вмѣсте съ вами пѣсню распятому Христу въ терновомъ вѣнцѣ».
– Рафаэль, не будь извергомъ, – сказала дѣвушка съ нѣкоторымъ страхомъ. – He говори такихъ вещей; это значило бы искушать милосердіе Божіе.
– Вовсе нѣть, глупенькая моя; вѣдь это же только такъ – манера говорить. Къ чему мнѣ стремитъся въ тѣ мѣста печали! Я стремлюсь въ одно лишь мѣсто – въ нашъ рай любви, когда женившись на моей смуглянкѣ-соловушкѣ, я ее возьму въ себѣ въ теплое гнѣздышко въ Матансуэло… Но, о, дитя! Сколько я выстрадалъ съ того самаго дня! Сколько перенесъ я мукъ, раньше чѣмъ сказать: «Я люблю тебя!» Часто пріѣзжалъ я въ Марчамало по вечерамъ, съ запасомъ хорошо подготовленныхъ косвенныхъ признаній, надѣясь, что ты поймешь меня, а ты – ни мало не понимала, и смотрѣла на меня, точно образъ «Dolorosa», сохраняющій и въ страстную недѣлю тотъ же видъ, какъ и въ остальное время года.
– Ахъ, глупенькій! Вѣдь я же поняла все съ перваго раза! Я сейчасъ же угадала любовь твою ко мнѣ я была счастлива! Но долгъ требовалъ скрывать это. Дѣвушкѣ не слѣдуетъ смотрѣть на мужчинъ такъ, чтобы вызвать ихъ говорить ей: «Я люблю тебя!» Это неприлично.
– Молчи, жестокосердая! Мало ты заставила меня страдатъ въ то время! Я пріѣзжалъ къ вамъ верхомъ, послѣ того какъ у меня происходили перестрѣлки съ таможенной стражей, и когда я видѣлъ тебя, сердце мое пронизывалосъ страхомъ, словно ножомъ, и меня бросало въ дрожь. «Я скажу ей это, я скажу ей то». Но лишь только я взгляну на тебя, я уже не въ соотояніи сказать ни слова. Языкъ мой нѣмѣлъ, въ головѣ наступалъ туманъ, какъ въ дни, когда я ходилъ въ школу. Я боялся, что ты разсердишься и что сверхъ того крестный еще угоститъ меня градомъ палочныхъ ударовъ, приговаривая: «Вонъ отсюда, безсовѣстный»; подобно тому, какъ выгоняютъ забѣжавшую на виноградникъ бродячую собаку… Наконецъ, все было высказано. Помнишь? Далось намъ это не легко, но мы поняли другъ друга. Произошло дѣло послѣ полученной мною раны отъ выстрѣла, когда ты ухаживала за мною какъ мать, и, когда вечеромъ я пѣлъ и слушалъ твое пѣніе, здѣсь, подъ аркадами. Крестный наигрывалъ на гатарѣ, и я, устремивъ глаза мои въ твои, словно хотѣлъ съѣсть ихъ, запѣлъ:
Въ кузнѣ молотъ съ наковальней
Разбиваютъ всѣ металлы,
Но разбить ничто не въ силахъ
Страсть, что я къ тебѣ питаю.
И пока крестный подпѣвалъ: «тра, тра; тра, тра», точно онъ молотомъ билъ о желѣзо, ты вспыхнула какъ огонь и опустила глаза, прочитавъ, наконецъ, въ моихъ глазахъ. И я сказалъ себѣ: «Дѣло идетъ на ладъ». Такъ оно и оказалось, не знаю какъ, но мы признались другъ другу въ любви. Быть можетъ, утомившись заставлять меня страдать, ты укоротила мнѣ путь, чтобы я потерялъ свой страхъ… И съ тѣхъ поръ во всемъ Хересѣ и во всѣхъ его окрестностяхъ нѣтъ человѣка, болѣе счастливаго и богатаго, чѣмъ Рафаэ, надсмотрщикъ въ Матансуэлѣ… Ты знаешь дона Пабло со всѣми его милліонами? Но рядомъ со мной онъ – ничто, простая вощаная мазь!.. И всѣ остальные владѣльцы виноградниковъ – ничто! Хозяинъ мой, сеньоръ-то Луисъ, со всѣмъ его имуществомъ и всей стаей расфуфыренныхъ женщинъ, которыхъ онъ держитъ при себѣ… тоже ничто! Самый богатый въ Хересѣ я, который возьметъ къ себѣ на мызу некрасивую смуглянку, слѣпенькую, такъ какъ у бѣдняжки почти не видать глазъ, и, кромѣ того, у нея еще одинъ недостатоиъ – тоть, что когда она смѣется, на лицѣ у нея, являются прековарныя ямочки, словно все оно изъѣдено оеспой.
И держась за рѣшетку, онъ говорилъ съ такимъ пыломъ, что казалось, сейчасъ просунетъ лицо свое сквозь прутья рѣшетки, стремясь къ лицу Маріи де-ла-Лусъ.
– Тише, – сказала дѣвушка, угрожая ему съ улыбкой. – Дождешься, что я уколю тебя, но только шпилькой изъ моей косы, если ты не успокоишься. Вѣдь ты, Рафае, знаешь, что нѣкоторыя шутки мнѣ не по вкусу и прихожу я на свиданіе къ окну только потому, что ты обѣщалъ держаться какъ слѣдуетъ.
Жестъ Маріи де-ла-Лусъ и ея угроза закрытъ окно принудили Рафаэля сдержать свой пылъ, и нѣскольюо податься назадъ отъ рѣшетки.
– Пусть будетъ по-твоему, жестокосердая. Ты не знаешь, что значитъ любить, и потому ты такая холодная и спокойная, словно стоишь за обѣдней.
– Я не люблю тебя? Малютка ты этакій! – воскликнула дѣвушка.
И теперь уже она, забывая свою досаду, принялась говорить еще съ большимъ жаромъ, чѣмъ ея женихъ. У нея другой родъ любви, но она увѣрена, что положивъ на вѣсы оба ихъ чувства, между ними ни въ чемъ не окажется разницы. Братъ ея лучше ея самой знаетъ о той горячности съ которой она любитъ Рафаэля. Какъ смѣется надъ ней Ферминъ, когда прійдетъ къ нимъ на виноградникъ и начнетъ ее разспрашивать о ея женихѣ.