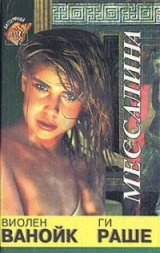
Текст книги "Мессалина"
Автор книги: Виолен Вануйек (Ванойк)
Соавторы: Ги Раше
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Виолен Ванойк, Ги Раше
Мессалина
Глава I
КЛАВДИЙ
Не прошло и трех месяцев со дня смерти императора Тиберия, а римский народ уже восторженно радовался его преемнику Гаю Цезарю, которому легионеры его отца, прославленного Германика, на берегах Рейна дали прозвище Калигула, «сапожок». Все общественные места то и дело сотрясали нестройные крики толпы. «Тиберия в Тибр!» – горланили те, кто имел основания сетовать на преступные безумства почившего императора; многочисленная эта публика заражала своей страстностью и простолюдинов, меж тем как весь Рим бурно приветствовал своего «дитятку», свою «новую звезду» – Гая Цезаря. Этот молодой человек двадцати четырех лет, усыновленный Тиберием и неожиданно поставленный капризною фортуной во главе Римской империи, пользовался огромной популярностью благодаря своему родному отцу Германику, чьи скромность, талантливость и блестящие победы над германцами продолжали трогать сердца людей и спустя восемь лет после его смерти. Молодость и опасности, подстерегавшие Гая Цезаря при дворе Тиберия, усилили ореол славы вокруг него, и, дабы оправдать эту преждевременную славу, он, едва взойдя на трон, выказал радушие, умение руководить, бережливость в отношении общественных средств и щедрость в отношении народа – словом, все те качества, которые требовались, чтобы очаровать алчную и переменчивую римскую толпу.
Калигула обосновался на Палатинском холме во дворце, служившем резиденцией его кровавому предшественнику до той поры, пока тот не покинул Рим, удалившись на остров Капри, который он превратил одновременно в роскошную крепость, административный центр, где выносились смертные приговоры, и гнездо безудержного разврата. Дворец Тиберия находился в западной части холма. С южной стороны к нему прилегала площадь, где высился храм с изящными коринфскими колоннами в честь восточной богини Кибелы, которую римляне называли Великой матерью. К храму вела лестница из розового туфа. Хотя жилище императора, расположенное неподалеку от маленького дворца Августа, уже разрослось до внушительных размеров, Калигула мечтал продолжить здание на север, вплоть до атрия весталок и форума.
Время близилось к десяти часам вечера, всепроникающие лучи закатного солнца залили золотистым светом зелень знаменитого холма, они зажгли позолоченную бронзу квадриги, высящейся на фронтоне храма Аполлона, который примыкал ко дворцу Августа. Птицы, слетевшиеся из Велабра, – выстроенного на топях городского квартала возле Палатинского холма, – усевшись на подоконниках, рассказывали легенды о гроте Луперкалии, где мифическая волчица вскормила близнецов Ромула и Рема, прежде чем они были найдены пастухом Фаустулом. Это был час, когда приезжие толпились у подножия холма, желая своими глазами увидеть хижину доброго пастуха и грот, вот уже восемь веков затерянный в лесном владении бога Пана и охраняемый смоковницей богини Румины, под которую вынесло на берег колыбельку из ивовых прутьев с близнецами, брошенную в воды Тибра.
Тиберий Клавдий Германик, или просто Клавдий, брат великого Германика, читал поэму Овидия во дворцовой библиотеке. Он был приглашен Калигулой на трапезу, однако явился с опозданием, и император не пожелал его принять. Калигуле, знавшему, что его дядя – чревоугодник и может есть часами, не обращая внимания даже на боли в желудке, доставляло удовольствие так вот потешаться над Клавдием и наказывать его. Клавдия это коробило, но он не подавал виду из страха навлечь на себя императорский гнев. За время правления Тиберия он научился скрывать свои чувства, что и помогло ему пережить императора, которому не давали покоя мысли о заговорах и собственное злопамятство.
Внезапно голоса отвлекли его от чтения: в соседней с библиотекой столовой хлопотали рабы, переворачивая ложа, чтобы убрать с них остатки пищи, без сомнения изысканной и обильной, как любил Калигула. Клавдий что-то проворчал, ощутив еще большую пустоту в желудке. Он попытался вновь сосредоточиться на чтении, но тут ему помешали крики, донесшиеся снаружи. Жара спала, и взбодрившиеся римляне суетились в преддверии необычайных игр, которые император решил провести в честь своей матери Агриппины, прозванной Старшей, чтобы не путать ее с дочерью, Агриппиной Младшей, родившейся тремя годами позже Калигулы. Мелкие торговцы уже принялись устраиваться вокруг Большого цирка, у подножия Палатина, где чаще всего проходили гонки на колесницах. До дворца доносились стук молотков, оповещающий о том, что торговцы спешно сооружают лавки и навесы, и крики простого люда, возбужденного от предвкушения празднеств.
Уличный шум окончательно отвлек внимание Клавдия. Он положил папирусный свиток на стол из цитрона стоимостью в один миллион триста тысяч сестерциев (цена обширного земельного владения!), который царь Птолемей Мавретанский недавно подарил его племяннику Калигуле. Затем он встал, слегка пошатываясь. Странное зрелище являл собою этот сорокавосьмилетний мужчина на слишком тонких ногах, с нетвердой походкой, одетый в тогу ослепительной белизны, богато расшитую зелеными и золотыми узорами. Он без тени величия носил эту парадную тогу, наряжаясь в нее, только когда отправлялся во дворец; когда же ему надо было присутствовать на играх или, по бытующему у римлян обычаю, он шел прогуляться на форум, то довольствовался льняной туникой. Дотащив обутые в кожаные сандалии ноги до высокого окна, он с любопытством взглянул на дом Ливии, возле которого царило лихорадочное волнение. Люди из личной охраны императора раздавали деньги толпе от имени Калигулы, недавно унаследовавшего огромное состояние от своей бабки Антонии Младшей, дочери триумвира Марка Антония и Октавии, старшей сестры Августа. Римляне горячо приветствовали своего щедрого императора.
При воспоминании об Антонии, родной своей матери, оставившей наследство и без того уже владеющему целой империей внуку, Клавдий досадливо скривил пухлые губы. Она никогда не любила его, всегда относилась к нему с презрением. Без тени жалости заявляла, что ее сына Клавдия, с его огромными ножищами, жидкими волосенками и выпученными глазами, природа «начала и не кончила». Ему едва исполнился год, когда он лишился отца, Друза, брата Тиберия. Во времена Августа отец одержал несколько славных побед в Германии. Клавдия, много болевшего в детстве, оставшегося без отеческой заботы, считали неспособным к какой-либо деятельности и уже в совершенных летах отдали под присмотр наставника, бывшего конюха, который обращался с ним грубо и уделял ему внимания меньше, чем своим лошадям. Мать однажды позволила ему занять распорядительское место на гладиаторских боях, дававшихся в память его покойного отца, но при условии, что он наполовину закроет лицо капюшоном, чтобы не выставлять на посмешище императорскую семью. Когда Антония хотела укорить кого-нибудь в тупоумии, она, по обыкновению, говорила, что этот кто-то «глупей ее Клавдия». И даже его бабка Ливия, жена Августа, обращалась к нему чаще через третьих лиц или же посредством коротких записок.
Раздумывая об отношении к себе близких, казавшемся ему тем более несправедливым, что он был самым прилежным и образованным человеком в семье, Клавдий спрятал свиток со стихами Овидия в футляр, положил его в нишу и стал искать сочинение об этрусках. Клавдий страстно увлекался историей, его в равной степени интересовали и этруски, и Карфаген. Он гордился тем, что его другом и учителем был Тит Ливий, великий римский историк, умерший лет двадцать назад, но оставивший по себе неизгладимую память. Клавдий наткнулся на «Георгики» Вергилия, развернул свиток и пробежал глазами несколько строк. Он стоял спиной к двери и не слышал, как вошел Калигула.
– Приветствую тебя, Клавдий! Что ты читаешь, пока меня нет?
Услыхав голос племянника, Клавдий вздрогнул. Он обернулся и, пораженный нелепым нарядом Калигулы, на мгновение потерял дар речи. Калигула был одет в тяжелую муаровую тунику, усыпанную драгоценными камнями и спадающую асимметричными складками до самого пола. Император питал явное пристрастие к пестрым туникам, которые римляне носили лишь за городом. Он был высокого роста и худой, в движениях немного расхлябанный, тело имел жилистое, ноги тонкие; его впалые виски и широкий, выпуклый и шишковатый лоб контрастировали с меньшей по размерам нижней частью лица, заканчивающейся волевым выступающим подбородком; глубоко посаженные, но живые и яркие глаза придавали ему вид человека умного и проницательного, однако в них поблескивал какой-то тревожный огонь.
Клавдий поднял руку, чтобы приветствовать императора, взявшего у него свиток.
– Вергилий? – с насмешкой воскликнул Калигула. – Ну уж нет! Все что угодно, только не Вергилий! Стихоплет он, этот Вергилий! Послушай вот лучше!
Он презрительно бросил поэму на стол и, с пафосом воздев руки, продекламировал по-гречески:
– Сокрушает мне сердце тяжкой своею судьбой Одиссей хитроумный; давно он страждет, в разлуке с своими, на острове, волнообъятом пупе широкого моря…[1] Гомер – вот поэт! Единственный великий поэт!
Не желая перечить своему вспыльчивому племяннику, Клавдий положил свиток на место, вспомнив при этом, что было время, когда Калигула высоко ценил создателя дивной «Энеиды». Но вкусы его были переменчивы, и очень скоро он бросал в огонь то, что прежде обожал.
– Садись, Клавдий, – снова заговорил Калигула. – Я заставил тебя ждать, но почему же ты, когда тебя ждут к обеду, всегда являешься во дворец с таким опозданием? Ведь ты знаешь, что мне это не нравится. Ты, верно, по своему обыкновению, всю ночь бегал по лупанарам и лег спать на рассвете?
Племянник попал в точку; Клавдий, кивнув, как и в детстве залился краской и пробормотал:
– Это не доставило мне удовольствия…
Растянувшийся на деревянном с золотой инкрустацией ложе Калигула захохотал:
– Отчего же, скажи на милость? Ты не захотел платить и хозяйка тебя поколотила?
– Вовсе нет. Просто я напрасно прождал всю ночь на Эсквилине одну армянку.
– О Приап! С чего это ты возжелал армянку, а не прекрасную римлянку с тугой грудью и круглым мясистым задом?
– Она мне понравилась. Когда я пришел к ней, она уходила куда-то с центурионом и попросила меня подождать.
– И ты безропотно покорился? Осел несчастный! Надеюсь, она не знает, кто ты такой, иначе она не преминет похвастаться, что заставила томиться ожиданием дядю самого цезаря. Я отомщу за тебя, бедный мой Клавдий. Я велю привести ее в лупанар, который намерен устроить здесь, во дворце, и ты сможешь иметь ее всякий раз, когда будешь приходить ко мне. Быть может, тогда тебе не придется ждать.
– Благодарю тебя, Калигула, – прошептал, опустив голову, Клавдий.
– Не надо меня благодарить, – вставая, проговорил император.
Он взял в стоящей на столе вазе оливку, разжевал ее и, злобно глядя на Клавдия, ловко выплюнул косточку ему в волосы.
– Ты, верно, голоден? – спросил Калигула.
Клавдий кивнул, казалось, не обратив внимания на застрявшую в венке цветов косточку. Калигула хлопнул в ладоши, и тотчас рабыня-эфиопка, обнаженная до бедер, туго стянутых длинной набедренной повязкой из льна, с густой курчавой шевелюрой, схваченной пурпурной лентой, явилась получить приказания.
– Принеси соррентского вина, галльской колбасы и тасосских орехов.
Когда молодая женщина ушла, Калигула вновь обратился к дяде:
– Попробуй пока эти оливки… Поверь, я заставил тебя ждать не ради собственного удовольствия. Сенаторы мне все уши прожужжали своими советами по поводу неотложных мер. Весь обед прошел в этих бесполезных дискуссиях, я ведь все равно все сделаю по-своему. Потом мне пришлось принять посланцев от граждан Аниция, прибывших из Лузитании, и от граждан Асса, прибывших из Троады, чтобы зачитать клятвы верности, которые дали мне их народы. Из-за этого я так и не покончил с почтой от прокуроров провинций. Все меня восхваляют в посланиях. Хотел бы я знать, когда я сяду на моего любимца Инцитата? За три месяца, что я ношу императорский пурпур, у меня не было ни минуты досуга!
Вошли рабыня-эфиопка и с нею еще одна женщина, обе несли золотые чеканные кувшины, бокалы тонкого александрийского стекла, серебряные блюда с колбасами и круглым хлебом.
– А вот и приятное питье, – сказал Калигула, беря бокал из рук опустившейся на колени рабыни. – Я не считаю соррентское вино наилучшим, хотя все отмечают отсутствие в нем примесей. Впрочем, оно легкое и в этот час, думаю, доставит тебе удовольствие.
Клавдий выразил согласие, сопровождаемое неприязненной ухмылкой, и протянул руки другой рабыне, принявшейся обмывать их теплой водой с лимоном и лепестками роз.
В эту минуту до присутствующих донеслось имя Калигулы, которое скандировала толпа, собравшаяся на вершине лестницы Кака, ведущей на Палатин. Одновременно рабыня, в обязанности которой входило сообщать о посетителях, известила императора о том, что Мнестер, знаменитый мим, ставший императорским любимцем, просит его впустить. Калигула жестом дал понять, что примет актера, и в ту же секунду вошел Мнестер. Этот худой, гибкий и подвижный человек, казалось, беспрерывно изображал что-то и танцевал прямо на ходу, точно его профессия сделалась его второй натурой. Он словно бы скользнул по гладкому мраморному полу к императору и подобострастно приветствовал его:
– Цезарь, твое имя звучит повсюду в Риме. Тебе надо появиться в окне, чтобы принять поздравления, которых стоят твои заслуги и беспримерная щедрость.
Довольная улыбка осветила лицо молодого императора.
– Народ требует меня, – объяснил он Клавдию. – Оно и понятно: я велел раздать по семьдесят пять динариев каждому гражданину. Отведай этого вина, пока я буду приветствовать их… И ты тоже, Мнестер.
Калигула резко встал. Походка у него была неуклюжая, и эта неуклюжесть лишь усилилась с тех пор, как он принял на себя лавры империи. Зато, усвоив на уроках риторики и философии набор общих идей и готовых суждений, отвечающих ожиданиям публики, он умел произносить блистательные речи. Ему удавалось украсить их примерами из римской истории и развернутой аргументацией. Он мог превосходно вести дискуссию и полемику. Его словарный запас вызывал у слушателей удивление и восхищение. Сам Тиберий, удалившись на Капри и выбрав Калигулу своим преемником, побуждал его и дальше следовать по этому пути. Голос у Калигулы был зычный, ясная речь лилась свободно. От своего отца, Германика, Калигула унаследовал способность убеждать и нравиться. Он пригладил рукой не очень густые торчащие волосы и длинными тонкими пальцами поправил пряди, покрывающие высокий лоб. На макушке у него уже наметилась плешь, наследственная в роду Юлиев, к которому он принадлежал через свою бабку Октавию.
Едва народ увидел своего императора, как восторженные крики, сопровождаемые рукоплесканиями, грянули с новой силой. Калигула поднял руку, приветствуя толпу.
– Этот народ задушит меня в порыве радости! – со вздохом проговорил Калигула, возвращаясь на ложе.
– Он любит тебя, цезарь, к тому же он многого натерпелся при Тиберии, – сказал льстивый Мнестер.
Однако, вопреки его ожиданию, Калигула встал, взгляд его был суров.
– У тебя есть основания сетовать на Тиберия, Мнестер? – слащавым голосом спросил Калигула.
Стремясь опровергнуть слух о своей причастности к смерти Тиберия – это предположение было настолько очевидным, что о нем даже заявляли официально, – Калигула выступал непреклонным защитником памяти о своем покойном двоюродном дядюшке-императоре.
Почуяв опасность, Мнестер с поклоном вкрадчиво произнес:
– Напротив, цезарь, милости этого великого правителя сделали меня счастливым.
– Мне отрадно это слышать, Мнестер. А теперь ступай. Я хочу остаться с Клавдием наедине. Да! Вели еще объявить народу, что по случаю игр, которые я устраиваю в память чтимой мною и оплакиваемой матушке, я снова буду раздавать деньги.
Когда Мнестер ушел, Калигула заговорил вновь:
– Ну, как тебе это вино?
– Превосходное!
– Попробуй еще колбасы. Мы ею полакомились вволю! Правда, мы запивали ее великолепным вином стошестидесятилетней выдержки, которое подарил мне Помпоний Секунд. Кажется, он заплатил за него умопомрачительную цену, но я так и не смог выведать, какую именно.
Клавдий, хотя и чувствовал голод, едва прикасался к еде из страха вызвать новые насмешки племянника. Калигула, небрежно свесив ногу в чрезмерно разукрашенном котурне[2] из золоченой кожи, наблюдал за Клавдием, откусывающим кусочки колбасы.
– Поговорим теперь о вещах серьезных, – вдруг сказал Калигула, когда Клавдий, от голода все более смелевший, уже принялся пожирать орехи и колбасу. – Я решил, что ты будешь распорядителем на играх в честь Агриппины.
– Ты хочешь, чтоб я…
Клавдий икнул, чуть было не подавившись орехом.
– Ты вместо меня будешь руководить играми, которые я устраиваю в честь моей матушки.
– Ты по-прежнему смеешься надо мной, Калигула…
– Вовсе нет. Я хочу, чтобы ты начал появляться перед народом и занялся государственными делами.
Эти слова, сказанные твердым голосом, убедили Клавдия в том, что его племянник не шутит. Тотчас Клавдия охватили противоречивые чувства. Прежде всего он боялся, что возложенные на него задачи окажутся ему не по плечу и это поставит его в еще более тягостное положение перед императором. С другой стороны, думал он, ему выпадал случай побороть судьбу и исправить дурное представление о себе, которое его родные и Август навязали народу. Ведь несмотря на то, что Август обнаружил в нем «благородство души», по его собственному выражению, и оценил ясность его речи во время публичного выступления, он не пожелал допустить его ни к одной должности, кроме авгурства.[3] И все же Клавдию еще хотелось защищаться, хотя бы для того только, чтобы проверить твердость намерений императора.
– Ты, цезарь, считаешь меня круглым дураком? Тебе же известно, что я был вынужден отказаться от активной жизни и славы. Я уже давно провожу свои дни в праздности, то на вилле в Кампании, то здесь, в Риме. Видят меня не иначе, как в окружении людей, что называется, низких, из-за этого я и приобрел репутацию искателя наслаждений и пьяницы…
Калигула, приподнявшись на ложе, резким жестом выразил нетерпение.
– Мне все это известно, Клавдий. Как бы там ни было, а народ тебя любит. Сегодня я выбираю тебя так же, как выбрали тебя всадники, чтобы чествовать меня в Кампании после кончины Тиберия. Сам сенат когда-то предложил сделать тебя одним из жрецов Августа и позволить высказывать свое мнение среди консуляров.[4] Сам Тиберий не относился к тебе с презрением, в отличие от остальных членов твоей семьи. Разве он не упомянул тебя в числе своих наследников в третью очередь и разве перед смертью он не рекомендовал тебя армии, сенату и народу?
Клавдий, чье удивление было столь велико, что заставило его даже забыть о еде, кивнул и махнул рукой в знак согласия. – Ты, стало быть, начнешь с того, что будешь распоряжаться на играх, – продолжал Калигула. – Помимо этого, мне хочется, чтобы ты утихомирил сенаторов, которые станут сетовать на новые расходы и в то же время соперничать между собой за возможность финансировать игры. Еще я решил реабилитировать моих братьев, Друза и Нерона, объявленных при Тиберии врагами отечества, и воздвигнуть их статуи. Проследи, чтобы эта работа была сделана как подобает. У меня к тому же есть намерение поручить тебе строительство акведука в окрестностях Тибура и строительство амфитеатра неподалеку от септы.
– Тебе не придется сожалеть о своем решении, Калигула. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе угодить, все для счастья и благоденствия Гая Цезаря и его сестер.
– Я в этом не сомневаюсь, Клавдий. Заканчивай еду и не вздумай задремать. Отныне у тебя будет много работы. Покажи, что я верно оценил твои способности. Иначе я велю рабам разбудить тебя розгами.
Глава II
ЦИРКОВЫЕ ИГРЫ
– Пусть все мужчины, которые увидят тебя на играх в честь Агриппины и в ознаменование побед цезаря, почувствуют к тебе любовное влечение! В особенности мужчины богатые и знатные! С этой мандрагорой ты будешь неотразима, мое дорогое дитя.
Мессалина, сидя на краю ложа, с недовольной гримасой глядела на мать, вихрем ворвавшуюся в ее комнату: она не то чтобы сомневалась в действенности магического корня, но просто считала, что ее собственных прелестей вполне достаточно, чтобы быть неотразимой.
Домиция Лепида протянула мандрагору кормилице Мессалины, красавице-фессалийке Трифене, чтоб та ее осмотрела.
– Очень уж она маленькая, эта мандрагора, – заявила кормилица, немного повертев корень в руках. – Лучше воспользоваться талисманом, который мы можем сделать вот из этого яйца…
Трифена осторожно достала яйцо, снесенное черной курицей, и положила его на бронзовый треножник. Затем она проткнула яйцо с двух концов толстой шпилькой для волос, удалила белок и, обращаясь к молодой рабыне, стоящей подле нее, сказала:
– Возьми это яйцо и сделай так, как я велю: раздобудь мужского семени, помести в яйцо и залепи оба отверстия воском. Потом отнеси яйцо на кладбище, что на холме Ватикан, положи в неглубокую ямку и засыпь ее мелко истолченными человеческими костями. В течении тридцати дней нужно девять раз полить это место молоком ослицы и уксусом. В последний день я сама приду и откопаю талисман. Отчасти и от твоих стараний будет зависеть счастье Мессалины и благополучие Марка Валерия Мессалы Барбата, ее прославленного отца.
– Не тревожься, кормилица, твои распоряжения будут выполнены в точности.
Лепида, взглядом проводив рабыню, вышедшую за порог комнаты, обратилась к Трифене:
– Значит, нужно еще ждать целый месяц? Но ведь сегодня Мессалине предоставляется редкая возможность найти себе мужа среди всех этих богатых людей, которые прибудут на ипподром.
– Она может сегодня встретить подходящего человека, – твердо сказала кормилица. – Разве не ты уверяла меня, что своими глазами видела, как статуя Аполлона согнула колено в храме Фортуны, и разве не привиделись тебе золотые украшения в твоем шкафу, когда ты заглянула в него?
– Женщины, до чего же вы все глупы! Что вы говорите? Опять эти ваши суеверия и магические заклинания!
Марк Валерий Мессала Барбат стоял у двери, которую рабыня, уходя, оставила открытой. Он сделал несколько шагов по комнате, в то время как супруга бросала на него обиженные взгляды и резким голосом выкрикивала:
– А тебе известен иной способ сделать нас богатыми, Мессала? Я предвижу твой крах, и мы вынуждены будем вести образ жизни, недостойный нашей семьи. Нас связывают родственные узы с самыми знаменитыми фамилиями в Риме, а дом наш так тесен, что я с трудом смогла найти себе комнату! Хорошо еще, что нам не приходится ютиться на узкой постели, как беднякам из Субура!
Мессала Барбат тяжело опустился в кресло и обхватил голову руками. Он не мог больше выносить ни этих бесконечных упреков, ни хлопот, которые доставляла ему жена и которые раньше времени его состарили. Когда-то он имел немалые средства и желал распоряжаться ими разумно. Но роскошный образ жизни, навязанный ему Лепидой, частые приемы, которые она устраивала, не думая о завтрашнем дне, являлись для него постоянной причиной беспокойства. Человек тихий, ограниченный и тушевавшийся перед женой, он отличался от нее и своим пассивным характером, и скромным поведением. Маленькая, худенькая, но живая и напористая, Лепида ухитрилась растратить их наследственное имущество, азартно соревнуясь в расточительстве с богатыми римлянами: с теми, кто владел изысканной мебелью с Востока и огромными виллами, имея возможность жить то в сельской местности, то на берегу моря, то в городе, кому принадлежали небольшие прогулочные суда, садки с муреной, угодья, полные дичи, и собрания греческих произведений искусства в бедном и перенаселенном Риме. Лепида более всего ценила дорогие украшения и роскошную одежду, шитую из тончайших тканей, в особенности из яркого шелка, который везли, подвергаясь множеству опасностей, караваны из далекой и загадочной страны серов.[5] В то время как Мессала Барбат, живущий прежними традициями, принесшими могущество Риму, мечтал иметь супругу целомудренную и благочестивую, искусную рукодельницу, бережливую и деятельную, осторожную и благоразумную хозяйку дома, Лепида являла собою полную противоположность желаемому идеалу и за несколько лет промотала как свое приданое, так и состояние мужа. У них не осталось ничего, кроме дома, где они жили, на Авентинском холме, неподалеку от Большого цирка и храма Юноны. Дом был одноэтажный, с внутренним двориком, окруженным колоннами, куда выходили два зала с фресками на стенах для приема гостей и шесть комнат. Рабы жили в пристройке позади дома.
– Милый отец, ты заблуждаешься.
Мессалина подбежала к отцу и, опустившись перед ним на колени, нежно обняла его.
– Мы готовились идти на игры, которые цезарь устраивает на ипподроме, и Трифена всего лишь произнесла заклинание, чтобы с нами не случилось ничего дурного… И еще мы надеемся там найти мне супруга, достойного нашей семьи.
Мессала погладил еще совсем детское, с пухлыми щеками, личико дочери, на которую он перенес теперь всю свою любовь.
– Ты пойдешь с нами? – спросила Мессалина. Ее светлые глаза искрились радостью.
– Я не могу, моя дорогая. После полудня я должен идти на форум.
Мессалина, вздохнув, встала с колен, отошла от отца и уселась на высокий табурет, предоставив рабыне заниматься ее прической. Густые вьющиеся волосы, обрамляющие ясное и тонкое лицо Мессалины, удлиняли и облегчали ее тяжеловатый волевой подбородок. Рабыня собрала волосы в узел и принялась старательно завивать щипцами локоны вокруг лица. Мессала вышел из комнаты, а кормилица тем временем, пододвинув к Мессалине небольшой столик, расставляла на нем флакончики из египетского алебастра, в которых, как считалось, прекрасно сохраняются духи, и коробочки из дерева и терракоты с кремами и гримом.
– Мы составим для тебя духи, дитя мое, которые могут вскружить голову даже сенаторам, – заявила кормилица, принявшись нюхать содержимое флаконов и коробочек.
При помощи костяных палочек она извлекла из флаконов несколько капель содержимого и смешала их в ониксовой чашечке.
– Я готовлю тебе духи из кипариса, аира, кардамона, аспалата и полыни… вот так. Добавим еще несколько капелек мирры и женьшеня…
– А почему бы тебе не подмешать сюда немного мускуса, мне так нравится этот запах, – предложила Мессалина.
– Это было бы ошибкой. У мускуса запах тяжелый, он заглушит тонкий, но стойкий аромат, составленный из компонентов, которые я тебе перечислила. Вот, понюхай-ка…
Мессалина, прикрыв веки и втянув в себя воздух, одобрительно кивнула головой:
– Мне нравится.
Кормилица с помощью палочек нанесла духи на мочки ушей, шею, грудь и руки Мессалины. Она покрасила ей губы охрой, покрыла зубы эмалью из толченого рога и в завершение подчернила сурьмой брови и ресницы, заявив при этом, что Мессалина слишком молода, чтобы румянить ей и без того яркие розовые щечки.
– Да и незачем тринадцатилетней девушке портить свое свежее личико белилами и прочими красками, – добавила Лепида.
Рабыня, закончив прическу, поднесла к Мессалине несколько тщательно отполированных бронзовых зеркал, на обратной стороне которых были выгравированы мифологические сцены.
– Довольна ли ты, госпожа? – спросила рабыня, когда Мессалина внимательно разглядывала свое лицо и прическу.
– Как ты находишь меня, мама? – обратилась Мессалина к Лепиде, принявшейся осматривать ее со всех сторон.
– Ты прекрасней всех, дитя мое. Боги лишат зрения того, кто увидит тебя и тотчас же не влюбится… Надень эти браслеты и ожерелье, мне они достались от матери.
Мессалина протянула руки, чтобы мать надела ей на запястья широкие, искусно чеканенные золотые браслеты, а кормилица тем временем прикрепляла ей на затылок ожерелье из ярких полудрагоценных камней в золотой оправе. Девушка встала, и рабыня принялась поправлять на ней тонкую льняную тунику бледно-красного цвета, шитую золотом. Завязав пояс, рабыня вытянула из-под него ткань так, чтобы она лежала с напуском. Подбоченясь, Мессалина поворачивалась в разные стороны, меняла позы, выставляла вперед ногу и любовалась красными отблесками своей одежды в высоком зеркале.
Внезапно Лепида поднялась и объявила:
– Ну довольно, все замечательно. Пора идти.
Шум толпы был слышен в садах, раскинувшихся по склонам Авентинского холма, и долетал даже до их дома. Мессалина и Лепида в сопровождении двух рабов двинулись по Кассиевой дороге, заполненной нищими, разносчиками, заклинателями змей, хозяевами питейных заведений, выставившими под тенистыми деревьями амфоры с вином. Хотя оба раба без устали работали локтями и палками, женщинам было трудно пробираться по узким улочкам, запруженным тяжелыми повозками с лигурийским мрамором, носильщиками гигантских бурдюков с вином и погонщиками ослов, возвращающимися с рынков, где они продали свои овощи. Густая толпа бурлящим потоком текла к Большому цирку. Люди шли от храма Дианы, богини-охотницы, чей главный праздник приходился как раз на тринадцатое августа, от храма Минервы и от пирамиды Гея Цестия возле Остийских ворот.
Расширенный и богато украшенный при Юлии Цезаре и Августе, в дальнейшем частично пострадавший во время пожара, Большой цирк занимал в ширину почти всю долину Венеры Мурции, лежащую между Палатинским и Авентинским холмами, а в длину насчитывал две тысячи триста футов. Восточная часть этого гигантского сооружения, образующая правильной формы полукруг, состояла из аркад, идущих в четыре яруса, а там, где местность была покатой, имелось лишь два яруса аркад. Все прилегающие к Большому цирку улицы, казалось, извергали из себя толпу, направляющуюся к входам в это сооружение, но наиболее осмотрительные люди, прежде чем войти в цирк, заходили в одну из многочисленных таверн, расположенных в нижних портиках: зная, что придется изнывать от жары на цирковых скамьях, люди заранее стремились утолить жажду, ведь во время гонок пить было запрещено.
Лепиде, впереди которой шли рабы, а позади – Мессалина, удалось найти места по соседству с императорской трибуной. Обе женщины уселись на разложенные рабами подушки. Эта часть зрительских мест предназначалась для членов семей сенаторов и богатых всадников. Семья Мессалы Барбата пользовалась всеобщей известностью, что давало ей доступ в привилегированный сектор. Выше сидели сенаторы, многие в легких шапочках, наподобие греческих, и в открытых сандалиях; они беседовали между собой, ожидая прибытия императора. Мессалина, впервые в жизни присутствовавшая на таком шумном и красочном зрелище, была возбуждена и взволнована. Она то и дело слегка привставала, чтобы лучше разглядеть присутствующих, и старалась привлечь к себе внимание тех, кто нравился ей своим высоким ростом, красотой, манерой держаться. В свою очередь Лепида принялась искать глазами знакомых и делать им знаки рукой. Еще она примечала тех сенаторов и общественных деятелей, которые занимали свои места под приветственные рукоплескания публики. Поскольку овацией, как правило, награждались те, кто выказал немалую щедрость в отношении толпы, можно было предположить, что дарители – люди очень богатые.






