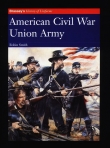Текст книги "Непобедимая"
Автор книги: Вильям Козлов
Соавторы: Борис Никольский,Илья Туричин,Борис Раевский,Аскольд Шейкин,Юзеф Принцев,Эмиль Офин,Нисон Ходза,Александр Розен,Яков Длуголенский,Леонид Радищев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
4
На станции было безлюдно, где-то на дальних путях маневрировал старый паровоз, оставляя за собой клубы черного дыма.
Иван Ильич суетился под навесом, около больших десятичных весов. Тут же высились аккуратно перевязанные фанерные ящики.
– Явился? Молодец! – сказал Иван Ильич. – Садись, сейчас я с этим делом покончу. Впрочем, помоги-ка мне. Надо взвесить все ящики и занести вес в накладную.
Я стал укладывать ящики на весы.
– Посылочки, – сказал Иван Ильич. – Маслице, сальце, сахарок, ну и вещички, конечно. Немцы посылают нах хаузе. Домой. Женам, деткам. Немцы, милый мой, очень детей любят, просто обожают…
– Вы зачем меня позвали? Хвалить фашистов?! «Немцы любят детей!» Забыли Ивановскую? Что там наделали немцы?
– На память не жалуюсь – помню. Загнали людей в деревенскую церковь и сожгли. За связь с партизанами…
– А вы знаете, что там были ребята, даже грудные дети?..
– Я и говорю… Они русских детей сожгли, а вещички их аккуратненько собрали. Ни одной избы не пропустили, все осмотрели. Немцы знаешь какие экономные! Собрали вещички, не пропадать же добру, а теперь отправляют своим белокурым ангелочкам. В Германию. Дескать, носите, детки, на здоровье, слушайтесь мамочку, не забывайте папочку, мойте ручки перед едой…
Иван Ильич говорил тихо, почти шепотом, но в голосе его была такая ненависть, что я мгновенно прозрел. Боже мой! Как я мог подумать, что он смирился с фашистами?! Но для чего же тогда он вел эти разговоры о немецкой мощи, о их победах? Неужели испытывал меня?
Иван Ильич повернул на весах какой-то рычажок и стал выписывать накладные.
– Помнишь, какое завтра число? – спросил он, не подымая головы.
– Седьмое ноября…
– Как ты отметишь его?
– Буду играть на рынке…
– Значит, станешь и в этот день пиликать вальсы Штрауса?
– Нет, завтра я буду играть русский романс… Старинный.
– В годовщину Октября – старинный романс? Это все, на что ты способен?
– Вы сначала послушайте. – Я начал тихонько высвистывать мелодию. – Догадались, в чем дело?
– Ничего не понимаю. Отметить Октябрь в тылу врага таким допотопным романсом! Ты, верно, не знаешь его слов. – Иван Ильич закатил глаза и тихонько запел противным фальцетом:
Белой акации гроздья душистые
Вновь ароматом полны…
– Помню, такие слова пел дедушка, – сказал я. – А папа пел совсем по-другому. Надо только чуть-чуть изменить ритм и две-три ноты. Тогда получится не романс, а песня гражданской войны. Помните: «Слушай, рабочий, война началася, бросай свое дело, в поход собирайся!»
Иван Ильич встрепенулся:
– Как же я, гриб замшелый, забыл эту песню? Я и припев помню: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов»! Но припева ты не играй. Припев на другой мотив, за него и в гестапо можно угодить.
– Посмотрю на месте, может, полицаев не окажется. Вот здорово будет! Сыграть в такой день боевую песню! Советскую! Чтобы все люди услышали!
– Молодец! Не ожидал от тебя! Впрочем, бывает – и веник стреляет! Теперь слушай. Завтра я на рынок не приду…
– Испугались того полицая? Скажите ему спасибо: никому ваша крутилка не нужна. Зря сапоги топчете!
Иван Ильич пропустил мои слова мимо ушей.
– Завтра к восьми на рынок пойдешь ты. Ровно в восемь начнешь играть «концерт» по моей заявке. – Он улыбнулся и метнул на меня быстрый взгляд.
– Какой концерт?
– Играй что хочешь. Нужно только одно: от восьми до десяти ты исполнишь… – Иван Ильич сунул руку в карман пальто, и я увидел на его ладони несколько фасолин. Он взглянул на них и сунул обратно. – За эти два часа ты исполнишь свой концерт пять раз. Ровно пять, не больше, не меньше. Припева играть не смей! Понял?
Раздался густой паровозный гудок. Иван Ильич вскочил, схватил метлу и вышел на платформу. Согнувшись по-стариковски, он шваркал метлой налево, направо и, казалось, совсем забыл обо мне.
Не останавливаясь, даже не замедляя хода, на восток пронесся бесконечный воинский состав. Груз на платформах был закрыт брезентом: там притаились танки и орудия.
Иван Ильич вернулся хмурый, озабоченный.
– Видел?
Я молча кивнул головой.
– Романс будешь играть не пять, а шесть раз.
– А почему вы раньше сказали – пять?
– Прошу тебя, никаких вопросов! И, пожалуй, пора тебе уходить. Ни пуха ни пера! Помни: завтра ты должен играть. Шесть, а не пять раз. Это не просьба, а приказ. Иди, голубчик.
5
С вечера я долго не мог заснуть, когда же наконец забылся, мне приснилось, что я пришел на рынок без скрипки. Уже восемь часов, надо играть, а скрипки нет. А Васька стоит в толпе, строит рожи и смеется надо мной.
Проснувшись, я не сразу понял, что все это мне только привиделось. Часы-ходики показывали шесть утра. Мама еще спала, пришлось все делать очень тихо: я не хотел, чтобы она видела мои сборы.
Вытащив из-под матраса пионерский галстук, я повязал его вокруг шеи и надел поверх свою лучшую рубашку. Потом я достал с полки русско-немецкий словарь. В нем я спрятал календарный листок. Оккупанты запретили нам держать советские календари, и мы сожгли свой еще в сентябре. Но один листок из календаря я сохранил, и сейчас он лежал передо мной. На листке сияла большая красная цифра «7». И торжественная надпись: «24 года Великой Октябрьской социалистической революции». А внизу – рисунок: красногвардейцы и моряки штурмуют Зимний дворец.
Сложив листок, я спрятал его за рваную подкладку кепки.
Я не спешил: от дома до рынка пятнадцать минут ходу, успею. Со вчерашнего дня я все время думал о вчерашней встрече с Иваном Ильичом. Почему я должен играть песню в определенное время и ровно шесть раз? Конечно, за этим кроется какая-то тайна, и моя игра – не что иное, как условный сигнал. Но что означает этот сигнал, кому он адресован?
Ни до чего не додумавшись, я подошел к окну – взглянуть, не идет ли дождь, и увидел Люсю. На этот раз она шла одна, без тети Кати… Накинув куртку, я схватил скрипку и выбежал из дому.
Я догнал ее у голых почерневших кустов сирени.
– Люся! С праздником тебя! – крикнул я, обрадованный встречей.
– Тише! Ты с ума сошел!
– Никого же нет…
– Все равно тише. Потерпи! Двадцать пятую годовщину мы встретим громко! С музыкой! Вот увидишь!
– Конечно, громко! Фортиссимо! И мы снова наденем… смотри! – Я расстегнул ворот рубахи и показал ей кончик красного галстука.
– Какой ты отчаянный, Андрей! Ты очень смелый!
– А твой где?
– Спрятан. Но через год мы их не наденем, мы уже будем комсомольцами…
Мне показалось, что Люся выглядит лучше, чем в прошлую встречу.
– Ты сегодня румяная, – сказал я.
Люся взглянула на меня, ее синие глаза неестественно блестели.
– Температура… Плохо мне чего-то… очень плохо, – заговорила она, прерывисто дыша. – Должно быть, заболела…
– Тетя Катя знает, что ты больна?
– Она ушла рано. Я не сказала ей… Ой, как мне холодно…
– Ты лучше вернись домой, Люся, а то совсем расхвораешься.
– Не могу… никак не могу. Сегодня я должна обязательно быть на месте…
Мы свернули на улицу Свердлова, и я заметил на телеграфном столбе выведенную красной краской маленькую цифру «XXIV». Под цифрой стояло слово, которое я не понял: «Дзор»!
– Смотри! – сказала Люся. – Народ помнит… не забыл. И на афишной тумбе тоже написано!
Действительно, и на афишной тумбе кто-то вывел красным слово «Дзор!»
– «Дзор»? Что это значит?
– Бестолковый! – Люся перешла на шепот: «Дзор… Это же сокращенно: «Да здравствует Октябрьская революция!»
Да, наш город помнил, какой сегодня день. На другой улице мы увидели на заборе фашистский плакат. Неизвестный художник пририсовал вокруг шеи Гитлера удавку и написал на свастике большие буквы: «СНО!»
«Смерть немецким оккупантам!» – пояснила Люся.
Я огляделся. Ни одного прохожего. Еще рано.
– Подержи скрипку и следи, не появится ли кто…
Вытащив из кепки календарный листок, я накрепко приколол его кнопкой под надписью «СНО!».
– Бежим скорее! – Люся явно испугалась. – Мне нельзя рисковать.
– Мне тоже нельзя рисковать, – сказал я. – До десяти часов…
– Что «до десяти часов»?
– Нельзя рисковать. А потом, после десяти, можно…
– Не понимаю, что ты говоришь… – Она облизнула пересохшие губы и спросила: – Проводишь до аптеки?
– Конечно! «У меня в запасе вечность!»
– Тогда пойдем через Глухой переулок. С тобой мне не страшно.
– А без меня?
– Без тебя я хожу другой дорогой…
– Почему?
– Там ведь Васька живет. Я с ним раз встретилась… он грозился…
– Как это – грозился?
– Грозился донести, что мой папа коммунист…
– У, гадюка! Попадись он мне сейчас!
– С тобой я не боюсь… Ты сильный… смелый…
Я взял ее за руку. Люся показалась мне такой слабенькой, такой беззащитной и одинокой, что я и сам не знаю, как у меня вырвалось:
– Люсенька! Я так тебя люблю! Мы всегда будем вместе!
Она шла с полузакрытыми глазами, я услышал, как она тихо повторила:
– Всегда будем вместе…
Мы шли, боясь взглянуть друг на друга. Горячая ладонь Люси лежала в моей руке, и я с тоской подумал, что через несколько минут мы расстанемся до самого вечера. Я и не подозревал, что никогда больше ее не увижу.
Мы свернули в Глухой переулок, и сразу перед нами, словно привидение, возник Васька Пенов.
– Привет красным тимуровцам! – гаркнул он, осклабившись. – Встретились! Теперь можно и должок отдать, расплатиться!
– Не дури, Пенов! – Люся хотела обойти его, но он заступил ей дорогу.
– Не спеши! Сейчас твой до-ре-ми-фа-соль захрюкает. Получит сполна!
– Я не испугался, я чувствовал, что Ваське со мной не справиться.
– Забыл про фонарь! – сказала Люся, тяжело дыша. – Хочешь второй получить?
Васька царапнул Люсю бешеным взглядом, и тотчас же глаза его застыли на моей левой руке. Я понял подлый замысел Васьки – сделать меня калекой, чтобы я не смог больше играть. И тут же я вспомнил приказ Ивана Ильича: сегодня от восьми до десяти играть, во что бы то ни стало.
– Пойдем, Люся… – мой голос противно дрожал. – Я с ним завтра встречусь. Сейчас мне некогда, и ты опоздаешь…
Люся подняла на меня воспаленные глаза. В них застыли испуг и удивление.

– Ах, ему некогда! – Васька снова уставился на мою левую руку, и я невольно спрятал ее за спину. – А мне плевать, что тебе некогда!
И он ткнул меня кулаком в грудь.
По-прежнему держа руку за спиной, я отмахнулся от Васьки футляром, в котором лежала скрипка.
– Отстань! – сказал я и опять услышал унизительную дрожь в своем голосе. – Чего пристал? Я тебя не трогаю…
– А я трогаю! – Васька ухмылялся, и от этого стало страшно. – Я трогаю! Получай!
Он ударил меня по лицу. Я отшатнулся, прикрываясь футляром, продолжая держать левую руку за спиной.
– Андрей!!! – В Люсином крике были растерянность, презрение, обида. – Андрей!
Новый удар Васьки свалил меня на землю. Скрипка отлетела в сторону. Васька не дал мне подняться. Ему удалось захватить в кулак пальцы моей левой руки.
– Проси прощенья! – прохрипел он, сдавливая изо всех сил мои пальцы. – Ну!
Я молчал.
– Ну?! Будешь просить прощенья?!
Мне послышался голос Ивана Ильича так отчетливо, словно он стоял рядом: «Ты должен завтра играть. Это – приказ».
– Прости… – Я задыхался от стыда.
– Громче! Чего шепчешь?! Пусть Люська слышит!
– Прости… – сказал я громче.
– Трус! – Это крикнула Люся. – Трус! Презираю!
Васька захохотал.
– Слышал? Теперь Люська видит, какой ты храбрец. Теперь хоть пойте, хоть играйте – мне плевать! Я свой должок отдал. С процентом!
Он отпустил меня и, сунув руки в карманы, зашагал пингвиньей походкой в дом с флюгером.
Я поднялся, не решаясь взглянуть на Люсю, и стал обтирать грязь с футляра рукавом куртки. Это было так глупо – заботиться сейчас о футляре. Но я не мог поднять голову, и все тер и тер черный футляр…
Боясь оглянуться, я ждал, что Люся заговорит первая. Но она молчала. Я вдохнул в себя воздух, как перед прыжком в воду, и обернулся.
Люси не было.
6
Ровно в восемь я стоял на своей рыночной скамье. Торговля и менка была в разгаре.
«Катюша», как всегда, привлекла слушателей. Я старался ни на кого не смотреть. Мне казалось, что все знают о моем позоре. Я играл «Катюшу», а в ушах звенел Люсин голос: «Трус! Презираю!»
«Расцветали яблони и груши» – выводил мой смычок, а мне чудились совсем другие слова. Их пел на мотив «Катюши» Люсин голос: «Презираю труса, труса, труса…»
Я оборвал песню и заиграл «За власть Советов». «Слушай, рабочий, война началася», – подпевал я себе, чтоб заглушить Люсин голос.
Кончив играть «За власть Советов», я исполнил увертюру из «Кармен» и несколько вальсов, потом, до перерыва, сыграл еще два раза «За власть Советов». Полицаев пока что поблизости не было.
Видя, что я укладываю скрипку в футляр, слушатели начали расходиться.
Я сел на скамью, стараясь не вспоминать ни о Ваське, ни о Люсе, но я не мог сейчас думать ни о чем другом. «Я объясню ей, – успокаивал я себя. – Пойду к ней после десяти и объясню…»
На рынке в этот день все было, как обычно. Людей сюда сгонял голод. Каждый пытался сменять поношенное тряпье на хлеб или картошку. Те, которым уже нечего было менять, стояли с протянутой рукой.
Поблизости, спиной ко мне, за базарным столом маячила торговка в ватнике. Перед ней стояло ведро, наполненное картошкой. Отдельно, на прилавке, лежали три небольших картофелины. При виде их я почувствовал голод. «Если денег хватит, куплю у нее десяток», – подумал я.
Отдохнув немного, я опять заиграл «За власть Советов». Снова вокруг собрались люди. До сих пор не знаю, как случилось, что на этот раз я исполнил припев. Исполнил и сразу почувствовал, как встрепенулись слушавшие меня.
Стоявший рядом со мной инвалид на костыле вдруг тихо запел:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов…
Смычок дрогнул в моей руке. Я вспомнил предупреждение Ивана Ильича – припева не играть. Никто, кроме инвалида, не осмелился запеть вслух старую боевую песню. Но я не сомневался: все, кто слушает меня сейчас, беззвучно повторяют про себя ее слова.
И, как один, умрем
В борьбе за это!—
выкрикнул инвалид и поднял высоко свой костыль.
Я был счастлив. Я заставил этих людей вспомнить, какой сегодня день! Они слушают меня, и в глазах их нет в эту минуту ни страха, ни тоски!
И тут я увидел, что ко мне проталкивается полицай. Перекошенное злобой лицо его не оставляло сомнений: он услышал припев. Я закатил глаза к небу, как это сделал накануне Иван Ильич, и запел во все горло:
Белой акации гроздья душистые
Вновь ароматом полны.
Вновь разливается песнь соловьиная
В бледном сиянье луны…
Полицай растерялся. Злобное выражение на его роже сменилось недоумением. Я продолжал, не щадя глотки:
Помнишь ли, милая, под белой акацией…
Полицай постоял секунду, круто повернулся и стал протискиваться обратно. Обессиленный, слыша удары своего сердца, я опустил смычок.
Песня была сыграна четыре раза.
Потом я исполнил какое-то попурри из оперетт, а когда сыграл в пятый раз «За власть Советов», сделал передышку. Рядом раздался певучий голос торговки в ватнике:
– Картошечки! Кому картошечки!
Наполовину пустое ведро стояло на старом месте, отдельно на столе лежали теперь не три, а пять картошин. «Хоть бы мне остался этот пяток», – подумал я…
Часы на городской башне показывали без двух минут десять, когда я сыграл последний раз свою песню.
Убрав скрипку в футляр, я соскочил со скамьи. Скорее к Люсе!
Но прежде я поспешил к торговке: ведь Люся тоже, наверное, голодна. На базарном столе лежало не пять, а шесть картошин. Я заглянул на торговку, из-под ее платка выбивалась огненно-рыжая прядь.
Должно быть, она сразу поняла, что мне нужно.
– Эти не продаются, себе пригодятся, – сказала женщина.
Она сунула картошки в карман ватника и улыбнулась мне…
7
Я вошел в аптеку с черного хода и увидел в тамбуре тетю Катю. Я едва узнал ее, так она изменилась. Тетя Катя стояла у притолоки, словно неживая, – неподвижная, исхудавшая, белое лицо ее окаменело.
– Мне Люсю, – сказал я. – Пусть выйдет… на минутку.
Губы ее дрогнули, она уткнулась лицом в стену и громко заплакала.
– Увезли Люсеньку… Забрали доченьку мою…
– Куда увезли? Кто?
– Гестапо…
– За что?
– Будто она партизанам лекарства передавала. А у нее, у девочки моей, температура… Горит вся! Они ее в тифозный барак повезли. А разве оттуда возвращаются?! Господи! За что? Господи…
Я повернулся и побрел к выходу.
– Скрипку забыл, – сказала сквозь слезы тетя Катя.
– Ну и пусть!.. – крикнул я и выбежал на улицу…
В Глухом переулке по-прежнему не было ни души. Здесь уцелело только три небольших дома, остальные сгорели, когда шли бои с немцами.
На флюгере Васькиного дома сидела стайка мокрых воробьев.
Прежде чем постучать в дверь, я машинально потер пальцы левой руки, точно собирался сейчас играть на скрипке.
Дверь мне открыл сам Васька. Увидев меня, он удивился.
– Тебе чего?
– Будет разговор, – сказал я. – Выходи…
– Какой еще разговор?
– Важный… Люся должна знать…
В соседней комнате кто-то зевнул, громко, надсадно, почти застонав. Васька покосился на дверь.
– Папаня. Погодь за калиткой. Сейчас выйду…
Он появился, держа руки в карманах, подняв плечи к ушам…
– Чего ей нужно знать, твоей Люське?
– Знать, что я не трус…
– Брось морочить голову! Хочешь схлопотать еще? Могу!
Васька сказал это как-то лениво, не глядя на меня. Подняв кусок кирпича, он запустил им в воробьев, потом снова повернулся ко мне.
– А ну, топай отседа! – Взгляд его скользнул по моей руке. – Топай, если хочешь пиликать на своей шарманке!
– Будем драться! – сказал я.
– Кто это будет драться?
– Мы. Я с тобой! Будем сейчас драться!
Круглые кошачьи глаза Васьки стали прозрачными.
– Ты что, мало получил? Тебе мало, да?
– Будем драться, будем сейчас драться. Люся узнает…
Он не дал мне договорить и ударил первым. До сих пор помню выражение его лица после моих ответных ударов. Тупое изумление застыло на Васькиной роже. Он ничего не мог понять. Три часа назад я вел себя, как последний трус, просил у него прощения, а теперь… Теперь я дрался как осатанелый. Визжа от ярости, мы катались по мокрой земле. Я чувствовал – Ваське меня не осилить. Я больше не берег свои пальцы, я знал, что обязан победить, иначе презрение Люси будет преследовать меня всю жизнь. Она должна понять, какое мужество потребовалось мне тогда, чтобы оказаться трусом…
Ошарашенный моим неистовством, Васька с каждой минутой терял уверенность в себе, удары его становились слабее, и наконец он понял: поражение неизбежно.
– Ничья! – прохрипел он, отступая к забору. – Давай, чтобы ничья!
– Ничьей не будет! – сказал я, надвигаясь на Ваську. – Не может быть между нами ничьей!
– Тогда я сломаю тебе пальцы! Ты сдохнешь с голоду.
Он ринулся на меня и ударил головой в грудь. Я удержался на ногах и ответным ударом опять свалил его на землю. Но, падая, он успел вцепиться в мою руку. Я почувствовал адову боль: два пальца левой руки болтались, как чужие. Теперь я был беспомощным, одноруким. Стоя над распростертым врагом, я ждал, когда он подымется. Бешеная ярость к Ваське не оставляла места для страха.
– Вставай! – приказал я. – Вставай! Будем драться насмерть!
Васька не шевельнулся. Он лежал, следя за мной прищуренными глазами. Тогда я догадался: пока я стою над ним, он не встанет. Закон мальчишеских драк был свят: лежачего не бить. Он понимал: этого закона я не нарушу. Тогда я повернулся и пошел. Я знал, где мне найти Ивана Ильича.
За скрипкой я не зашел, было ясно: больше мне не играть. Никогда не играть! Но теперь я знал и другое: отныне я вступил в бой с врагами, вступил в него с песней, услышанной от отца:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И как один умрем
В борьбе за это!..
СЕМЕН ЛАСКИН
ДОВЕРИЕ
Майор Рогов сидел за письменным столом канцелярии и вертел в руках только что полученную телеграмму. Справа от майора, чуть отставив ногу и склонив голову, стоял молоденький командир взвода – младший лейтенант Черенец.
– Какого вы мнения о ефрейторе Бушуеве? – спросил Рогов, протягивая младшему лейтенанту телеграмму.
– Прекрасного, товарищ майор, – не задумываясь, ответил Черенец. – Отличный механик-водитель. – Он взял листок и прочел: «Отец в тяжелом состоянии. Немедленно выезжай. Мама».
Черенец был явно расстроен.
– А не может быть здесь какой-либо хитрости? – осторожно спросил майор. – Через несколько дней Новый год. Кажется, у Бушуева мать – врач?
– Что вы, – Черенец даже покраснел. – Я за него головой могу…
– Ну что ж… – спокойно сказал майор. – Вы – командир, вам лучше знать. Я его уже вызвал.
В коридоре послышались тяжелые шаги.
– Ефрейтор Бушуев по вашему приказанию прибыл, – четко отрапортовал знакомый приглушенный голос.
Черенец взглянул на Рогова. Майор молчал, показывая всем своим видом, что говорить придется младшему лейтенанту.
– Ага, Бушуев… – наконец сказал Черенец так, словно не ожидал увидеть своего ефрейтора в батальонной канцелярии. – Пришли? Ну что ж, садитесь. Берите стул…
Майор отошел к окну.
– Спасибо, – сказал Бушуев, не двигаясь с места.
– Значит, так… – сказал Черенец, косясь на телеграмму и все еще не зная, как бы это лучше сообщить неприятную весть. – Так… значит, – повторил он. – Сколько же лет вашему отцу?
– Сорок два, – с удивлением сказал Бушуев.
– И здоровый он?
– Здоровый.
– Совсем не болел?
– Нет.
Лейтенант покашлял, взял телеграмму со стола и протянул Бушуеву.
– Вот что… тут пришла телеграмма. Из дому. – Он передохнул. – Плохая телеграмма. Очень.
Бушуев уставился на командира, глаза его стали почти бессмысленными.
– Отец твой, понимаешь, болен…
Он сунул телеграмму и отступил.
– Ничего не поделаешь… – мягко говорил Черенец, стараясь не смотреть на ефрейтора и остро переживая за него. – Хоть мать утешишь. Отпустим тебя. Правда, товарищ майор? Может, сегодня даже…
– Разрешите идти? – тихо, точно с трудом произнес Бушуев.
Майор кивнул.
Черенец выждал, когда затихнут шаги в коридоре, и развел руки.
– Вот, вы предостерегали. Пожалуй, схожу в казарму. Поговорю с ребятами, чтобы не оставляли его. Когда можно отпустить Бушуева?
– Когда хотите, – сказал Рогов. – На ваше усмотрение.
– Есть, – сказал Черенец. Нахлобучил шапку, застегнул комбинезон и вышел во двор.
Казармы были метрах в ста отсюда. Белые двухэтажные дома стояли в шахматном порядке один за другим. Дальше – лес, черная полоса, и небо, красное на горизонте. Там, на севере, откуда приехал Черенец, такое небо бывало лишь летом перед ветреной погодой, а здесь все наоборот: и зима не зима, а осень – грязь, слякоть.
Он поглядел на ангар, где стояли машины их батальона. Завтра учение. И его двум танкам, как и другим, предстоят сложные испытания. Вот уже много дней утюжат они тяжелые трассы, и всегда он, Черенец, оставался доволен своими. Казалось, что могло случиться перед учением? Ничего. И вдруг…
А теперь бери нового механика-водителя, и, конечно, никто не отдаст такого классного специалиста, как Бушуев. Только что делать?
Он быстрее зашагал к казарме. Поднялся на крыльцо, взялся за ручку двери, но несколько секунд не решался ее открыть. Потом рванул.
В комнате у своей тумбочки стоял Бушуев и складывал в чемодан вещи. Черенец тихо прошел между койками, встал за спиной ефрейтора. «Плачет, кажется…» – подумал он, и не своим, сдавленным от волнения голосом спросил:
– Ты чего, Бушуев?
– Ничего, – весело сказал тот, даже не повернувшись.
– Значит, вранье? – тихо спросил Черенец. – Обман?
Ефрейтор повернул голову. Его глаза не были грустными. Наоборот, в них светилась радость, веселая, озорная удача.
Бушуев вскочил и от неожиданности не мог найти слов.
– Нет, нет! – наконец крикнул он.
Но младший лейтенант уже шел к выходу.
«Подлец! – думал он, хлопая сапогами по лужам и разбрызгивая цветную и жирную от нефти воду. – Отдохнуть захотел! Праздники справить!»
Он почти добежал до ангара, где сейчас должен был находиться майор, остановился. Стоит ли?.. Перед учением много других дел. А с Бушуевым? Он все решит после…
* * *
…Светало очень медленно – моросил дождь. Черенец припал к перископу. Люки и щели были задраены. На всех танках установили стальные высокие трубы – предстояло форсировать реку по дну. Вчера, разбирая задание с командиром батальона, он с некоторым холодком и страхом думал о предстоящем испытании. Правильно ли поступил с Бушуевым? Как поведет себя ефрейтор на учении?
В четыре утра батальон был построен. Черенец и Бушуев стояли рядом. Младший лейтенант чувствовал на себе внимательный, умный взгляд Рогова, и ему показалось, что майор прекрасно все понял.
Зеленая ракета взвилась в воздух. Черенец проводил ее взглядом, и когда она стала блекнуть и растворяться, услышал короткий приказ: «По машинам!»
Взревел двигатель, и его танк вырвался на дорогу, кромсая стальными гусеницами глинистый грунт.
После первого холма, как было отмечено в задании, начинался спуск в «ограниченном проходе». Вот здесь. Два метра в сторону – и можно свалить условный колышек – «подорваться» на мине. Черенец вдруг с тревогой подумал, что Бушуев может специально, назло ему, чуть-чуть свернуть. «Нет, этого он не сделает, – сказал себе Черенец. – Я не мог так ошибиться в нем».
Он скосил глаза в сторону водителя. Сейчас Бушуев чем-то напоминал гончую. Его крупные, не по росту, кисти лежали на рычагах управления, спина выгнута, и весь он словно тянулся вперед, к реке, к последнему холму, где им предстоял бой.
«Скоро будет заболоченный участок, – подумал Черенец. – Вот где тяжело танкам… Речку мы пройдем без труда. Речку форсировать проще…»
Он невольно обвел глазами экипаж. Все на боевых местах. Наводчик понял его, улыбнулся. Заряжающий погладил рукой орудие, показывая, что готов в любую минуту вступить в бой.
Третий был Бушуев. Младший лейтенант смотрел на его спину. И тот, будто чувствуя взгляд командира, повел плечом и переключил скорость. По-новому запел двигатель, и сильнее запахло соляркой.
«Заболоченное место, – подумал Черенец, отмечая тяжелый и медленный ход машины. – Здесь придется идти метров семьдесят…»
Он приказал второму танку следовать точно за ними. Теперь Черенцу стало казаться, что он тащит танк на себе. Он сжимал ручки перископа, а сам мысленно тянул машину вперед. Заболела спина, а в плечах было такое ощущение, точно веревочные жгуты врезались в мышцы.
«Еще, еще немного… – мысленно обращался Черенец то к Бушуеву, то к танку. – Ну, капельку… Метрик… Так и держи. Так и действуй…»
Он вытер пот с лица. Впереди, в белом утреннем тумане, густом, как взбитый яичный белок, проступала полоса редкого соснового бора. «Хорошо, хорошо, – приговаривал Черенец. – Ведь можешь же, можешь по-настоящему… Так зачем иначе? Зачем обманывать?»
Он слышал в шлемофоне спокойный голос майора, его четкие приказы командирам взводов. Неужели когда-то так же сумеет и он?
Черенец медленно поворачивал перископ, просматривая путь. И вдруг в нескольких метрах обнаружил настил из бревен. Отлично. Идти по гати много легче. Теперь пройдем. Он приказал Бушуеву вести машину к бревнам, затем повторил приказ командиру второго танка. Он решил не думать об усталости. В конце концов, все можно перетерпеть, лишь бы выскочить из этого чертова места. Он на секунду прикрыл глаза, убеждая себя в том, что когда их откроет, танк уже будет идти по гати, по бревнам и хворосту, выложенным здесь такими же солдатами, как и он сам. Спасибо им. А Бушуев молодец… Отлично ведет машину…
Танк уже взобрался на настил и пошел быстрее. Через две-три минуты пройдет и другой его танк. «Ай да мы! – радостно подумал младший лейтенант. – Теперь ничего не страшно: мы вновь на твердой земле…» И тут же услышал короткие позывные:
– Яхонт-тридцать три! Яхонт-тридцать три!
Это была вводная – приказ его экипажу.
«Миной разорвана гусеница. Замените трак».
Он молчал. Если бы он мог, если бы у него было хоть какое-нибудь право не слышать этого! Но у него не было такого права. Он был командир, и, как бы ни устал, как бы ему ни было тяжело, должен четко выполнить приказ старшего.
И Черенец повторил вводную. Затем приказал командиру второго танка вести машину самостоятельно.
* * *
Танк стремительно мчался к реке. Теперь, больше чем когда-либо, требовалось мастерство и точность механика-водителя. Если бы не вчерашнее, не тот обман, он бы сказал Бушуеву доброе слово. Там, на гати, наблюдая за работой ефрейтора, Черенец мысленно хвалил его. Ловкие, золотые руки!
Оставался последний холм и река. Конечно, все устали, но об этом лучше не думать. Разве впервой такое… Думай не думай, а усталость меньше не станет. «Экипаж у меня отличный, – сказал себе Черенец. – Каждый четко знает свое дело. Был бы хоть один новичок – и пришлось бы туго…»
В перископ виднелась река. Ее левый берег был пологим, но дальше начинался крутой подъем. Там, на холме, окопался «противник». Он отмечал про себя частые вспышки противотанковых орудий, больше справа, но кто знает, может, и на другой стороне, левее, там, где кустарник, их ожидает «сюрприз». Черенец повернул перископ и тут же увидел яркую орудийную вспышку.
Танки его батальона уже кончали форсирование, и теперь Черенец видел их мокрые серо-зеленые спины, медленно выползающие на кромку луговины.
Он опять услышал свои позывные: Яхонт-тридцать три! Яхонт-тридцать три! Это был голос майора.
– Я – Яхонт-тридцать три! – сказал Черенец.
– Слева противотанковое орудие противника. Приказываю подавить.
– Есть подавить!
Танк взял левее. «Противника» нужно было атаковать с тыла. На поверхности реки лежала тонкая корочка льда. Черенец вновь вспомнил свой север с замерзшими реками, снежными берегами и дремучим лесом. Как здесь все иначе!
Танк погружался в воду. В перископе уменьшался обзор, потом стало темно. Грунт был каменистый, и младший лейтенант подумал, что форсируют они легко. Даже сейчас они отошли от берега не меньше чем на двадцать метров. «А может, он все же не виноват? – с неожиданной надеждой сказал себе Черенец. – Вдруг я ошибся? Разве не бывает так, что в горе человек не владеет своим голосом? Почему я не поговорил с парнем? Было бы хорошо, если бы я ошибся…»
Ему вдруг показалось, что машину повело в сторону. Да, это было так! Бушуев навалился на рычаг, но танк стал клониться вперед, точно собирался зарыться в дно.
– Назад! – приказал Черенец. Он еще не мог понять в чем дело, но чувствовал – возможна катастрофа.
Бушуев дал задний. Танк задрожал, как штангист, который берет непосильный груз, загудел, но с места не сдвинулся.
– Еще, еще! – приказывал Черенец, но танк продолжал сползать вперед и наконец грузно осел, провалился. И сразу же через трубу для воздуха стала проступать вода. Двигатель еще работал, но уже не так, а как-то надсадно и почти беспомощно.
«Промоина!» – подумал Черенец и рукавом вытер вспотевшее лицо. Он представил воронку, в которую попал, и злость на себя, на эту реку, такую неожиданно коварную, поднималась в нем. Нет, так просто он не сдастся. Голыми руками его не возьмешь. Он еще поборется. Черенец сел на место водителя. Его машина не просто рвалась из промоины, а расстреливала реку, неистово, захлебываясь поступающей водой, слабея в своей же ярости…