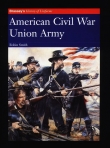Текст книги "Непобедимая"
Автор книги: Вильям Козлов
Соавторы: Борис Никольский,Илья Туричин,Борис Раевский,Аскольд Шейкин,Юзеф Принцев,Эмиль Офин,Нисон Ходза,Александр Розен,Яков Длуголенский,Леонид Радищев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
ВИЛЬЯМ КОЗЛОВ
ТРОПИНКА НА АЭРОДРОМ
Я знаю, что она идет сзади. Не по тропинке, которая петляет меж островками желтой куриной слепоты, а вдоль ржаного поля, пронизанного синим мерцанием. Это качаются на ветру васильки. Их много во ржи, не у кромки поля, а там, дальше, где гуляют зеленые заколосившиеся волны.
Когда я оглядываюсь, она нагибается и рвет васильки. И вид у нее такой, будто она случайно сюда забрела за цветами. Раньше васильков вдоль ржаного поля было гораздо больше. Теперь стало мало. Она их все скоро сорвет. Папа как-то сказал, что председатель колхоза должен вынести благодарность за то, что она уничтожает сорняки. Она ответила, что без васильков и поле не поле. Что угодно можно называть сорняками, только не васильки.
У нас в квартире в вазах, в стаканах, даже в пузатой бутылке из-под болгарского вина стоят васильки. Это ее любимые цветы.
Солнце светит в спину. Оно скоро сядет за лесом. Оно большое, красное и совсем не жаркое. Не то что днем. Когда солнце сядет за лесом, начнут петь соловьи. Здесь много соловьев. Те соловьи, которые поют хорошо, живут в роще, а которые похуже – в зарослях ольшаника.
Папа в шутку сказал, что в роще, мол, живут «заслуженные артисты», а в ольшанике – рядовые.
Сегодня солнце очень долго не садится. Один из «заслуженных» попробовал голос и защелкал, засвистел. Не хватило у него терпения дождаться заката. Остальные пока помалкивали.
Она выпрямилась, опустила руки с синими васильками и, наклонив пушистую коричневую голову, стала слушать. Она могла слушать соловья до утра. Вот так, наклонив голову и не двигаясь.
Но соловей не поет вечно. Он тоже устает. И тогда она сноса продолжает путь.
Она – это моя мама. Я на нее сердит, поэтому и называю «она». Я иду на аэродром – встречать отца. Каждый раз, уезжая на аэродром, он просит маму, чтобы она его не встречала. От нашего дома до аэродрома шесть километров. И потом, случается, полет затягивается. И маме приходится ждать. И у нее иногда бывает такое лицо, что папиным знакомым хочется подать ей стакан воды. А командир части сказал ему, что при виде мамы он почему-то чувствует себя виноватым.
Папа очень просит маму не приходить на аэродром. Она обещает, но как только он улетает, у нее все из рук валится – и она уходит в поле за цветами… А ржаное поле как раз в той стороне, где аэродром. Мама говорит, что она даже и не замечает, как оказывается у летного поля.
Я останавливаюсь и жду ее. Она нагибается за васильками и долго не разгибается. Она думает, что мне надоест ждать и я пойду дальше. Но я стою и жду.
– Это ты, Костя? – улыбаясь говорит она. – А я смотрю, – мелькает впереди знакомая рубашка…
– Ты же обещала, мама! – говорю я.
– Ты это о чем? – удивляется она.
– Он опять рассердится…
– Ты хочешь, чтобы я рассердилась?
Я этого не хочу.
– У нас с папой мужской разговор, – говорю я. – Ты нам будешь мешать.
– Мама никогда не может мешать.
У нас действительно сегодня с отцом мужской разговор. Мы должны обсудить предстоящую рыбалку. Через два дня воскресенье. На Соленом озере в прошлый раз мы ничего не поймали. Теперь поедем на другое. А вот на какое именно, мы и должны обсудить. Маме все это не по душе. Она не любит рыбалку и всегда нас отговаривает от этого дела. «У тебя единственный день свободный – воскресенье, – говорит она. – И ты опять куда-то хочешь сбежать?» Мы один раз уговорили ее поехать с нами на озеро, но на нее напали комары – и она вернулась домой вся в волдырях.
Так что при маме заводить разговор о рыбалке не имело никакого смысла.
Вот почему я и был сердит, что она сегодня опять пошла встречать отца.
– Что это у тебя на рукаве? – спрашивает она.
– На каком рукаве?
– Какой ты все-таки неряха, Костя! – говорит мама.
Мы продолжаем путь вместе. У меня нет морального права спорить с матерью. На рукаве большое масляное пятно. У нас есть мотоцикл «ИЖ». Я всегда его чищу и заправляю. Я уже умею ездить – отец научил, но на шоссе выезжать мне не разрешают. И на аэродром тоже. И вообще мне без отца заводить мотоцикл запрещается. Вот чистить, смазывать – это пожалуйста.
– Он тебе не говорил, когда прилетит? – спрашивает мать.
– Наверное, через час, – отвечаю я.
– Он говорил, что ему не очень-то нравится эта «ласточка»…
Мой отец – летчик-испытатель. Он испытывает новые сверхзвуковые военные самолеты. «Ласточка» – это один из них. Мне отец ничего про «ласточку» не говорил. Про свои самолеты отец не любит со мной говорить. А вот маме сказал…
– В прошлом году он тоже так говорил… А потом пришлось катапультироваться.
Прошлой весной папин самолет загорелся в воздухе, и он едва успел выброситься с парашютом. Об этом я знал. Тот самолет оказался ненадежным. Три раза отец поднимался на нем, а потом он загорелся.
Мама ждала отца на аэродроме всю ночь, а потом утром перед зеркалом выдернула из головы несколько седых волос. Моя мама очень молодая. Ей всего тридцать два года. А мне тринадцать. Она говорит, что с таким большим сыном ей неудобно появляться на людях. И правда, некоторые думают, что я мамин брат.
Над полем прокатился мощный раскат. Это где-то в вышине самолет перешел звуковой барьер. Немного погодя послышался обычный гул. Когда мы с отцом рыбачим на озере и над нами раздается такой взрыв, пугливая уклея выскакивает из воды. А птицы на несколько минут замолкают. Я спрашивал отца: слышит ли он там, наверху, этот взрыв? Отец сказал, что, наоборот, когда начинается сверхзвуковая скорость, в кабине становится тихо.
До аэродрома еще километра три. Мы идем от военного городка напрямик. По шоссейной дороге до аэродрома девять километров. Мы слышим могучий рев, и вот над вершинами деревьев взмывает большой золотистый самолет. Кажется, что у него нет крыльев. Реактивный свечой уходит в небо и скоро исчезает из глаз. Потом, когда он наберет высоту, за самолетом потянется белый след. Все небо над аэродромом расчерчено широкими белыми шлейфами. Они расползаются вширь и потом вообще исчезают.
– Костя… – говорит мама. – У тебя не закружится голова? Ты так долго смотришь на небо…
– Уж и смотреть нельзя?
– Ты никогда не станешь летчиком, – говорит мама. – Два летчика в семье – это слишком много…
Но здесь я непреклонен.
– Буду, мама, – отвечаю я.
– Столько на свете разных интересных профессий… Инженер, геолог, учитель…
– Я буду летчиком, мама.
– Да, конечно, мы, женщины, созданы только для того, чтобы ждать вас, мужчин… – Она взглянула вверх. – Нас разделяет целое небо…
– Разве мало женщин-летчиц? – спрашиваю я.
– Мой милый, я самая обыкновенная женщина, которая ходит по земле… Имею я право спокойно ходить по земле и не смотреть все время на небо?
– Как называется эта бабочка? – спрашиваю я, чтобы перевести разговор на другое.
– Оглянись, посмотри вокруг… Прекрасная земля, правда? Но она становится жесткой и безжалостной для тех, кто падает на нее… Так уж устроен мир. Миллионы женщин ходят по земле и не думают о том, что существует такая неприятная штука, как земное притяжение. А я все время помню о нем. О земном притяжении!
Снова в воздухе знакомый гул. Я останавливаюсь и задираю голову. Идет на посадку самолет. Я вижу, как он выпускает шасси. На серебристых крыльях красный отблеск заходящего солнца. Самолет весь вытянут, как веретено, а на носу игла. Это сверхзвуковой бомбардировщик. Уж не «ласточка» ли отца? Таких самолетов я раньше не видел.

Самолет скрылся за вершинами деревьев. Приземлился. Немного погодя в последний раз надсадно прогрохотал двигатель и умолк.
Мы еще с километр не дошли до аэродрома, как увидели отца. Он, широко шагая, шел навстречу. Высокая трава до пояса скрывала его. Отец в привычной кожаной куртке на молниях, синих брюках. Специальный высотный костюм он снимает на аэродроме. Ветер треплет светлые волосы, фуражку отец держит в руке. Я издали вижу, он улыбается. Значит, полет был удачным. Но почему отец идет этой тропинкой? Обычно он возвращается на газике по шоссейной дороге. Случалось, я приходил на аэродром, а отец уже был дома.
Мать хмурит черные брови, хочет казаться серьезной, но губы помимо воли складываются в улыбку.
– И как ты догадался пойти нам навстречу? – спрашивает она.
– Я вас сверху увидел… – смеется отец.
Я с восхищением смотрю на него: отец только что был там, куда ни одна птица не залетает. Не каждому человеку доводится на глаз определить сверху, что земля действительно круглая.
На лбу отца красная полоска – след герметического шлема. Лицо порозовело, глаза смеются. Я люблю, когда он такой. И мама любит. Впрочем, отец гораздо чаще бывает веселый, нежели задумчивый и сердитый.
– Что сегодня делал мой сын? – спрашивает он.
– Не так уж трудно догадаться, – говорит мать. – Взгляни на его рубашку.
– У меня все готово, – говорю я.
– Карбюратор не течет?
– Я подтянул гайки…
– Я в воскресенье задумала печь пироги, – говорит мама.
– Какие пироги? – спрашиваю с возмущением я.
Это не что иное, как посягательство на нашу рыбалку.
– Пироги – это хорошо, – говорит отец.
– И, кроме того, в субботу вечером в клубе концерт… Приехали артисты из Ленинграда.
– Из Ленинграда? – переспрашивает отец.
– Мы же хотели… – говорю я.
Отец мне мигает: молчи!
– Я вот что предлагаю, – говорит он. – Артистов и пироги мы объединим, а в воскресенье рано утром махнем на озеро.
– То на небе, то на озере, – недовольно говорит мать. – Когда же ты дома бываешь?
– В сентябре возьмем отпуск, – с подъемом говорит отец. – И закатимся на юг…
– В сентябре? – спрашивает мама. – Ты же говорил – в августе?
– Отпадает… В августе… Понимаешь, новая машина прибыла – должен же я ее испытать?
С аэродрома поднимается самолет. Взглянув на него, отец говорит:
– Семенов пошел…
– Вот пусть Семенов и испытывает, – говорит мама. – А мы поедем в отпуск.
– Чудачка, – говорит отец. – Да кто в августе ездит на юг? Жара, духота, а вот в сентябре – красотища!
– Ты в третий раз переносишь свой отпуск… Скоро ты меня убедишь, что на юге лучше всего в январе или в феврале. Будем на коньках кататься на Черном море.
– Черное море не замерзает, – говорю я.
– Спасибо, я не знала…
Но отец нас не слушает. Он, нахмурив лоб, прислушивается к удаляющемуся гулу самолета.
– Нина, – говорит он. – Напомни мне, чтобы я позвонил на аэродром…
– Вместе с тобой небо приходит и в дом… – грустно говорит мама.
– Ты посмотри, какой сегодня закат! – говорит отец. – Никак соловей?
– Слава богу, услышал… – улыбается мать.
А закат действительно на славу. Вершины елей и сосен стали черными на желтеющем фоне неба. Не шелохнется ни одна травинка. Тихо стало вокруг. А в роще свистят и щелкают на все лады сразу, наверное, десять соловьев. А в ольшанике соловьи молчат. Они никогда не перебивают «заслуженных».
Мы идем вдоль ржаного поля с васильками, а над нами, на темнеющем небе, расползается белая дорога, оставленная реактивным самолетом.
Н. ХОДЗА
ТРУС
1
Люся умерла, не узнав моей тайны. Умерла, презирая меня, считая меня трусом.
Расскажу все по порядку.
На первомайском вечере в школе Люся читала стихи, а я играл на скрипке. Все ребята нашего седьмого «б» орали «браво», «бис», топали ногами и били в ладоши. Я сказал «все ребята», но это не совсем верно. Васька Пенов сидел в первом ряду, он не кричал «браво», не хлопал в ладоши. Я играл, а он смотрел на меня в упор, и зеленые кошачьи глаза его словно остекленели.
Странно, быть счастливым в тот вечер мне мешал неподвижный взгляд Васьки…
Домой я возвращался с Люсей: мы жили на соседних улицах, за Сиреневой рощей.
– Ты здорово играл сегодня, правда-правда, здорово! – говорила она, чуть картавя.
Мне часто казалось, что Люся специально подбирает слова, в которых есть буква «р», чтобы картавить. Откуда она знала, что мне это нравится?
– И ты здорово стихи читала! – сказал я. – Ребята так топали, что пол трещал. Один только Пенов сидел как замороженный!
Люся вдруг остановилась и сказала, опустив голову:
– Васька вчера… признался мне…
– В чем признался?
– В любви…
– В любви? Тебе?! – Я загоготал, точно гусь на реке: – Здорово! Вот потеха!
– Не надо… – сказала тихо Люся. – Над этим не смеются. – И она взяла меня под руку.
Первый раз девочка взяла меня под руку. Я шел не дыша, боясь вспугнуть совсем незнакомое мне ощущение – счастливое и немного тревожное.
Так, молча, мы дошли почти до Люсиного дома, когда из-за кустов сирени вдруг выскочил Васька. Я почувствовал, как испуганно дернулась Люсина рука.
Коротконогий, приземистый Пенов шагал вперевалку пингвиньей походкой, засунув руки в карманы, подняв широкие плечи до самых ушей.
– Под ручку крендельком! – Васька преградил нам дорогу. – Милуетесь-целуетесь! Жених и невеста! На свадьбу позовете?
– Не говори глупостей, Васька!
Голос Люси прозвучал жалобно.
– Иди, иди! – подхватил Васька. – Топай! Сейчас твой музыкант получит до-ре-ми-фа-соль!
Едва Люся скрылась за кустами сирени, как мы уже схватились. Мы бились, неумело колотя друг друга куда попало. Каждый из нас побывал не раз на земле, носы у обоих были расквашены, но мы продолжали биться, разъяряясь все больше и больше. Ударом в грудь я сбил Ваську с ног, но он сразу вскочил, и кисть моей левой руки оказалась зажатой в его широкой лапе.
– Больше тебе не пиликать! – прохрипел Васька и рванул с вывертом мои пальцы.
Собрав все силы, я схватил его правой рукой за горло, Васька икнул, широко раскрыл рот и мешком осел на землю…
2
Мы встретились в школе после майских праздников. Левую руку я держал в кармане: не хотел, чтобы Васька видел мои замурованные в гипс пальцы. У Васьки под глазом зеленел синячище. Люся знала, как заработал свой фонарь Пенов. Она призналась мне, что видела нашу драку.
– Ты здорово бился! – сказала она. – Знаешь, я ненавижу трусов!
На перемене Люся подошла к Пенову.
– Бедненький! – протянула она, сочувственно вздыхая. – Кто тебя так?
Темное, скуластое лицо Васьки стало белым.
– В долг получил… отдам… с процентами! – И, подняв плечи, он зашагал прочь.
Вскоре нас распустили на каникулы. Мы разъехались по лагерям и дачам, но через несколько дней все уже были дома. Началась война. Мой отец ушел на фронт в июле, Люсин – в августе. А в начале сентября наш городок заняли немцы.
Как мы жили в оккупации – разговор особый. Скажу только, что от голодной смерти меня и маму спасла скрипка. Я играл на рынке, и люди иногда бросали мне мелочь. Играл я с трудом: после драки с Васькой мои пальцы потеряли гибкость. Но я помнил слова доктора: «Не огорчайся, пальцы со временем станут послушными. Однако береги их! Еще одна подобная травма – и все! Драться тебе больше нельзя, иначе позабудь о скрипке…»
Я никому не сказал об этом – ни родителям, ни Ивану Ильичу. А то бы они все время тряслись надо мной.
С Люсей при немцах мы встречались редко. Она работала мойщицей посуды в аптеке. И мама ее работала там же – уборщицей. Из окна своего дома я видел иногда, как рано утром они шли в аптеку – тоненькая, словно камышинка, Люся и сгорбленная, постаревшая тетя Катя…
3
Иван Ильич учил меня играть на скрипке. Старик был скуп на похвалы. Когда родители интересовались моими успехами, он усмехался и говорил:
– Бывает, и веник стреляет! Поживем – увидим…
С приходом фашистов я потерял его из виду. Но однажды на рынке я неожиданно увидел своего учителя. Он продавал кофейную мельницу. «Чудак, – подумал я. – Кто теперь пьет кофе? Мы и о чае забыли – пьем кипяток с морковной заваркой».
Иван Ильич обрадовался мне:
– Здоров? Молодец! Как твои пальцы? Ты что, не хочешь ли продать скрипку?! – Он готов был вырвать из моих рук футляр.
Я успокоил старика:
– Даю здесь «концерт». Не зря вы меня учили!
Он нахмурился:
– Ладно, не ной! Счастье придет – и на печи найдет! – старик любил разные присказки. – Думаешь, мне приятно служить весовщиком на станции? А приходится. К тому же – платят гроши. Вот и продаю «фамильные драгоценности», – он кивнул на кофейную мельницу и, завидев проходящего мимо оборванного дядьку, забубнил, подняв над головой мельницу:
– Необходимый предмет! Служит тысячу лет! Дамам, господам дешево продам!
– Сколько рассчитываешь получить? – спросил дядька.
– Не продаю, меняю, уважаемый, – любезно ответил Иван Ильич.
– Можно и на менку. Что рассчитываешь взять?
– По божески. Кило сахара, кило масла.
Дядька выкатил на старика глаза, крутанул у виска пальцем и уныло зачавкал рваными галошами по рыночной грязи.
Мне стало смешно и грустно. Нет, старик не понимал, на каком он свете! Масло! Сахар! Откуда их взять? Масло и сахар ели теперь только немцы и полицаи.
– Не покупают, – сокрушенно сказал Иван Ильич. – В воскресенье опять приду – увидимся…
А вскоре там же на рынке я повстречался с Васькой. Взобравшись на врытую в землю скамью, я играл «Венгерскую рапсодию» Листа. Вокруг собрались слушатели, но я старался не смотреть на них – было стыдно. Давно уже вывелись в нашем городке нищие-музыканты. О них мне рассказывал Иван Ильич. Теперь же я сам превратился в такого музыканта.
Доиграв до конца, я бросил беглый взгляд на толпу и увидел Ваську Пенова. Я невольно сунул левую руку в карман, точно спасая ее от Васькиного взгляда. Васька криво усмехнулся и смешался с толпой.
В тот день я больше не играл…
В воскресенье Иван Ильич оказался на старом месте. В руках его была все та же кофейная мельница. Стоя на скамье, я невольно наблюдал за ним. Время от времени Иван Ильич выкрикивал свою прибаутку: «Необходимый предмет! Служит тысячу лет!»
К нему подходили любопытные, рассматривали «необходимый предмет» и шли дальше.
Теперь мы виделись довольно часто. Но поговорить нам не удавалось. Иван Ильич появлялся раньше меня и уходил задолго до того, как я кончал играть. Мы только издали переглядывались и кивали друг другу головой.
Поразительно, с каким упорством пытался старик сбыть свою мельницу. Ничего другого он не продавал. Не выдержав, я решил спросить, почему он вечно таскается с этой никому не нужной штуковиной. Пробираясь сквозь рыночную толпу, я еще издали услышал осточертевшую прибаутку:
– Дамам, господам дешево продам!
Меня опередил какой-то здоровенный тип, – я не сразу понял, что это полицай. Он подошел к Ивану Ильичу, бесцеремонно вырвал из его рук мельницу, осмотрел ее со всех сторон и приказал неожиданным для такого верзилы писклявым голосом:
– Покажь документы!
Побледневший Иван Ильич вытащил из кармана какую-то бумажку.
– Почему не на станции? – спросил полицай, прочитав бумажку.
– Сегодня в вечернюю смену…
– Старая крыса! Вечно торчишь тут! Еще раз примечу – хана тебе будет!
И, швырнув на землю мельницу, он ушел.
Я подал Ивану Ильичу его «необходимый предмет», но не успел сказать и слова, как к нему подошла женщина в потертой стеганке. Из-под ее линялого темного платка выбивалась огненно-рыжая прядь волос. Что-то знакомое было во всей ее фигуре; мне казалось, что я видел совсем недавно и этот платок, и рыжую прядь волос, и слегка закинутую назад голову. Но где? Когда?
Едва она взяла мельницу, как я вспомнил: со своей высокой скамьи я видел в прошлое воскресенье, как она так же вот держала в руках мельницу Ивана Ильича, рассматривала ее долго и дотошно. А сейчас женщина делала вид, будто впервые видит эту вещь.
Я стоял рядом, женщина неприязненно покосилась на меня, словно я ей мешал. Меня злил ее взгляд, тем более что я не сомневался, что и на этот раз она уйдет ни с чем. Где ей взять масло и сахар?
Женщина выдвинула из мельницы узенький ящичек. Я увидел в нем несколько высохших пестреньких фасолин. Она задвинула обратно ящичек, поправила на голове платок и сказала звонко, нараспев:
– Купила бы, да молоть нечего…
И ушла.
– Нахальная баба! – сказал я. – Сколько раз уже обнюхивала вашу мельницу. Делать ей нечего!
– Фантазируешь! – сказал убежденно Иван Ильич. – Впервые ее вижу, а память на лица у меня, сам знаешь, отличная: один раз увижу, сто лет помню!
– Вы просто не заметили…
– Не болтай! – вдруг рассердился Иван Ильич. – Мне лучше знать. Пойдем домой, проводи-ка меня немного…
Мы шли кривыми улочками нашего городка. Моросил октябрьский дождь, день был серый, унылый. Впрочем, теперь и солнечные дни казались мрачными. Иван Ильич нес завернутую в тряпицу мельницу и молчал. Но у меня было такое чувство, что он все время наблюдает за мной.
– Хочу тебе сказать вот что… – прервал молчание Иван Ильич. – Время такое… всякое может случиться. До конца войны могу и не дожить. Мой завет тебе: не бросай скрипку. Раньше не говорил, теперь скажу: ты можешь стать большим музыкантом, настоящим артистом. Береги себя. Главное, помни о пальцах. Я тогда узнавал у доктора…
За все пять лет обучения старик не похвалил меня и пяти раз. Слова его привели меня в смущение, я не знал, что сказать, и брякнул невпопад:
– Никто не даст вам за эту мельницу ни масла ни сахара. А зачем вы держите в ней фасолины?
– Что? Ах, ты про это? Завалились, верно, с мирного времени.
Развернув тряпицу, он вытряхнул на мокрую землю фасолины. На нежданную добычу жадно набросились взъерошенные воробьи.
– Были и нет, – усмехнулся Иван Ильич.
На площади наши пути расходились.
– Послушай… – начал старик и умолк. Опять я почувствовал на себе его испытующий взгляд. – Об отце имеешь сведения?
– Ничего не знаем, Иван Ильич. С августа…
– Надо надеяться, дорогой, надо надеяться. – Он поежился под струйками холодного дождя. – Куда ты дел свой пионерский галстук?
Вопрос был неожиданный. Я растерялся.
– Понимаю, – сказал Иван Ильич. – Уничтожил. Избавился. Правильно сделал. Пользы от него никакой. Наверное, все пионеры выбросили свои галстуки…
– Все пионеры выбросили галстуки? Да что вы? Не знаете, а говорите! Кто выбросил, тот трус!
– Постой, не кричи. Фортиссимо здесь неуместно. Объясни все-таки, к чему тебе пионерский галстук? Если фашисты узнают, ты можешь погибнуть из-за него. А ты должен беречь себя. Тебя ждет слава, я уверен, что немцы оценят твой талант. Увидишь!
– Не стану я играть для фашистов! А красный галстук мне нужен! Нужен! Пока галстук у меня, я как будто бы в засаде! Прикажут, и я брошусь в атаку! Только бы приказали!
– От кого ты ждешь приказа? Кому теперь приказывать, коли немцы уже в пригородах Ленинграда и прут на Москву. Некому здесь приказывать…
– А кто приказал взорвать склад с немецким обмундированием? Кто приказывает расклеивать по ночам сводки Совинформбюро? Кто приказал у деревни Ивановской пустить под откос поезд с фашистами?
Мне показалось, что Иван Ильич не слушает меня, думая о чем-то своем.
– Ладно, не будем спорить, – сказал он наконец. – Приходи завтра на станцию.
– Зачем?
– Увидишь, какую силищу прут на восток немцы. Не устоять большевикам…
– Запугали вас фашисты!
– А ты не боишься?
– Я их ненавижу! И не боюсь, потому что знаю, чем война кончится. Помните, что сказал Александр Невский?
– Ну, что же сказал Александр Невский?
– «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет!»
– Сказать все можно. Нет, брат, плетью обуха не перешибешь. Завтра на станции сам увидишь…
– Не пойду я никуда!
– А я прошу тебя! Мне нужно, чтобы ты пришел. Слышишь? Обязательно! В конце концов, можешь ты исполнить просьбу своего учителя?!