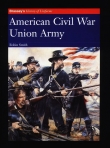Текст книги "Непобедимая"
Автор книги: Вильям Козлов
Соавторы: Борис Никольский,Илья Туричин,Борис Раевский,Аскольд Шейкин,Юзеф Принцев,Эмиль Офин,Нисон Ходза,Александр Розен,Яков Длуголенский,Леонид Радищев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ЛЕОНИД РАДИЩЕВ
ТОВАРИЩ ЯСАМ
В июльский день тысяча девятьсот сорок первого года я стоял в огромной очереди на улице Чайковского. Было очень душно, казалось, что медное солнце неподвижно висит над крышами и, как всегда в ленинградский жаркий день, пахло горячим асфальтом, перегоревшим бензином и, едва ощутимо, кондитерской сдобой, хотя ее не было уже и в помине.
Очередь двигалась медленно, толчками, и опять останавливалась надолго. Казалось странным, что в этой небывалой, необыкновенной очереди могут быть споры и пререкания, но у входа в военкомат образовался настоящий затор и двое красноармейцев в пропотевших гимнастерках никак не могли навести порядок.
Какой-то подросток в узорной тюбетейке, стоявший рядом, покосился на мой грузный карман и попросил перо на минутку.
Прижав квадратик бумаги к стене, он быстро исписал его кривыми буквами.
– Как, по-вашему, достаточно? – спросил он. – Взгляните, пожалуйста!
В заявлении было сказано, что податель сего, ученик восьмого класса средней школы, просит зачислить его в ряды Красной Армии и немедля отправить в часть, действующую против фашистских захватчиков. Имеет хорошие успехи в стрельбе из винтовки, ходит на лыжах, лазает по-пластунски, разбирает и собирает мотоцикл, а так же знаком с радиотехникой и связью.
– Что ж, по-моему, достаточно! – сказал я ему, возвращая заявление. – Вот только насчет возраста… пятнадцать лет! Зеленовато, а?!
– Неполных шестнадцать! – поправил он и посмотрел на меня в упор. Роста он был небольшого, но с крупным лицом и темными размашистыми, мужскими бровями.
– Видишь ли, дружище, – я старался говорить возможно более обходительно. – По существу, ты еще, так сказать… Ну, юнец, что ли? Школьник. Надеюсь, ты не станешь этого отрицать! А война, мягко выражаясь, дело серьезное… и прежде всего – это дело людей взрослых.
Все, что я говорил ему, было очень правильно, разумно, бесспорно, но странная вещь – я почти физически ощущал, что произношу какие-то гладкие, скользкие, «рыбьи» слова.
– Все? – спросил он, продолжая разглядывать меня в упор. – А хотелось бы знать, сколько пуль всадите вы в мишень, ну, хотя бы с десяти метров? А речку переплыть в одежде вы сможете? А правильно навернуть портянку?.. Наверно, сразу натрете во-о-о-т такие мозоли! – он фыркнул и, отходя от меня, добавил: – Вы здорово напоминаете моего папашу!
По-видимому, это сравнение было не очень лестным для меня.
Часа через полтора мы встретились уже в помещении военкомата. Открылась тяжелая дверь из кабинета, где принимал военком, и я увидел на пороге знакомую узорную тюбетейку. Вслед за ней появился плечистый майор.
– Да ты послушай толком! – примирительно сказал он. – Все я понимаю, но зачислить тебя в армию мы не можем. Не имеем права, понимаешь?
– А вы слыхали о первых комсомольцах, защищавших красный Петроград? У них не спрашивали призывного возраста! А когда буры защищали свою независимость? У них малые дети взялись за оружие!.. Э, ладно! Я сам найду дорогу…
В тесной толпе у двери не было видно говорившего, но я очень ясно представлял, как маленький человек с размашистыми, мужскими бровями в упор глядит на рослого военкома.
* * *
Мой сосед – старший политрук, раненный под Пулковом. Шея, плечо, рука у него опутаны бинтами во всех направлениях – целая постройка из бинтов. Ему трудно вставать с кровати, но он уже, наверно, десятый раз подходит к ширме, за которой лежит третий обитатель нашей палаты – я еще не видел его.
– Спит! – шепотом произносит старший политрук. – Это хорошо, что спит!
Возвращаясь к себе, он задерживается у моей тумбочки, где с утра стоит миска с жидкой кашицей, и говорит неодобрительно:
– Это вы напрасно! Паечек у нас и так мелкий, надо его поедать. А что вы будете делать, когда проснется аппетит? Тогда уж его ничем не угомоните!
В палату заглянула маленькая и очень строгая медсестра.
– Раненый, не бродите, займите свое место на койке! Сейчас будет обход врача.
Через несколько минут пришла седая женщина с усталыми глазами. Сестра стала разматывать старшего политрука, словно кокон. Седая докторша долго рассматривала его плечо, руку:
– Что ж, в общем, недурно! Забинтуйте, Лидочка! – и пошла за ширму.
Где-то недалеко раздались один за другим бомбовые разрывы, и все вещи вокруг – койки, табуретки, тумбочки – подпрыгнули, точно от испуга. Резко задребезжали стекла, склеенные полосками бумаги.
– Опять начал! – сказала маленькая медсестра, с неимоверной быстротой скатывая бинты в ладонях. – Раненый, стойте ровно и не вздрагивайте, как девушка, – она сама улыбнулась этому явно устаревшему сравнению.
Седая докторша вышла из-за ширмы. Казалось, глаза ее устали еще больше за эти минуты. Старший политрук неловко повернулся к ней забинтованной шеей:
– Разрешите узнать, товарищ военврач, как там… у него?
– Там серьезно, – тихо ответила седая женщина и показала рукой на глаза.
И вдруг из-за ширмы послышался слабый, хриплый, но все-таки озорной голос:
– Говорит… Ленинград! Говорит Ленинград…
Докторша улыбнулась и нахмурилась одновременно:
– Эй, там, на «Камчатке», разговорчики! Имей в виду, что мы сейчас же вернемся. Идемте, Лидочка!
Они вышли. Быстро, как только мог, старший политрук слез с койки и направился к ширме:
– Ясам! Чертяка! Коротыш! Подал голос! Ну, как она, жизнь молодая?
– По пятибалльной… три… с плюсом. Переводят в следующий класс… но вызывают родителей…
– Молодец, Ясамчик! А я все ждал, когда ты проснешься… Сильно болит?
За дверью что-то звякнуло. Старший политрук успел отскочить – нелегко это было ему – и улегся, морщась и кряхтя от боли.
Вслед за докторшей маленькая медсестра внесла блестящий стерилизатор и кусок жгута из красной резины. За ширмой зажглась лампочка.
– Тебе, голубчик, опять придется потерпеть, – мягко сказала седая докторша, – вот эту руку положи сюда. Дай-ка я тебе помогу!
– Ничего, доктор, не надо! Я сам!
– Нехорошо, раненый! – строго заметила маленькая медсестра. – Поступайте так, как вам предписывает товарищ военврач!
Старший политрук осторожно хмыкнул. Он лежал на койке, покачивая головою, точно слушая знакомый мотив. «Ну, разумеется, я сам! – бормотал он. – Конечно, я сам! Как же иначе?»
Процедура окончилась. Докторша с сестрой ушли. Некоторое время за ширмой было тихо, потом человек задышал как-то особенно глубоко, с длинными перерывами.
Мы лежали молча.
– Поди ты к черту… Щетинин… не трогай, – отчетливо произнес спящий.
– Щетинина вспомнил, – тихо сказал старший политрук. – Никак не может позабыть. Это есть у нас такой боец… или был, не знаю теперь. Почему-то необыкновенно услужливый. Чистил свою винтовку да заодно и ему вычистил, – старший политрук кивнул на ширму. – А у того один ответ: «Не надо, я сам!» Мы его так и наименовали – Ясам! Получилось что-то такое восточное, экзотическое… А воевать товарищ Ясам отправился на колбасе! Слыхали такое? Мы ведь трамваями поехали на фронт… Тридцать шестым номером по Старо-Невскому… и прямо в пекло. А он прицепился сзади и вместе с нами прибыл. Наш полковник сначала хотел отправить его обратно в город, да тот вымолил. Фамилию себе, конечно, сочинил какую-то, бумажек никаких. Потом уж вытянули из него, что сбежал от родителя. Прямо с поезда. Отец – инженер, поехал на Урал вместе с заводом… а сын у него единственный, – старший политрук нахмурился. – Надо было как-то уберечь парнишку, да разве убережешь такого? Он же разведчик!..
* * *
На другое утро, во время обхода, мы слышим, как Ясам жалуется на духоту: за ширмой нечем дышать, хоть бы немного ее отодвинуть.
Седая докторша разрешила, но с обязательным условием: не разговаривать. Нас она также предупредила об этом.
Ширму отодвинули. Я не очень удивился, когда увидел темные, размашистые, мужские брови под низко надвинутой марлевой повязкой. Вот мы и опять встретились! Вчера, слушая соседа, я сразу вспомнил о тебе. Я почти не сомневался, что Ясам – это ты!..
– Товарищ… старший политрук… слышали ночью?.. Близко бьют, – Ясам точно выдавливает слова из пересохшего тюбика. – Какая сегодня… сводка?
– Боевые эпизоды! – коротко отвечает старший политрук. – А тебе что предписано?
– Ха… снилось мне это… в три часа ночи!
– Товарищ Ясам! Есть предложение сыграть в молчанку! До завтрашнего утра! Ясно?
– Почти!
– Выполняйте!
Поразительно быстро проходит день, хотя мы ровно ничего не делаем. Лежим и молчим. За окнами густая синяя тьма. Прямые лучи прожекторов рассекают ее почти непрерывно. В палате тускло светит дежурная лампочка. Бессонно стучит метроном.
Мучительно лежать ночью без сна. Пытаюсь прогуляться от койки до двери. Около ширмы делаю остановку. Кажется, Ясам не спит. Лицо у него какое-то темное, точно опаленное, глаза полузакрыты. Он медленно поворачивает голову, спрашивает спокойно:
– Это кто?
Вслед за первым нарушением (расхаживать запрещено) допускаю второе (разговор).
– Это твой старый знакомый. Помнишь очередь в военкомат? На улице Чайковского… Ты еще писал заявление моей авторучкой.
На переносице у него собираются морщинки:
– А-а-а, как же! Золотое перышко. Моя бывшая мечта… Все-таки встретились… Интересно. Вас куда ранило?.. Сейчас мне трудно смотреть. Не помню вашего лица.
– Днем посмотришь.
– Обязательно!
Рука его неуверенно протягивается к тумбочке, где стоит кружка с водою.
– Ты что, пить?
– Не беспокойтесь, я сам!
– Виноват… совсем забыл, что имею дело с Ясамом.
Кто-то идет по коридору. Во избежание возможных недоразумений срочно прекращаем разговор.
До завтра!
* * *
Маленькая строгая медсестра приоткрыла дверь и сказала Ясаму:
– Вам разрешено свидание. На пятнадцать минут. Поменьше разговаривайте, чтобы не повредить своему излечиванию!
В палату вошли две девушки – худенькие, бледные, в просторных больничных халатах не по росту – и беспомощно огляделись.
– Вот здесь! – сказала медсестра и поставила две табуретки возле койки Ясама.
У девушки с короткими светлыми косичками задрожало лицо, но она тотчас же улыбнулась. Другая – чернушка, похожая на стручок перца – взглянула на нее и тоже улыбнулась.
Мы со старшим политруком завели какой-то свой разговор, но невольно слышали, о чем говорилось там, у койки Ясама.
– Нет, как же вы меня все-таки нашли? – повторял он. – Это же просто замечательно и удивительно! А где вы сейчас? Что делаете?
Они торопливо рассказывали ему, что гасить зажигательные бомбы, в сущности, не так уж страшно, можно даже как-то привыкнуть, что школа закрыта, а директор Сергей Иванович живет в физическом кабинете; вспоминали одноклассников: война раскидала кого куда. Потом черненькая девушка положила Ясаму на грудь какой-то бумажный сверток:
– Это, Боря, велено передать тебе…
– Что это? – подозрительно спросил Ясам. – Кем велено?
– Ну, вот… вообще… от нас, – и она выпалила почти с отчаянием, – потому что мы тобой гордимся!
– Что-о-о?
– Боречка, не буйствуй! – сказала девушка с косичками. – Это от нас, и все! Дай-ка я тебе разверну!
– Нет уж, спасибо, я сам!
Из бумажного свертка выпали на одеяло какие-то небольшие, круглые, беловатые предметы. Ясам нащупал один из них, поднес к лицу, понюхал:
– Позвольте!.. Это что же такое? Булочки?.. Разве на свете бывают булочки?
– Бывают иногда! – в голосе у девушки звучало торжество. – И даже, представь себе, сладкие!
– Сладкие булочки… мне?! (на этом слове было сделано сильное ударение)… Снилось мне это… в три часа ночи! Девочки, ну, умоляю… ну, как же это можно… подумайте сами…
– Все! Хватит! – решительно сказала девушка с косичками. – Мы уже подумали. И больше ни звука об этом! А теперь вот что, Борис: я принесла тебе два письма от твоего отца. – Она вложила Ясаму в пальцы два помятых конверта. – Он написал Сергею Ивановичу на адрес школы. Ты ему ответь… Он все-таки пожилой человек. И ты у него один…
Ясам подержал конверты перед глазами.
– Ты что, плохо видишь? – тревожно спросила девушка.
– Кто, я? Не сказал бы! Это от температуры! Ну-ка, нагнись, – произнес он совсем тихонько, и когда она наклонилась, неловко дотронулся до ее волос. – Ага, вот и косички… Я даже вижу золотые ниточки, вот они… А помнишь, как я тебя дергал за них? Это было в седьмом классе. Помню, на школьном вечере подошла ко мне твоя мама и сказала, что если я не перестану дергать тебя за волосы, она примет меры. Я тогда удивлялся, откуда она знает… Как-то в голову не приходило, что ты можешь наябедничать…
– Мне кажется, что это было страшно давно! – так же тихо ответила девушка с косичками. – Лет двадцать пять тому назад…
Вошла строгая медсестра и объявила, что свидание окончено.
Наступили тягостные минуты.
– Я вам буду сообщать о себе, – заторопился Ясам, – адреса я теперь знаю, – и протянул им руки.
Потом они повернулись к нам.
– До свиданья, – сказала девушка с косичками.
– Счастливо оставаться, – добавила черненькая, но тут же спохватилась и порозовела на секунду, – то есть я хотела сказать – счастливо поправляться! И скорее!
– Ну то-то же! – улыбнулся старший политрук. – Такие пожелания мы принимаем.
Сразу после их ухода Ясам потребовал, чтобы мы взяли по булочке. Мы всячески отнекивались, но он так разволновался, что пришлось уступить.
Был уже конец блокадного ноября, ремни подтягивались все туже и туже, но булочка, как ни странно, не вызывала желания немедленно ее съесть. Она казалась какой-то красивой игрушкой, которую можно поставить на комод или на этажерку. А вот кусок черного хлеба – это было другое, совсем другое…
– Когда хлеб становится вкуснее пирожного – это очень серьезный признак, – задумчиво сказал старший политрук. – Знаете, как говорили когда-то на Руси? Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска, так и стол доска!.. Мы ели его и не замечали. Это был, так сказать, аккомпанемент к борщу, сосискам, мясу, жареной картошке и прочему, и тому подобному. А сейчас хлебушко вышел на первое место. Да еще на какое… И все-таки мы выдюжим! – Кулак на его здоровой руке сжался до скрипа. – Кости вылезут, шкура обвиснет, а мы все равно будем воевать… Как, Ясамчик, а?
Ясам спал. Он заснул сразу, без всякого перехода.
– Устал, – понизил голос старший политрук. – Это хорошо, что спит. Скорее выкарабкается…
* * *
Ясам не обманул наших ожиданий. Он выкарабкался, хоть и не скоро, и снова пошел воевать. Сильно пострадал левый глаз. «Но ведь его все равно нужно прищуривать, когда берешь врага на мушку», – объяснял он врачебной комиссии…
Ранней снежной весной сорок второго года, неподалеку от города Тосно, который именовался тогда в сводках «населенный пункт Т.», эсэсовским автоматчикам удалось обнаружить и захватить, после неравной перестрелки, двоих наших разведчиков. Им связали руки и бросили в пустой холодный подвал, где недавно было овощехранилище. На другой день под усиленным конвоем их доставили в дачный поселок, где, видимо, размещался штаб какой-то эсэсовской части. И первый допрос, и все последующие отличались тоскливым однообразием.
– Вы есть один военный советский юнга, – говорил эсэсовский начальник, заглядывая в немецко-русский словарь.
– Допустим! Ну и что? – отвечал юноша в изорванном, окровавленном маскхалате, с трудом шевеля разбитыми губами.
Далее следовали предложения от имени германского командования, которому требовались некоторые уточнения на данном участке Ленинградского фронта. Разумеется, что такого рода услуги германское командование не забывает…
– Снилось мне это в три часа ночи!
Точно так же отвечал и второй разведчик.
– Что есть три часа ночи? – злобно скалился эсэсовец. Эти темные, загадочные слова, смысл которых не мог объяснить ни один немецко-русский словарь, приводили его в неистовство.
Допросы прервались. Снова темный, холодный подвал и банная шайка с полуразваренной свекольной ботвой, которую им спускали на веревке один раз в день. А кругом овощехранилища непрерывно ходят солдаты, притоптывая сапогами – ноги мерзнут!

Так прошло еще трое суток. И вот открылась наверху дверь. Надо выходить. Негнущиеся ноги с трудом одолели несколько заледеневших ступенек. Больно ударил в глаза солнечный, искрящийся, бело-голубой день. И сразу услышали они далекие, мощные, басовые раскаты. Волны этого дальнего грома с правильными промежутками катились над снежными полями. И все, кто был сейчас на улице – хмурые, небритые эсэсовцы, солдаты в продувных шинелишках, сторожившие подвал, – все они каким-то одинаковым движением опасливо поворачивали головы в сторону катящегося грома и точно нюхали воздух.
– Дружище, ты посмотри, что с ними делается, – крикнул юноша в изорванном, окровавленном маскхалате, – это же наши бьют, наши! Наш бог войны!
Эсэсовец, заросший щетиною до ушей, схватил его за обрывок маскхалата и потащил к забору. И вдруг удар по челюсти – сильный, точный – повалил эсэсовца в снег.
– Не прикасайся, гад… сволочь… Я сам!
Л. ШЕСТАКОВ
ВОЕННЫЙ ТРОФЕЙ
Долгую зиму стыло под снегом село Понизовье. Словно покинутое людьми, словно вымершее. Ни человеческого голоса, ни собачьего лая. Лишь часовой в зеленой шинели маячил на крыльце избы деда Романа, охраняя немецкий штаб. Но он не в счет. Не в счет и орудийная прислуга, которая топталась у околицы возле зенитной батареи, и грузовики, прижатые к избам, и полевая кухня.
Коренные жители не высовывали носа из погребов, из сараев, где ютились с ребятами, с мелкой скотиной.
Дед Роман обосновался в своей старой, закоптелой баньке. По ночам ему не спалось. Знобило, ломило ноги, подводило с голодухи живот. А главное – самосад кончился. Ни крупинки в кисете!
С рассветом он подходил к слепому, заиндевелому оконцу, протирал пальцем крохотный пятачок и, воровато поглядывая на крыльцо своей избы, закипал лютой, неистребимой злобой.
– Топаешь, оглобля? – мысленно вопрошал он часового. – У-у, вражина!
Часовой был для деда Романа сущим бельмом – заслонил весь белый свет. Топает и топает, согревая длинные, в коротких голенищах ноги, ежится от ветра. А дед Роман лютует:
– Недоносок гитлеровский! Тьфу!..
В ярости он переводит взгляд на другого своего врага. Этот железный. Стоит по пояс в речке, скованный льдом, припорошенный снегом. Мертвый, но страшный враг.
По осенней распутице немцы волокли тягачом на толстом тросе подбитый танк. Как видно, хотели ремонтировать, а может, в лом сдать, черт их разберет. Но помешала им речка Понизовка. Тягач она пропустила, а танк рухнул в воду, обломив мосток. Ни вперед, ни назад. Как в капкане.
Немцы долго не раздумывали. Выгнали к Понизовке всех жителей, приказали рыть левый берег, как раз тот, на котором стояла дедова банька. А народ, известно, голодный, слабосильный – женщины да ребятишки. Ленька Мотылев вонзил с размаху лом, а вытащить силенки нет. Пошатал, пошатал…
Тут немец, тот самый, что сейчас на крылечке часовым, на него коршуном:
– Ну! – и замахивается автоматом.
Бабка Ульяна рядом оказалась. Шагнула она, заслонила Леньку:
– Или взбесился? Перед тобой же дитё!
Автомат угодил бабке в плечо. Худенькая, легкая, скатилась она с кручи в ледяную воду, даже не вскрикнула.
Дед Роман кинулся в речку, выхватил бабку. Жилистый, мокрый по грудь, шатаясь, понес свою Ульяну Максимовну.
С тех пор и занемогла бабка, простудилась. Врачевал ее сам дед Роман, как мог. Он для нее и сахарцом разжился у соседей, и даже молочка добывал. Не помогло. Долго хворала бабка Ульяна, таяла, как восковая свечка, и погасла…
А танк не достали. Внезапно ударили морозы, сковали речку и берега. Потом повалил снег. Немцы и махнули рукой, – дескать, до весны.
И вот он стоит перед глазами деда Романа – железная туша, исклеванная советскими снарядами. Броневая башня перекошена, пушечный ствол изогнут, как слоновый хобот.
«Сколько ты людей поизничтожил, душегуб? – мысленно обращается дед к танку. – Не на тебя ли, дьявола, шли грудью покойные сыны Семен, Трофим, Лаврен и Павлушка? И Максимовна, считай, из-за тебя…»
Смертельно надоели деду Роману и часовой на крылечке, и этот утопленный танк. Не глядел бы… Но, словно магнитом, притягивали они взгляд, особенно часовой. Не стесняясь в выражениях, дед Роман награждал его хлесткими прозвищами, а порой и угрожал:
– Вот выскочу да так пну в тощий зад – надвое переломишься!..
Он не хвастал: несмотря на годы, дед Роман был еще крепок. А главное – зол.
Но что-то сдерживало его. Он и сам не знал – что. Ведь не автомат же. Плевать ему на автомат! Это – пугало для тех, кто боится смерти, кто еще чего-то ждет. А деду Роману теперь уж нечего ждать… Было четверо сыновей – и нету. Была Максимовна, с которой прожил без малого сорок лет, – умерла. Была своя изба – выгнали. Собаку и ту застрелил вот этот самый часовой, старую Милку. Ни за что убил, для развлечения.
«Должно, оттого робею, что без курева, – недоумевал дед Роман. – Дай мне вволю накуриться, и тогда пропади все: выскочу и садану этого вояку… А так не резон. Он же, окаянный, закурить не предложит, а спервоначалу секанет из автомата…»
По правде сказать, дед в запальчивости крепко кривил душой. Хоть и не страшился он автомата, а помирать зря какой же смысл? Нет, ему надо дожить до того дня, когда этих завоевателей и духу не останется!
Пришла наконец и запоздалая весна. Под влажными ветрами снег поначалу как бы вспух, потом осел. А тут ударили дождики, начисто съели снег. На бугорках начало подсыхать, кое-где из-под старой, пожухлой травы полезла свежая зелень.
В низинке перед баней деда Романа осталась небольшая лужица.
Погожими днями в ней ясным огнем горело солнце, разбрызгивая отраженные лучи. Дед Роман хмурился, но не отходил от оконца. Жадным ухом ловил птичий гомон и дальние раскаты грома, которые день ото дня становились слышнее.
– Ко времени гроза! – шептал в бороду дед Роман, кося глазом на часового. – В самый аккурат приспела – скоро сеять…
Однажды под оконце прилетела ласточка. Пулей пройдя над лужей, она чуть тронула крылом воду и зажгла перед глазами деда Романа маленькую радугу. Потом развернулась, с лету упала на землю и побежала у самой воды, печатая трехпалыми лапками затейливый след. Побегала взад-вперед, как бы примериваясь, скользнула искринкой глаза по оконцу бани, зачерпнула клювиком жидкой земли и исчезла. А через минуту явилась снова.
– Гнездо строит, – одобрительно заметил дед Роман. – Ну и правильно! Чихать ей на войну…
Наклонившись через перила крыльца, часовой тоже внимательно смотрел на ласточку. На лице его играла улыбка.
– Любуешься, недоносок! – взорвался дед Роман. – Спектакля тебе тут? Погоди, будет не такая спектакля, а еще и с музыкой! Слышишь, погромыхивает?
Двое суток, не умолкая, гремело на востоке. Гул подкатывался все ближе. А на рассвете третьего дня в Понизовье влетели четыре советских танка. С ходу подмяли зенитную батарею и, скрежеща, ринулись вдоль деревни.
Дед Роман без шапки, в распоясанной холщовой рубахе бесстрашно кинулся навстречу головному:
– Стой, дурной, стой! – раскинул он руки.
Механик-водитель резко затормозил машину.
– Ошалел, дед! Куда тебя несет под гусеницы? – крикнул он, откинув тяжелый бронированный люк.
– Не шуми! – примирительно сказал дед Роман. – Заворачивай свой тарантас. Они ж, поганцы, на грузовиках драпанули. На Гусаки подались. Целая колонна… Они большаком на Гусаки, а ты валяй проселком на Скворцы. Понял? В аккурат перехватишь. Нет ли табачку на закурочку?
Улыбнувшись, водитель выкинул деду свой кисет и, захлопнув люк, рывком тронул машину.
Понизовцы выбрались из погребов, из чуланов, высыпали на улицу, радуясь, что немцы в панике не успели поджечь деревню. Правда, пока хозяйничали в Понизовье, они где печь развалили, где ворота сорвали, а где и крышу для чего-то снесли. Но это ладно. Главное – дома остались.
Люди убрали хлам, начисто вымели сор, позатыкали подушками пустые рамы и стали жить. Над понизовскими крышами закурились дымки.
Наскоро отварив котелок картошки, Прасковья Мотылева накормила детей.
– Разыщи-ка, Леня, лопату, – велела она старшему. – Пойдем огород пахать.
– Лопатой? – удивился Ленька.
– А то чем же? – усмехнулась мать. – Или у тебя пара коней припрятана?
И стар и млад высыпали на огороды. Кто с граблями, кто с вилами, кто с лопатой. Запылали костры, пожирая оставленный немцами мусор, сухую прошлогоднюю траву и листья. Запахло дымом и свежей землей. С высоты упал звон невидимого жаворонка.
А вечером к деду Роману пришли женщины.
– Извиняйте! – развел руками хозяин. – Посадить не на что. Одни стены остались.
– Да мы не в гости, – повела речь Прасковья Мотылева. – Пораскинули своим бабьим умом и вот пришли. Берись-ка за молоток, Кузьмич, ладь плуги да бороны. А то ведь поля – не огороды, с лопатой там делать нечего.
Выслушал дед Роман, нахмурился.
– Умная ты, Прасковья, женщина, а несешь чушь. На черта они сдались, те плуги, если запрячь некого. На коровах, что ли, пахать собираетесь? Или на себе?
Прасковья кивнула:
– Угадал. В аккурат трава пошла. Подкормим коровенок, какие ни на есть, и впряжем. А то и сами в хомуты – куда ж ты денешься! Когда еще тот трактор пришлют. Да и где он, трактор? Весна-то не ждет. Мы уж по-всякому прикидывали, и получается: куда ни кинь – клин… Бери, Кузьмич, в подручные моего Леньку и приступай.
Дед Роман за длинный свой век каких только нужных вещей не перековал. Мастерил он и серпы, и ухваты, оковывал железом тележные ободья, сваривал оси. Доводилось ему не только чинить плуги, а и новые делать. Откованные дедом Романом лемехи когда-то на всю округу славились.
Но никогда еще старому кузнецу не приходилось налаживать плуги под людскую упряжку. И никогда еще не было у него такого молотобойца, как двенадцатилетний Ленька Мотылев.
– Будем лемеха покруче ставить, – делился кузнец. – Оно, конечно, захват будет не тот и глубина пахоты не та. Зато легче. Человек не конь. По человеческой силе будем ладить плуги. Понял?
Ленька помалкивал, кивал. Очень ему нравилось, что дедушка Роман делится с ним своими мыслями как с равным. Вроде даже иногда советуется.
Кувалда, которой предстояло Леньке работать, поначалу показалась совсем не тяжелой.
– Бить будешь по команде ручника – ручного, значит, молотка, – наставлял кузнец. – Следи внимательно: где я ручником коснусь, туда и лупи кувалдой.
Ручник деда Романа стал для Леньки сущим наказанием. Ткнет легонько в раскаленное железо, отскочит, задребезжит на наковальне, снова ткнет… А Леньке тем временем надо замахнуться и, навалясь грудью, ударить. А главное – надо успеть, чтобы в такт шло, чтобы музыка получалась: «Бух!.. Тук!.. Т-р-р… Бух!.. Тук!.. Т-р-р…»
Обливаясь потом, всей душой ненавидя ручник, Ленька бил тяжелой кувалдой и ждал только той минуты, когда железо остынет и дед Роман понесет его в клещах снова разогревать. Тогда Ленька вытрет с лица пот и маленько отдохнет. По секрету от кузнеца он подует на ладони, которые горят нестерпимым жаром. На них сперва налились волдыри, потом волдыри полопались, но острая, саднящая боль осталась.
День и другой машет Ленька кувалдой. Начал уже привыкать, втягиваться.
На утрамбованной земле, чуть поодаль от наковальни, готовые поковки валяются: лемехи, крючья, гребенки. Синеватые, на совесть отутюженные ручником и кувалдой.
– Красивые! – залюбовался Ленька. – Новенькие…
Дед Роман нахмурился:
– Нашел красоту! Я как вспомню, что бабам в хомуты впрягаться, перепалил бы, кажется, в горне все поделки. Ты вот во что вникни, Леня. Какие ни на есть мы с тобой, а все ж таки мужики. В нашем звании полагалось бы что-то выдумать… Как бы это тебе по-научному объяснить? Ну, вот, например, ни трактора, ни коня мы с тобой не имеем. А пахать, сеять надо, без этого никуда. Получается: умри Роман с Ленькой, но обмозгуй какую-то местоимению, чтобы, значит, заместо трактора. Смекаешь? На коровах нам поля не засеять. Сами без хлеба, и армия без пайка. Вот какая ответственность…
А по дороге целыми колоннами грузовики идут, танки, пушки. Бывает, остановятся возле кузницы. Солдаты деду Роману кисеты тянут, командиры все больше про дорогу расспрашивают. А Леньке – кто сухарь в карман, кто рыбину-воблу, кто кусок сахару.

И все мимо. Все вперед, на фронт.
Но как-то перед вечером остановилась на понизовской улице танковая колонна. Эта пришла с другой стороны, от фронта. Мигом повыныривали из люков танкисты – черные, что грачи. В комбинезонах, в кирзовых шлемах. Огляделись, некоторые пробежались туда-сюда. Потом все попрятались в люки, начали разводить танки по задворкам, укрывать маскировочными сетями. Деревенские переулки враз покрылись рубчатыми следами гусениц.
– Здравствуй, дед! Узнаёшь? – остановился возле кузни высокий старшина-танкист.
– Ты? Ну, обрадовал! А я, понимаешь, все сокрушаюсь: не успел хорошему человеку спасибо сказать. За табачок. Знатный оказался табачок! Сделаешь затяжку – будто пяток годов с плеч… И спасибо не сказал, и не узнал, как тебя по имени-отчеству…
– Ну, вот еще, по отчеству! – улыбнулся старшина. – Сергеем звать. Усов по фамилии. А спасибо, дедушка, как раз тебе причитается. Помнишь, направил ты нас тогда проселком? У самых Скворцов мы и перехватили ту колонну. Такой концерт дали немцам – не надо театра! Один долговязый чесанул лугом к лесу. Автомат бросил и запетлял, запетлял. Ни дать ни взять – заяц. Ноги тонкие, длинные, а голенища широченные, как ведра. Но дурак: разве от пулемета уйдешь?
– Он, сукин сын! – воскликнул дед Роман. – Мой знакомец. Часовым все торчал у штаба. Старуху мою, Максимовну, в могилу свел. Милку, собачонку, из автомата… ни за что. И все по хлевам да чуланам шастал, вонючка поганая! Курочку ему, поросеночка…
Танковая часть расквартировалась в Понизовье. Машинам – чистка и смазка, людям – баня и отдых.
В Ленькиной избе-пятистенке разместился штаб. Застрекотала пишущая машинка, у крыльца встал часовой с автоматом.
А вечером в конце деревни заиграла гармонь. Умытые, принаряженные девчата потянулись туда. Там и деревенская ребятня. Ленька среди нее за главного.
Ожило, повеселело Понизовье. Даже женщины и те посветлели лицами, хоть и выматывались на пахоте, хоть и ели не досыта. Один дед Роман не в духе. Все чего-то хмурится.
Но вот и он словно бы отмяк. Пошептался о чем-то с танкистом Сергеем Усовым – и сразу стал другой дед. Над Ленькой пошучивает, задирает его, а сам глядит хитро и озорно. Чует Ленька – что-то удумал старый, а что? Помалкивает дед, про себя разумеет.
Вечерком кузнец отправился в штаб. Бороду свою тщательно расчесал гребешком, трофейную пилотку надел на русский манер – чуть набок.
Деловито отстранив часового, дед Роман объяснил:
– По делу. Начальство-то на месте?
– На месте. Проходи, дедушка.
Молодой подполковник что-то писал за столом. Увидев вошедшего старика, он быстро встал, отодвинул бумагу: