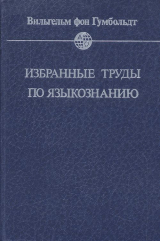
Текст книги "Избранные труды по языкознанию"
Автор книги: Вильгельм фон Гумбольдт
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)
Если допустить, таким образом, наличие двух исконных спряжений в языке, с гуной и без гуны, то, естественно, напрашивается вопрос, не была ли гуна вытеснена или, напротив, не развилась ли она вторично, в тех случаях, когда весомость окончаний вызывала противопоставление? Надо, не сомневаясь, высказаться в пользу первого. Звуковые изменения, подобные гуне и вриддхи, невозможно привить языку извне; по удачному выражению Гримма, говорившего о немецком аблауте, они увязают, словно корни, в языковой почве и могут иметь своим источником темные и широкие дифтонги, какие мы находим и в других языках. Гармоническое чувство, по-видимому, смягчило их и упорядочило их взаимоотношения количественной определенностью. Впрочем, та же наклонность органов речи к расширению гласных могла у одаренного народа сразу же и непосредственно излиться в ритмически упорядоченной форме. Ведь вовсе не обязательно и едва ли даже разумно представлять себе каждую находку хорошо устроенного языка результатом постепенного и медленного развития.
Разница между грубым природным звуком и упорядоченным произношением с гораздо большей отчетливостью обнаруживается в другой звуковой форме, очень важной для внутренней организации слова, – в удвоении. Повтор начального слога или даже всего слова целиком, то с усилением значимости при выражении разнообразных понятий, то в порядке простой произносительной привычки, свойствен языкам многих нецивилизованных народов. В некоторых языках малайской семьи удвоение свидетельствует о скрытом действии фонетического чувства уже потому, что повторяется не всегда гласный корня, а иногда какой-то родственный ему. Но в санскрите удвоение столь строго соразмерено с каждым из типов внутреннего строения слова, что здесь можно насчитать до пяти или шести разных формул удвоения, распределенных в языке по своим местам. Все они так или иначе вытекают из двоякого закона, требующего приспособления этого односложного форшлага* к особенной форме слова, с одной стороны, и к нуждам внутрисловесного единства – с другой; некоторые из удвоений служат притом для обозначения определенных грамматических форм. Характер приспособления временами достигает такой изощренности, что слог, призванный, собственно, предшествовать слову, раскалывает его и встает между его начальным гласным и конечным согласным – возможно, из-за того, что удваиваемые формы требуют еще и второго форшлага в виде аугмента, а перед корнями, начинающимися с гласного, обозначить различие между этими слогами-форшлагами было бы затруднительно. Греческий язык, где аугмент и удвоение в подобных случаях обычно действительно сливаются в augmentumtemporale, для достижения той же цели тоже развил некоторые сходные формы [54]54
В одном докладе, прочитанном мною во Французской академии наук в 1828 г. („О родстве греческого плюсквамперфекта, редуплицированного аориста и аттического перфекта с одним способом образования времени в санскрите"), я подробно разобрал сходства и различия двух языков в том, что касается названных форм, и попытался вывести последние из их исходных оснований.
[Закрыть]. Здесь мы видим замечательный пример того, как, повинуясь подвижному и живому артикуляционному чувству, звукообразование прокладывает себе особенные и, казалось бы, причудливые пути, чтобы не отстать от внутренней организующей деятельности языкового чувства ни в одном из его движений и сделать осязаемым каждое.
Интенция прочной связи слова со своим форшлагом выражается в санскрите у консонантных корней тем, что гласная удвоения становится краткой даже при долгой корневой гласной, и, таким образом, слово фонетически перевешивает свой форшлаг. Два исключения из этого правила сокращения гласной, единственные в языке, имеют опять-таки особенное, экстраординарное основание: у интенсивных глаголов – необходимость указать их усиление, у многообразного претерита каузативных глаголов – уравновесить по требованиям эвфонии повторяемый гласный с гласным корня. У корней, начинающихся с гласного, в случаях, когда удвоение выражается удлинением начального гласного, фонетически перевешивает начальный слог, который способствует тем самым – подобно тому, как мы видели это у гуны, – более тесной связи остальных плотно примыкающих к нему слогов. В большинстве случаев удвоение служит реальной приметой определенных грамматических форм или же характерной для них фонетической модификацией. Только у небольшого числа глаголов (у глаголов третьего класса) оно является неотъемлемой частью самого слова. Но и здесь, как в случае с гуной, напрашивается догадка, что в какую-то раннюю эпоху языка можно было спрягать глаголы как с удвоением, так и без него, не вызывая при этом никакого изменения ни в формах спряжения, ни в значении. В самом деле, аугментный претерит и многообразный претерит некоторых глаголов третьего класса различаются между собой только наличием или отсутствием удвоения. Равноценность этих параллельных форм представляется еще более естественной, чем в случае форм с гуной или без гуны. Ведь фонетическое усиление высказывания с помощью повтора первоначально вызывалось просто живостью индивидуального чувства и потому, даже становясь более универсальным и упорядоченным, легко могло подать повод для колеблющегося употребления.
1 Аугмент, в качестве указателя прошедшего времени родственный удвоению, у корней с начальным гласным тоже применяется для упрочения единства слова, обнаруживая в этой своей роли примечательный контраст с тождественным ему по звуку форшлагом, указателем отрицания. В самом деле, если alphaprivativumне изменяется перед этими корнями благодаря вклиниванию промежуточного п, то аугмент сливается с их начальным гласным, уже Мим показывая предопределенную для него как для глагольной формы большую прочность связи. Больше того, он минует возникающую вследствие этого слияния ступень гуны и расширяется до вриддхи – явно потому, что чувство внутреннего единства слова готово придать этому начальному гласному, скрепляющему собой все слово, как можно больший перевес. Правда, в одной глагольной форме – в претерите с удвоением – у некоторых корней «И тоже встречаем вставное п; этот случай, однако, стоит в языке особняком, и присоединение аугмента все-таки связано с удлинением гласной форшлага.
, В распоряжении фонетически богатых языков имеется, кроме кратко перечисленных нами, еще ряд других средств, одинаково выражающих чувство потребности в придании слову органического строя, который соединял бы в себе внутреннюю полноту и благозвучие. В санскрите сюда можно отнести удлинение гласного, чередование гласных, переход гласного в полугласный, расширение последнего последующим полугласным до слога и в известном смысле – вставку носового звука, не говоря уже об изменениях, вызываемых общими законами языка у букв, соприкасающихся в середине слова. Во всех этих случаях окончательная форма звука вытекает как из устройства корня, так и из природы грамматических добавлений. Самостоятельность и устойчивость, родство, противоположность и относительная весомость отдельных букв проявляются то в изначальной гармонии, то в противоборстве, которое всегда прекрасно уравновешивается действием языкового чувства, придающего всему органичность. Еще отчетливее забота об образовании словесного целого дает о себе знать в законе компенсации, по которому усиление или ослабление, происшедшее в одной части слова, влечет за собой, для восстановления равновесия, противоположную перемену в другой его части. Здесь, при окончательном оформлении слова, качественные свойства букв уже не берутся в расчет. Языковое чувство выделяет лишь бестелесные количественные характеристики и обращается со словом, как в метрике, словно с ритмическим рядом. Санскрит содержит такие удивительные формы, какие нелегко встретить в других языках. Многообразный претерит каузативных глаголов (седьмое образование, по Боппу), оснащенный вместе и аугментом, и удвоением, представляет здесь пример, замечательный во всех отношениях. В словоформах данного типа за аугментом корней, начинающихся с согласной, – этот аугмент всегда краткий – непосредственно следует друг за другом повторяемый и корневой слоги, и язык старается придать гласным этих двух слогов определенное метрическое соотношение. За немногими исключениями, когда эти слоги звучат как пиррихий (ajagadam, uuuw
от gad'рассказывать') или как спондей (adadhradam, wwот
dhrad'опадать', 'вянуть'), они имеют либо восходящий размер ямба (adudusham, ww – wот dush'грешить', 'пребывать в пороке'), либо – что составляет большинство случаев – нисходящий размер трохея (achikalam,kj – kjkjот kal'бросать', 'запускать'), редко предоставляя произношению право выбирать между тем и другим из этих двух метрических типов. Стоит, однако, вглядеться в количественные соотношения этих форм, на первый взгляд очень запутанные, как мы обнаружим, что язык следует здесь крайне простому методу. А именно – решив внести какое-либо изменение в корневой слог, он применяет элементарный закон фонетической компенсации. В самом деле, предприняв сокращение корневого слога, он восстанавливает равновесие простым удлинением повторяемого слога, благодаря чему возникает тот трохеический понижаю– щнйся piivM, который доставляет здесь языку, по-видимому, особенное удовлетворение. Изменение количества корневою слога', казалось бы, нарушает более важный закон, требующий сохранения слога основы. Тщательное разыскание убеждает, однако, что ничего подобного не происходит. Все эти претериты образуются не из первичных, а из грамматически уже измененных каузативных корней. Укороченная долгота поэтому присуща, как правило, лишь каузативным корням. Натолкнувшись в этих своих формированиях на первичную Долготу основы или на такой же долгий дифтонг, язык отказывается от своего намерения, оставляет корневой слог без изменения и уже не удлиняет слог удвоения, который и по общему правилу краток. Эта трудность, противостоящая той практике, которая предназначалась для этих форм, обусловила преобладание ямба, представляющего собой природное, неизмененное соотношение количеств. Учитывает язык и случаи, когда долгота слога происходит не от природы гласного, а от его положения перед двумя согласными кряду. Язык не громоздит тогда новых долгот и потому даже в трохеически понижающемся размере перед двумя начальными согласными корня оставляет гласный повтора, как он есть, не удлиняя его. Любопытно, что и собственно малайский язык, проявляя ту же заботу о сохранении единства слова и обращаясь с последним как с гармонической звуковой цельностью, тоже пользуется перестановкой количества в корневых слогах. Приведенные санскритские формы при своей слоговой полноте и гармоничности – ярчайшие примеры того, во что язык может развернуть свои односложные корни, когда он с богатым алфавитом сочетает четкую звуковую систему, благодаря изощренности слуха учитывающую тончайшие дфизвуки букв, и когда ко всему этому добавляются расширение формы и внутреннее изменение, тоже подчиняющиеся определенным правилам, многообразные грамматические основания которых тщательно разграничены
Средства обозначения словесного единства. Акцентуация
28. Третий способ закрепления словесного единства, акцентуа– по самой своей природе одинаково присущ всем языкам, хотя М мертвых языках место ударения нам известно только там, где |р5еглое произношение зафиксировано понятными нам знаками, вообще говоря, в слоге можно различать три фонетических свой-
Жва: специфическое значение входящих в него звуков, меру време– «—
1 Сказанное здесь мною о претеритных формах каузативных глаголов – иы– жка из подробного исследования об этой временной форме, подготовленного,0Ю уже несколько лет назад. Я проследил в нем все корни санскритского гла– W, руководствуясь превосходно отвечающей этим целям „Грамматикой" Фор– "ра, попытался возвести различные образования к их причинам, а также отме– 7 отдельные исключения. Работа, однако, осталась ненапечатанной, так как, е показалось, что столь специальное разыскание об очень редко встречающихся рмах заинтересует лишь немногих читателей.
ни, то есть долготу, и ударение. Два первых определяются природой самого слога и составляют как бы его телесный облик; в отличие от них ударение (под которым я везде здесь понимаю тон речи, а не метрический арсис) зависит от свободы говорящего, являет собой некую частицу силы, непосредственно вкладываемой говорящим в звуки, и подобен веянию духа, наполняющему слог извне. Принцип акцентуации, как бы превосходя по своей одухотворенности даже сам язык в его материальном аспекте, возвышается (schwebt) над речью как непосредственное выражение той значимости, которую говорящий хочет придать своей речи и ее отдельным частям. Взятый сам по себе, каждый слог способен принять ударение. Но когда из нескольких слогов только один действительно выделяется по тону, ударение непосредственно сопровождающих его других слогов тем самым снимается (кроме случаев, когда говорящий подчеркивает еще и слог, предшествующий ударному), и этим снятием создается связь между ударными, а значит, господствующими, и потерявшими ударение, а значит, подчиненными, слогами. Оба эти явления – снятие ударения и связь между слогами – обусловливают друг друга, и одно из них непосредственно и естественно влечет за собой другое. Так возникают акцентуация слова (Wortaccent) и создаваемое ею словесное единство (Worteinheit). Никакое самостоятельное слово немыслимо без ударения, и никакое слово не может иметь больше одного главного ударения. Имея их два, оно распалось бы на две самостоятельные единицы и превратилось бы в два слова. Зато в одном и том же слове могут быть, конечно, вторичные ударения, вызванные либо его ритмическим устройством, либо необходимостью подчеркнуть нюансы значения [55]55
Так называемые безударные слова греческого языка, как мне кажется, не противоречат этим утверждениям. Но меня увеЛа бы слишком далеко от темы попытка доказать, что чаще всего слоги этих слов предшествуют ударению последующего слова и примыкают к нему спереди; в позициях, где их безударность нельзя объяснить таким образом (как oix у Софокла – „Oedipus Rex.", v. 334–336, ed. Brunckii), они, скорее всего, произносились с небольшим ударением, которое, однако, не отмечалось на письме. Латинские грамматики ясно говорят, что каждое слово может иметь только одно главное ударение (Cicero. Orator, 18: natura, quasi modularetur hominum orationem, in omni verbo posuit acutam vocem nec una plus 'природа, как бы упорядочивая человеческую речь, вложила в каждое слово острое ударение, причем не более одного'). Греческие грамматики считают ударение вообще свойством скорее слога, чем слова. Мне неизвестно ни одного места в их сочинениях, где акцентуационное единство слова выдвигалось бы в качестве общего правила. Возможно, их ввели в заблуждение случаи, когда одно и то же слово из-за следующей за ним энклитики получает два знака ударения; они не учли, что ударение, принадлежащее примыкающему слову, всегда вторично и ослабленно. Впрочем, и у греков не вполне отсутствуют определенные указания на необходимость единства словесного ударения. Так, Аркадий (jiepl xovwv, ed. Barkeri, p. 190) говорит об Аристофане: tov |jiv o^uv tovov ev anavti [ispei xaOapw tovou аяа| aK'ecn&ai 6oxipcicKxg'on считал, что ь каждой чистой части речи острое ударение должно выступать только один раз',
[Закрыть].
Ударение больше другой области языка подвержено двум влияниям: влиянию смысла речи, с одной стороны, и метрических свойств звука – с другой. Первоначально и в своем истинном виде оно бесспорно является порождением первого. Однако чем больше
внимания языковое чувство народа уделяет ритмической и музыкальной красоте речи, тем больше оно позволяет своей новой потребности влиять на ударение. Кроме того, в страсти к ударению (Betonungstrieb), если можно так выразиться, заключено нечто гораздо большее, чем просто желание подчеркнуть нужный смысл. Здесь совершенно исключительным образом выражается инстинктивное стремление сверх всякой меры необходимости подчеркнуть интеллектуальную силу мысли и ее частей. Ни в одном языке это не очевидно так, как в английском, где ударение сплошь да рядом увлекает за собой и изменяет не только меру долготы, но даже собственную природу слогов. Было бы величайшей несправедливостью приписывать это недостатку чувства гармонии. Напротив, здесь действует присущая английскому национальному характеру интеллектуальная энергия, которая проявляется то в стремительной ре-, цшмости мысли, то в важной торжественности, стремящаяся также и в произношении обозначить предпочтительно перед другими элемент, выделяющийся по смыслу. Из взаимодействия этой особенности с законами благозвучия, нередко достигающими большой чистоты и строгости, возникает строй английского слова, поистине удивительный в том, что касается ударения и произношения. Не будь потребность в сильном ударении и четком различении его нюансов столь глубоко укоренена в английском характере, одной популярностью публичного красноречия было бы трудно объяснить то большое внимание, которое столь очевидным образом уделяется в Англии этой области языка. Если все другие области последнего связаны больше с интеллектуальными особенностями наций, то ударение состоит в более близком и интимном родстве с национальным характером.
В связной речи бывают случаи, когда менее весомые слова присоединяются к более весомым с помощью ударения, не сливаясь, однако, в одно целое с ними. Это – состояние примыкания, греческое lyx^iaig. Менее весомое слово утрачивает тогда свою независимость, хотя и сохраняет самостоятельность в качестве отдельного элемента речи. Оно расстается с собственным ударением и попадает в сферу акцентуации более весомого слова. Если, однако, эта сфера благодаря такому приращению растягивается до противоречащей законам языка длины, то более весомое слово, получая второе ударение, превращает свой последний безударный слог в слог с острым ударением и тем самым присоединяет к себе менее весомое слово [56]56
Греческие грамматики называют это „пробуждением дремлющего в слоге ударения". Они пользуются также выражением „переход ударения" (.ivapipa£eiv t6v tcvov). Эта последняя метафора менее удачна. Вся система греческой акцентуации показывает, что реально здесь происходит то, что описано у нас выше.
[Закрыть]. Не допускается, впрочем, чтобы такое присоединение нарушало естественные границы слова; об этом ясно говорит характер энклитического ударения в некоторых особенных случаях. Когда два примыкающих слова следуют друг за другом, то второе уже не попадает, подобно первому, в акцентуационную сферу более весомого слова, а вместо этого первое из двух энклитических слов получает острое ударение, необходимое для присоединения второго. Таким образом, энклитическое слово не проглатывается в произношении, но считается настолько самостоятельным, что имеет право присоединять к себе другое. Сказанное еще более подтверждается тем, что особенное качество такого энклитического слова оказывает влияние на тип ударения. В самом деле, если из двух следующих друг за другом энклитик первая имеет облеченное ударение, то, поскольку облеченное ударение не может превратиться в острое, весь энклитический процесс прерывается и второй энклитике возвращается ее исконное ударение [57]57
Например, „Илиада", I, стих. 178: {leog яоо ool тбу' £6coxev.
[Закрыть]. Я привел эти частности только для того, чтобы показать, как старательно те нации, чье духовное развитие привело к отшлифовке очень высоких языковых форм, обозначают разные ступени словесного единства – вплоть до случаев, когда ни разделение, ни слияние не обнаруживают полноты и завершенности.
Система инкорпорирования
(Einverleibungssystem) в языках. Членение предложения
29а. Грамматически оформленное слово, которое мы до сих пор рассматривали в сочетании его элементов и в его единстве как нечто целое, призвано войти в предложение на правах опять-таки одного из элементов. Язык должен теперь образовать второе единство, более высокое, чем единство слова, – не просто потому, что оно больше по объему, но также и потому, что, не имея для себя никакого непосредственного звукового оформления, никаких непосредственных фонетических указателей, единство предложения почти исключительно зависит от упорядочивающей деятельности внутренней формы языкового чувства. Языки, которые, подобно санскриту, уже в самом словесном единстве содержат указание на связь слова с предложением, позволяют последнему распасться на части, в которых оно, в соответствии со своей природой, предстает перед рассудком; из этих частей они {языки] как бы выстраивают его {предложения] единство. Языки, которые, подобно китайскому, складывают предложение из жестких, неизменяемых корневых слов, поступают, собственно говоря, точно так же, причем даже в еще более строгом смысле, поскольку китайские слова выступают совершенно обособленными; однако здесь строить единство предложения помогают рассудку только нефонетические средства, как, например, место слов в предложении или особые, в свою очередь тоже изолированные слова. Если взять в сочетании оба эти способа, какими единство предложения фиксируется в понимании, то окажется, что есть еще и другой, противоположный им обоим способ, который нам здесь удобнее было бы считать третьим. Он заключается в том, чтобы рассматривать предложение вместе со всеми его необходимыми частями не как составленное из слов целое, а, по существу, как отдельное слово.
Если верно то, что говорящий всегда исходит из целого предложения – ас точки зрения истоков речи так считать было бы вернее, поскольку в намерении говорящего любое, даже самое неполное высказывание действительно составляет законченную мысль, – то языки, пользующиеся третьим названным у нас способом, вообще не разбивают единства предложения, но, наоборот, стараются по мере его формирования все теснее сплотить его. Они очевидным образом сдвигают со своих мест границы словесного единства, перенося их в область единства предложения. Таким образом – поскольку китайский язык дает чересчур слабое воплощение чувству единства предложения, – правильное разграничение между словесным единством и единством предложения живо лишь в подлинно флективных языках. И наоборот, языки только тогда доказывают, что флексия в ее истинном понимании пронизала все их существо, когда они, с одной стороны, доводят до совершенства форму словесного единства, а с другой – не дают этому единству выйти за пределы своей области, дробят предложение на все части, какие ему необходимы, и только тогда снова строят из них единство. Поэтому флексия, словесное единство и членение предложения так тесно связаны между собой, что недоразвитость того или иного из этих трех соотносительных моментов всегда безошибочно свидетельствует об их общей неспособности проявиться в полноте своей чистой и незамутненной идеи. Три перечисленных подхода – тщательное оснащение слова грамматическими указателями его связей внутри предложения; вполне косвенное, причем большей частью нефонетическое, обозначение этих связей; наконец, тесное сплочение всего предложения, насколько это только возможно, в единую, слитно выговариваемую форму – исчерпывают все способы, какими языки соединяют слова в предложение. В большинстве языков можно обнаружить более или менее отчетливые следы всех трех методов. Но иногда один из этих методов явно преобладает, становясь средоточием языкового организма и с более или менее строгой последовательностью подчиняя себе все его части. В качестве примера решающего преобладания: какого-то одного из трех методов можно назвать санскрит, китайский и, как я сейчас покажу, мексиканский язык.
Этот последний стремясь сплотить простое предложение в единую, фонетически связную форму, выделяет в качестве его истинного средоточия глагол, присоединяет к нему по мере возможности все управляющие и управляемые части предложения и с помощью фонетического оформления придает этому сочетанию вид связного целого:
12 313 2
ni-naca-qua'я см мясо'
Такой союз субстантива с глаголом можно было бы принять за составной глагол наподобие греческого хршсраузсо, но мексиканский язык понимает все явно иначе. В самом деле, когда по какой-либо причине само по себе существительное не инкорпорируется, оно заменяется местоимением третьего лица, отчетливо показывающим, что язык требует при глаголе и внутри глагола сразу всей конструкции предложения по общей схеме:
1234513245
ni-c-quainnacatl'я ем его это мясо'
Все предложение в том, что касается его формы, должно предстать завершенным уже в глаголе, и дальнейшие уточнения входят в него лишь задним числом наподобие предложений. По мексиканским представлениям, глагол вообще немыслим без восполняющих его сопутствующих определений. Если объект действия не определен, язык привязывает к глаголу особое неопределенное местоимение, имеющее две формы – личную и предметную:
123 1321234143 2
ni-tla-qua'я ем что-то'; ni-te-tla-rnaca'я даю нечто кому-то'.
Язык недвусмысленнейшим образом обнаруживает свое намерение представить эти сочетания как одно целое. В самом деле, когда такой глагол, охватывающий собою все предложение или как бы его схему, переводится в прошедшее время, получая соответственно аугмент о, последний ставится в начало глагольного сочетания, и это ясно показывает, что сопутствующая глаголу схема предложения всегда и с необходимостью принадлежит глаголу, аугмент же добавляется только привходящим образом как указатель прошедшего времени. Так, перфектом от ni-nemi'я живу', не присоединяющего к себе в качестве непереходного глагола никаких других местоимений,
будет o-ni-neii'я пожил', перфектом от гласа 'давать' —o-ni-p-te– щаса-с 'я кому-то дал это'. Еще важнее, однако, то, что у слов, применяемых для инкорпорирования, язык тщательно различает две формы – абсолютную и инкорпорируемую; это предусмотрительное различение, без которого весь метод инкорпорации оказался бы затруднителен для понимания, надо рассматривать как его основу. Имена при инкорпорировании, как и в составе сложных слов, утрачивают окончания, которые в абсолютной форме всегда сопутствуют им в качестве именных характеристик. Слово 'мясо', которое при инкорпорировании мы встретили выше в форме паса, имеет абсолютную форму nacatlх. Из числа инкорпорируемых местоимений ни одно не сохраняет ту же форму при обособленном употреблении. Оба вышеназванных неопределенных местоимения вообще не имеюг в языке абсолютной формы. Местоимения, относящиеся к определенному объекту, выступают в виде, более или менее отличном от их самостоятельной формы. Из нашего описания этого метода само собой ясно, что инкорпорируемых местоименных форм должно быть две – одна для управляющего и другая для управляемого место-; имения. В целях особого подчеркивания смысла перед этими формами могут, правда, выступать самостоятельные личные местоимения, но относящиеся к ним инкорпорированные формы тем не менее остаются на своих местах. Подлежащее, выраженное особым словом, не инкорпорируется, но его наличие отражается формально таким образом, что управляющее местоимение, указывающее на это имя, в третьем лице отсутствует.
Если подытожить разнообразные способы, какими может быть осмыслен синтаксис всякого, даже простого, предложения, то мы сразу увидим, что система строгого инкорпорирования не может быть проведена по всем мыслимым случаям. Поэтому часто за пределы формы, которая не может охватить все, приходится выводить понятия, заключенные в отдельных словах. Язык, однако, продолжает идти однажды избранным путем и, столкнувшись с трудностями, изобретает новые искусственные вспомогательные средства. Например, если что-то должно быть совершено по отношению к третьему лицу, для него или против него, так что определенное управляемое местоимение, обозначая два разных объекта, могло бы вызвать двусмысленность, то язык образует особый род глаголов, прибавляя к ним окончания, а в остальном ведет себя как обычно. Вся схема предложения опять же содержится в связанной форме, указание на предмет действия содержится в управляемом местоимении, отнесенность к третьему лицу – в окончании, так что говорящий может теперь без всякой путаницы в смысле ставить друг за другом оба объекта, не снабжая их указателями отношения: chihua'делать'; chihui-lia'делать для или против кого-либо' (с изменением а в iпо закону ассимиляции).
123 4567 8 9
ni-c-chihui-liainno-piltzinсе calli123 45 6 789 'я это делаю для этого моего сына один дом'.
Мексиканский метод инкорпорации свидетельствует о верном восприятии предложения, поскольку указатели синтаксических отношений присоединяются непосредственно к глаголу, то есть к тому средоточию, вокруг которого складывается единство предложения. Здесь можно видеть существенное и выгодное отличие от китайского строя с его отсутствием указателей, когда глагол опознается с достаточной определенностью даже не по положению, а лишь содержательно, по своему значению. Однако в тех частях более сложных предложений, которые находятся вне сферы глагола, мексиканский снова вполне уподобляется китайскому, потому что, растратив всю свою заботу об указателях на глагол, он оставляет имя совершенно несклоняемым. С поведением (Verfahren) санскрита мексиканский тоже сближается в той мере, в какой он реально указывает нить, скрепляющую части предложения; в остальном его противоположность санскриту бросается в глаза. Последний самым простым и естественным образом маркирует каждое слово как составную часть предложения. Инкорпорирующий метод, наоборот, или сцепляет все в подобие единого слова, или, если не может этого сделать, снабжает средоточие (Mittelpunkt) предложения указателями – как бы стрелочками, намечающими направление, в каком надлежит отыскивать отдельные части предложения в их отношении к целому. От поисков и угадываний мы не избавляемся, а некоторые особенности такого метода указывания даже отбрасывают нас назад, к противоположной системе полного отсутствия указателей. Но даже если инкорпорирующий строй в чем-то близок и флективному и изолируО– щему, он остался бы не понятым в своей природе, если мы захотели видеть здесь некое смешение двух последних принципов или слабость внутреннего языкового чувства, неспособного провести систему указывания по всем частям языка. Это не так, и в мексиканском строе предложения скрывается самобытный способ представления. Предложение должно здесь не конструироваться, не выстраиваться постепенно из своих частей, а сразу предъявляться как форма, запечатленная цельной и единой.
Если мы отважимся углубиться в ранние истоки языка, то увидим, что вначале человек в глубине своей души действительно связывает с каждым произносимым звуком языка полновесный смысл, то есть имеет в виду законченное предложение; с точки зрения своего намерения говорящий никогда не произносит отдельных слов, даже если, с нашей точки зрения, его высказывание односложно. Это, однако, еще не дает нам права представлять себе первоначальное отношение предложения к слову так, словно некая изначально данная, завершенная полнота задним числом через абстрагирующую деятельность рассудка разлагается затем на слова. Понимая образование речи наиболее естественным образом, то есть как последовательный процесс, мы должны видеть за ним, как за всяким природным становлением, систему эволюции (Evolutionssystem). Чувство, выражающее себя в звуке, содержит ростки всего, ро в самом по себе звуке проявляется не все сразу. Лишь по мере того, как чувство развивается до большей ясности, артикуляция достигает свободы и четкости; успех попыток взаимопонимания ободряет говорящих, и первоначально смутные и слитные части высказывания шаг за шагом светлеют и проявляются в отдельных звуках. Практика мексиканского обнаруживает определенное сходство с таким процессом. Сначала выставляется некое связное целое, которое с формальной стороны полно и самодовлеюще; то, что еще не достигло индивидуальной конкретности, выражается с помощью местоимения сначала как неопределенное нечто, но потом дорисовывается по отдельности все, Что оставалось неопределенным. Отсюда само собой делается ясным, как надлежит понимать то обстоятельство, что инкорпорируемые слова лишены окончаний, которыми они обладают в самостоятельной форме: реально в языке происходит не отбрасывание окончаний» угоду инкорпорированию, а, наоборот, добавление их в самостоятельном статусе слова. Не следует, однако, понимать мои слова в том превратном смысле, будто строение мексиканского предложения представляется мне более близким к ранним истокам языка, о Которых мы говорили выше. Приложение временных категорий к развитию такой самобытной человеческой способности, как язык, Великом укорененной в области неподотчетных, изначальных душевных сил, всегда сопряжено с большим риском. По всей видимости, мексиканский строй предложения есть уже весьма искусствен-. Ное образование, многократно перерабатывавшееся и удержавшее от _ Исконных форм только общий тип, а в остальном уже одним своим; регулярным разграничением между разными видами местоимения "Заставляющее думать о времени, когда начинают преобладать более отчетливые грамматические представления. По су ти дела, этот метод присоединения всех элементов предложения к глаголу уже достиг в своем гармоническом развитии не менее высокой ступени, чем система оформления словесного единства и глагольного спряжения с помощью суффиксов. Различие состоит лишь в том, что предложение, первоначально подобное нераспустившейся и замкнутой в себе почке, в мексиканском языке полностью развернулось в неразрывное связное целое, тогда как китайский предоставляет самому слушающему отыскивать взаимосвязь элементов, почти лишенную фонетических указателей, а более одухотворенный и смелый санскрит рассматривает каждую часть предложения сразу же в ее отношении к целому, наглядно и недвусмысленно обозначая это отношение.








