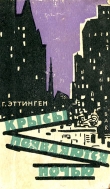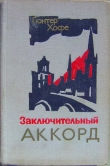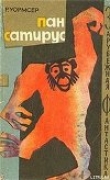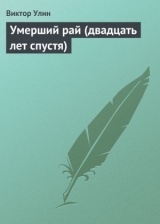
Текст книги "Умерший рай (двадцать лет спустя)"
Автор книги: Виктор Улин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Натуральный рынок
Как я уже писал, на стройотрядовскую куртку собирались значки всех посещенных городов. И, ясное дело, хотелось оставить память Варшавы тоже. Сейчас это смешно, но тогда значок заграничного города считался самоценным явлением.
Естественно, купить его я не мог. Польским злотым не откуда было взяться в моем кошельке. Да и немецкой валюты не осталось: зная, что в СССР ее все равно иметь нельзя, на Берлинском вокзале я потратил последнее. Оставив лишь несколько невесомых пфеннигов ради сувенира.
Но за две недели жизни в интернациональном лагере – именно две, потому что оставшееся время мы ездили по Германии – я успел узнать, что поляки страсть как любят продавать, покупать, торговаться и меняться.
Одна моя покойная знакомая утверждала всерьез, что в любой этнической группе есть «свои евреи» – то есть самая хитрая и деловая нация. Среднеазиатскими евреями она именовала узбеков. А среди славян еврейское место занимали поляки. В чем я убедился и сам.
Поэтому взяв открытку с видом Ленинграда и стройотрядовский значок – все это было набрано в большом количестве для раздачи и частично возвращалось назад – я подошел к газетному киоску.
– Пршепраше пани, – я начал своей коронной фразой, потом продолжил, ломая русский язык в стремлении сделать его похожим на польский и вставляя известные слова. – Я желаю иметь этот знАчек. Но не имею злотых. Маленький обмен? Картку на значек альбо значек на значек?
Картка киоскершу не заинтересовала. Значек показался более серьезным предложением.
– А кАкий знАчек? – не удержалась она.
Я протянул полячке стройотрядовский прямоугольник. Она повертела его так и сяк. Сомневаюсь, что он показался ей нужной вещью. Но выпустить его из рук она, вероятно, уже не могла. Поэтому оставила значок себе. А мне выдала блестящую голую женщину с мечом – выразительный символ Варшавы.
Я воткнул этот маленький желтый значок в лацкан своего великолепного костюма. И потом даже не стал перекалывать на куртку. Обнаженная воинственная Варшава, как ни странно, гармонировала с этим костюмом.
И я не расставался с нею, пока сам костюм не оказался выброшенным среди враз устаревших и сделавшихся ненужными вещей.
Куда делась она – я понятия не имею.
Так с возрастом смещаются ценности и блекнет цветной мир, постепенно становясь черно-белым…
Вступление в Рейх
Стояло невероятно раннее утро.
Часов пять или шесть, не больше.
Только что на какой-то пограничной станции нас проверил польский паспортный контроль, поставив отметку о выезде из Польши.
Утренний сон был прерван.
Другие храпели по купе, зная, что до следующих пограничников пройдет неопределенное время.
А я немного полежал на третьей полке: всегда, как кошка, я стремлюсь забраться повыше – и вылез в коридор.
Ослепительно сияло слепое утреннее солнце.
Я видел, что поезд медленно подтягивается к какому мосту.
«Odra», – прочитал я на польской табличке. И сразу вспомнил, что по этой реке идет польско-германская граница.
Поезд медленно втягивался в тускло сверкающие пролеты.
Над рекой стоял туман, в прогалах виднелась вода, горевшая ослепительно и тревожно. Поезд не спешил, каждое движение колес отдавалось среди мостовых ферм. Временами туман скрывал реку полностью, и тогда казалось, будто мы плывем над облакам.
Или, возможно, я спал на ходу. Ведь маловероятно, чтобы пограничная Одра оказалась столь широкой.
Но что-то неясное, слегка угрожающее и в то же время невыразимо манящее таилось в этой реке, спрятавшейся внизу.
Туман поднимался, охватывая собой мост. Пролеты его, перекрещенные балками, то казались абсолютно черными, то сверкали на солнце. Внизу расплавленным белым золотом вспыхивала далекая вода. Белые клубы, окутывая окружающий мир, позволяли видеть какие-то его фрагменты. Создавая совершенно нереальную, сюрреалистическую картину. И мне чудилась нечто доисторическое, даже не существовавшее в природе вещей.
Древнегерманская Валгалла, Один, Брунгильда, меч Зигфрида, летящие над землей Валькирии… Казалось, где-то далеко, в ватных клубах тумана, медленно звучала тяжелая вагнеровская музыка из «Гибели богов».
И вдруг почудилось, что я въезжаю не в Германскую Демократическую Республику, а в самый что ни на есть настоящий III Рейх.
Который не был уничтожен в сорок пятом году, а все годы существовал где-то параллельно и невидимо.
Словно сказочный град Китеж.
И лишь при моем появлении всплыл сквозь туман со дна реки.
Которая на том берегу называлась уже иначе:
«Oder».
Я понял, что мы уже на германской стороне.
И сейчас поезд остановится, прибыв во Франкфурт-на-Одере.
Подтверждая мои мысли, хлопнула дверь вагона, раздался стук сапог и послышались сладостные звуки немецкой речи.
Которая на капли не изменилась с тех пор…
Скорый поезд № 246 сообщения «Ленинград-Берлин» медленно вползал в Третий Рейх…
Язык Рильке и Кальтенбруннера
Существуют два привычных штампа относительно немецкого языка.
Во-первых, его именуют «языком Шиллера и Гете».
А во-вторых, традиционно считается, что в немецком «читается как пишется» – то есть нет сложностей произношения, характерных французскому или английскому языкам.
Я не согласен ни с тем, ни с другим.
К Шиллеру и Гете испытываю корпоративное уважение – как литератор к литераторам. Особенно ценю Гете, который был невероятно разносторонним человеком. Но само литературное творчество их мне чуждо.
Скорость обновления сознания слишком велика; немецкий романтизм сейчас кажется столь выспренним, надуманным и фальшивым, что те произведения невозможно читать, не ощущая глубокого внутреннего стыда за авторов – взрослых людей, всерьез писавших подобную галиматью.
Они кажутся смешными и нелепыми. Вероятно, это естественно для стиля XVII–XIX веков, когда литераторы неумеренно педалировали ощущения. И вместо простоты – которая в любые века является мерилом качества искусства – создавали супергероев и суперситуации. Которых никогда не могло существовать в реальной жизни. Весь этот неестественный заряд вспыхнул и сгорел. Оставив после себя кучку жалкого пепла.
Поймите меня правильно.
В моем низвержении литературы прошлых эпох нет огульности.
Я отнюдь не утверждаю, что лишь в ХХ веке она достигла расцвета. Есть вещи, написанные тысячи лет назад, но до сих пор волнующие душу своей непретенциозной простотой.
Вот например этот древнеримский гекзаметр, автора которого я, к сожалению, забыл:
И ненавижу ее, и люблю. Отчего же? – ты спросишь.
Сам я не знаю, но так чувствую я и томлюсь…
В двух строчках сконцентрирована великая истина и тайна любви. Сама тема, равно как ее изложение, кажутся современными даже сейчас.
Причем дело не в переводе: как ни преобразуй тех же Гете или Шиллера, их произведения остаются чрезмерными. Как германская же, только более позднего периода, мебель в стиле «бидермайер».
Литература романтизма имела строго ограниченный период жизни. Она могла существовать до тех пор, пока имелось достаточное количество романтиков. Бездельников, не имеющих внешних проблем и занятых внутренними переживаниями, громоздивших Монбланы придуманных чувств.
Но бог с ними.
А вот Райнер Мария Рильке – один из моих любимых поэтов. Не только немецких, он вообще. Он действительно близок мне. У него тоже порой звучат возвышенные и неестественно нагнетенные темы – но его стихи вызывают отзыв. Настолько сильный, что в один период своей жизни я даже переводил его на русский язык.
Наверное, стоило упомянуть Ремарка. При всей чрезмерной выраженности, однообразии тем, повторении сюжетов и сквозных персонажах – Ремарк высок и недосягаем, как Луна. Пусть его коллизии ушли в далекое прошлое, но я не стыжусь признаться, что сам родился и полностью созрел как писатель под влиянием Ремарка. Ранние мои произведения аттестовались критиками как перепевание Эриха Марии. Сейчас так уже не говорят, поскольку с возрастом я нашел свой стиль. Однако я сам постоянно чувствую дыхание Ремарка у своего плеча и знаю, что все мои вещи пронизаны памятью о его героях. Потому что его главная тема – любовь в экстремальных условиях жизни – невероятно мне близка.
Вот только я сомневаюсь в том, что Ремарк был именно немцем.
Всем известна невыразимая скукота стиля таких признанных немецких писателей, как Томас и Генрих Манны. И даже авторы ХХ века, вроде Анны Зегерс, навевают зевоту тяжестью своих нудных текстов.
Совсем иное – Лион Фейхтвангер. В его вещах ощущается живое дыхание людей. Но Фейхтвангер был не немцем, а германским евреем. И у меня есть подозрения, что Ремарк тоже имел какую-то еврейскую часть. Слишком уж отличается его живой, стремительный стиль от унылой немецкой прозы.
Но почему я привел Кальтенбруннера?
Просто без него тоже не обойтись.
Потому что из песни не выкинешь слова; и неизвестно сколько еще лет немецкий язык будет ассоциироваться не только с чеканными стихами романтиков – но и с ревом маршей под аккомпанемент кованых сапог. И с отрывистыми командами на расстрел.
Но вы, читатель, возможно, не представляете, о ком я веду речь?
Придется пояснить.
Эрнст Кальтенбруннер, правая рука Генриха Гиммлера (рейхсфюрера СС, руководившего всеми спецслужбами Рейха) был одним из главных карателей фашистского режима. Сначала шефом СД – «Sichercheits Dienst», особой «Службы безопасности». Потом сделался заместителем, а затем и начальником Главного управления имперской безопасности. Того страшного «немецкого НКВД», где трудился выдуманный Штирлиц.
Рильке – немецкая сентиментальная, наивная но вечно милая туманность.
А Кальтенбруннер, один из главных военных преступников, повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала – немецкая брутальность.
Два носителя одного языка, без которых он немыслим.
Точнее, сейчас уже скорее мыслим без первого, нежели без второго.
Ведь до сих пор немецкая речь у большинства европейских народов ассоциируется именно с фашистами.
А при слове «Германия» само сознание автоматически подсказывает: «Гитлер»…
Вот когда человечество забудет о том, кем были Гиммлер, Мюллер, Кальтенбруннер и Эйхман – вот тогда…
Тогда можно будет считать, что язва фашизма полностью зарубцевалась и отпала, не оставив следа.
И вид homo sapiens наконец излечился от последствий своей коричневой болезни – в тысячу раз более страшной, чем чума, проказа и сибирская язва вместе взятые.
Хотя лично я в это верю с трудом.
Но была и другая Германия…
Это цитата из замечательного фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».
Сейчас, наверное, уже мало кто его помнит, но в свое время двухсерийная документальная кинокартина пользовалась огромный успехом. Я сам, сомнамбулически влюбленный во все немецкое и одновременно ненавидевший фашистов – возможно и такое сочетание – смотрел его раз десять.
Подобно моим документальным повестям, фильм был разбит на отдельные части, каждая из которых имела свое название.
И вот, после нескольких глав, демонстрирующих расцвет фашизма во всей красе…
Где грохотали буйные парады Вермахта перед окаменевшим на трибуне Гитлером (правая рука вскинута, левая на пряжке ремня), перемежались кадры ураганных бомбежек и сделанных ими разрушений, уходили к горизонту аллеи виселиц и рвы с трупами…
После всего этого живописания диктор произнес следующее название. Идущее резким контрастом со всем предыдущим материалом:
– Но была и другая Германия…
И поведал зрителю о Германии Эрнста Тельмана и Софи Шолль, Харро Шульце-Бойзена и Клауса фон Штауффенберга…
Я не буду пояснять вам, кто были эти замечательные мужественные люди, перед светлой памятью которых до сих пор хочется склонить голову. Несмотря на то, что все их подвиги остались комариными укусами и в конечном итоге приводили только к укреплению гитлеровского режима.
Именно так – исторически обоснованно.
Антифашизм внутри самой Германии был бесполезен и заранее обречен. Как априорно бессмысленны любые попытки свержения тиранического режима изнутри, если он достиг могущества гитлеризма в Германии.
Или сталинизма в России.
Один из великих нейтральных гуманистов ХХ века – кажется, Джавахарлал Неру – анализировал две тирании, равных которым не имелось в мире. В сравнении своем он склонялся к тому, что фашизм Гитлера носит более антигуманный характер, нежели большевизм Сталина, хотя оба режима имели много общих черт.
Мудрый индус видел разницу в основных концепциях. При всей жестокости режим коммунистов базировался на прогрессивной идее равенства трудящихся. А фашизм основывался на изначально античеловеческом тезисе о превосходстве арийской расы над всеми прочими. То есть делил людей на сорта согласно факту рождения.
Из разницы концепций вытекало различие внешних проявлений.
Сталин безжалостно истреблял соотечественников, создавая из граждан СССР армию рабов – ибо лишь рабский труд мог содержать страну в условиях игнорирования экономических законов.
Гитлер поступал наоборот. Свою нацию он холил и лелеял, завоевывал новые жизненные пространства. Прежде, чем ввязаться в проигрышную восточную кампанию он успел поднять экономику Германии на несколько порядков. И в самом деле кардинально улучшил жизнь рядовых немцев.
Правда, потом за это расплачивались другие народы Европы. Потому что иначе быть просто не могло: разоренная Первой мировой войной Германия – равно как измочаленная революцией Россия – принципиально не имела внутренних ресурсов для бескровного оживления.
Лучшие люди нации видели, чудовищные зверства, творимые фашизмом во имя Третьего Рейха и пытались их остановить. Не для себя – для человечества.
При этом я не могу не отметить с горечью, что в отличие от немцев, русские так и не поднялись на борьбу против уничтожавшего их Сталинского режима. Поскольку наш народ всегда останется быдлом, понимающим лишь язык кнута и сапога. На протяжении всей Эпохи русские безропотно хранили под кроватями чемоданчики с бельем и сухарями на случай ареста, потом столь же безропотно шли в тюрьму и тихо умирали в лагерях, сгнивали на лесоповале, сгорали на великих стройках коммунизма.
Почти никто не бежал. И не стремился вырваться за границу.
В этом отношении немцы вызывают у меня куда больше уважения, нежели собственная нация.
За историю Третьего Рейха на Гитлера, если не ошибаюсь, было совершено 42 покушения.
(Отмечу еще раз, что на Сталина – ни одного…)
Причем самый чувствительный удар нанесли фюреру отнюдь не коммунисты. И даже не социалисты. А сила, которой была вроде бы выгодна милитаризованная экономика Третьего Рейха: высший генералитет, немецкая военная аристократия.
Очень драматическим кажется последний, самый мощный, хоть и неудачный, как все, заговор. Генералы – настоящие военные генералы, а не зеленые СС с черепами на фуражках – не желали продолжать быть убийцами. Они видели, в какую пучину преступлений затянул армию Гитлер, и пытались покончить со своим фюрером. Чтобы взять командование в свои руки, уничтожить СС и свернуть войну. Пока русские танки еще не пересекли границ, пока потрясенное человечество не стерло Германию в порошок.
20 июля 1944 года один из руководителей заговора, отпрыск старинного военного клана, потерявший на Восточном фронте глаз и руку – полковник граф Клаус Шенк фон Штауффенберг взорвал бомбу на совещании рядом с Гитлером. Однако усатому безумцу повезло: словно что-то предчувствуя, он перенес совещание из глухого бункера – где даже взрыв простой гранаты превратил бы все в кровавую кашу – в легкий барак. К тому же взрывная волна опрокинула дубовый стол, прикрыв им фюрера, как щитом.
Правда, после этого покушения у Гитлера стала трястись голова и онемела правая рука, что не прошло уже до самой кончины. И вообще он словно обезумел, в его действиях на фронтах уже не виделось никакой логики.
Естественно, что все участники заговора были жестоко казнены. Шефа военной разведки адмирала Канариса Гитлер повесил в железном ошейнике, чтобы продлить агонию. Кому-то рубили головы, воссоздав копию позорного изобретения французского доктора Гильотена. Кого-то из-за нехватки веревок вешали на рояльных струнах. Гитлер уничтожил всех, кто хоть каким-то образом оказывался в поле заговора.
И еще десять месяцев продолжал топить страну в кровавой бездне.
Но все-таки она была – эта другая Германия.
Drum links, zwei, drei!
Я вспомнил «Обыкновенный фашизм» не для того, чтобы просветить вас в истории антигитлеровских заговоров.
Сам фильм пришел не случайно.
В главе про «другую Германию» фоном шла музыка.
Замечательная, мужественная, напряженная и неимоверно экспрессивная тема знаменитого «Марша единства». Написанного Бертольдом Брехтом и исполнявшегося певцом-антифашистом Эрнстом Бушем.
Музыка эта настолько сильна, что произведение можно поставить в ряд с такими шедеврами Золотого фонда, как «Прощание славянки», «Священная война» или «Марш защитников Москвы».
Слушая ее, начинаешь терзать себя себе вопросом: почему?
Почему рабочий класс Германии, про который сочинялись такие песни, не дал отпора фашизму, которого ждали с 22 июня 1941 года наивно верующие советские люди?
Ведь на сером экране – или просто в моей иррациональной памяти – шли ряды суровых лиц с поднятыми кулаками.
Рот фронт – знак единства.
Знак веры в победу.
Но… победа не пришла. Было тихое угасание и превращение всей нации в фашистов…
Я думаю предмет этой песни столь же иллюзорен, как и вся коммунистическая атрибутика. Настоящего рабочего класса в Германии конца двадцатых – начала тридцатых годов просто не существовало.
Именно не существовало.
В стране, обессиленной только что проигранной войной, производство умерло. Военные заводы, составлявшие основу Германской промышленности, были закрыты согласно Веймарским соглашениям. Вчерашние рабочие превратились в мелких ремесленников или лавочников: каждому приходилось выживать. А между фабричным рабочим и кустарем, занимающимся тем же трудом – пропасть. Потому что рабочий имеет статус, относительно устойчивое положение и некоторую уверенность в завтрашнем дне. А ремесленник-индивидуал сомневается даже в сегодняшнем вечере.
Поэтому распавшийся рабочий класс так легко поддался уговорам Гитлера…
Впрочем, немецкие коммунисты, чьим приветствием был сжатый кулак, пытались сопротивляться. Их вожак Эрнст Тельман был бесстрашным человеком, перед чьей памятью я склоняю голову. И коммунисты Германии на решающем рубеже двадцатых годов, когда вслед за Россией по Европе прокатилась угасающая волна пролетарских революций, остервенело боролись за иное будущее своей страны.
(Я говорю именно про настоящих коммунистов, безвозвратно сгинувших под сапогами штурмовиков или в печах концлагерей. Те, что пришли после 1945 года – всяческие Вильгельмы Пики, Вальтеры Ульбрихты, Эрихи Хонеккеры и иже с ними – были советскими марионетками, худшими вариантами партийных краснобаев. Причем не несущими ни за что ответственности под бронированным крылом старшего брата. Эти дешевые пустобрехи во всех странах могли лишь трепать языками.)
Но, в отличие от России, не направленные еврейским умом, немецкие рабочие оказались способными лишь к рукопашным боям. В самом прямом смысле. На улицах и в пивных, чем попало: кружками, бутылками, железными прутами, кирпичами и даже снятыми с раненных рук протезами… И они дрались. Мужественно, бесстрашно и отчаянно. Куда более отчаянно, нежели в революционной России.
Но их была горстка по сравнению с массой штурмовых отрядов – предвестников идеологизированного фашизма. По некоторым данным, численность штурмовиков (в чьи ряды стекался всякий сброд, бандиты, уличные хулиганы и самое отпетое отребье всей Германии) в сорок раз превосходил численность германской армии. И эта сила – а не армия и тем более не полиция – с середины двадцатых годов фактически правила страной.
Коммунисты не отступили.
Они просто погибли.
А те рабочие, которые остались, были уже приверженцами фюрера. Так вышло.
Сейчас уже не каждый знает, что гитлеровская партия полностью именовалась «НСДАП» – «National Social Deutsche Arbeiter Partei». То есть «Германская национал-социалистическая рабочая партия». В отношении провозвестницы чаяний пролетариата своим именем эта партия давала сто очков вперед даже сталинской ВКП(б).
Разумеется, к настоящим рабочим НСДАП не имела отношения; это была партия лавочников и мелких хозяев, готовых громить и грабить весь мир.
Но название служило одним из демагогических ходов Адольфа Гитлера, обеспечившим дополнительные миллионы сочувствующих.
Впрочем, о вхождении Гитлера во власть я напишу позже.
А сейчас просто восхищаюсь железной музыкой и яростными словами Марша единства.
Он самоценен для меня вне зависимости от судьбы Германии.
Слова песни очень просты. Раз человек есть человек, то ему надо что-то кушать, и его не насытит пустая болтовня. В каждом куплете высказывается одна из подобных истин. А припев, могучий и ритмичный, я переложил на русский язык:
– Равняйсь, два, три!
Равняйсь, два, три!
Не забыл свое место, друг?
Ты рабочий сам, и единый фронт
Ждет твоих надежных рук!
Никакого реального могущества слова и звуки породить не могут. Но марш создает иллюзию силы. Поскольку бывают моменты жизни, когда иллюзия важнее реальности.
Подобно дню 7 сентября 2004 года, когда по городам России с утра ехали потоки машин с зажженными фарами. Это была акция протеста – точнее, символ единства людей доброй воли против терроризма. Я видел это и умом понимал, что демонстрацией террористов, конечно, не сломить. Что с отмороженными ублюдками должны сражаться обученные бойцы, которые пошлют десять автоматных очередей в лоб быстрее, чем я успею послать один раз по матери.
Но…
Но зрелище слепо сияющих машин казалось иррациональным и… действительно угрожающим. Словно были это не простые автомобили, не жалкие «шестерки» и пошарпанные «дэу», не желтые маршрутные «газели» – по улицам шла в наступление лавина танков. Готовых смести с лица земли тех, кто потерял право именоваться людьми…
И в ушах моих звенело, уже подзабытое, но вернувшееся с прежней яростной силой:
Drum links, zwei, drei!
Drum links zwei, drei!
Потому что это тоже был марш единства против зла.
А вспомнил я песню в исполнении бесстрашного Буша потому, что она имеет отношение поездке в Германию.
Зная мое умение играть на гитаре – среди других бойцов не нашлось другого, хотя сам я свою игру считаю скромной – мне поручили разучить какую-нибудь идеологическую песню.
И одна ленинградская знакомая, переводчица из «Интуриста», дала мне текст этого марша. И показала музыку на фортепиано.
Немецкого я тогда не знал. Слова просто вызубрил. И музыку тоже не вполне понял: исполняла она эту вещь все-таки по-женски.
Но по мере жизни в Германии язык прояснялся и я начинал понимать слова, которые наполнялись смыслом.
А потом сам собой всплыл отрывок из «Обыкновенного фашизма» – и я понял, что это за марш.
И уже осознанно, выбирая тревожную мелодию, играл:
– Und weil der Mensch ein Mensch ist,
Drum braucht er was zum essen, Bitte sehr.
Es macht ihn kein Geschwaetz nicht satt
Das schafft ihm kein Essen her.
Drum links, zwei, drei!
Drum links zwei, drei!
Wo dein Platze, Genosse ist?
Reih’ dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
Weil du auch ein Arbeiter bist!
Если честно, то выступить с этой песней в Германии мне по-настоящему так и не пришлось. Там первенствовали другие интересы.
Но язык марша оказался как раз моим немецким. И именно в нем раскрылась моя настоящая любовь к Германии.
Хотя миновало очень много лет, я не забыл того марша. Он живет во мне, как другие мужественные песни.
И на редких встречах друзей, когда градус подходит к нужному уровню, я забываю – точнее мне становится все равно – что окружающие не понимают немецкого.
Я встаю, крепко расставив ноги.
И гитара в моих руках тяжела и надежна, словно ручной пулемет.
И слова вылетают, как снаряды.
И каждый бьет не по квадрату, а летит точно в цель:
– Reih’ dich ein in die Ar-
beiter-
Ein-
heits-
Front,
Weil du auch ein
Ar-
bei-
ter bist!!!!!!!
И это – другая.
Моя Германия.