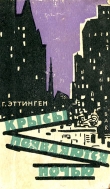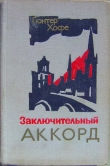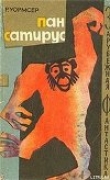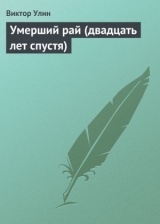
Текст книги "Умерший рай (двадцать лет спустя)"
Автор книги: Виктор Улин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Польша
Прости меня, читатель, что я опять отвлекаюсь.
Но взявшись за эту книгу, я невольно принялся оживлять в памяти историю. И обладая исключительной памятью на отдельные штрихи, искренне верю, что могу рассказать нечто любопытное.
Впрочем, если не интересно, то любую из отдельных глав можно пропустить. Я ведь специально излагаю материал в сильно фрагментированном виде.
Итак, Польша…
Сейчас мы уже с трудом вспоминаем собственную перестройку. Которая при свой бардачности совершила великое дело: уничтожила господство коммунистов и всякую возможность идеологического гнета вообще, предоставив нам внутреннюю свободу.
Другое дело, что Россия, судя по всему, к свободе непригодна. Однако этот сложный вопрос я не собираюсь здесь обсуждать.
Одновременно с развалом СССР происходили объединение Германий и «бархатные» революции в других странах бывшего социалистического содружества. Того самого «младшего братства» многие годы питаемого Коммунистической партией. Но во мгновение ока превратившееся в равнодушное капиталистическое окружение, куда сейчас не хватит денег съездить на курорт.
(Десятилетиями советский народ не видел качественных продуктов. Которые шли за рубеж, чтобы набить русским маслом глотки каких-нибудь чехов или югославов – в противном случае пытавшимся тявкать из американской подворотни.
С точки зрения общечеловеческой совести все нынешние государства-плевки, заполнившие карту Восточной Европы, находятся в неоплатном долгу перед Россией, сорок лет поившей и кормившей их за счет собственных граждан.
Впрочем, бог им судья; и я сильно надеюсь, что со временем судьба накажет их за все нашествием очередной партии вьетнамцев или турок.)
Но сейчас даже среди моих ровесников мало кто помнит, что началась перестройка не в СССР, а в Польше, причем на десять лет раньше.
Да, именно в середине семидесятых годов там начался развал социализма, стимулируемый католической церковью.
Я помню то время: поляки махом разогнали свою компартию и создали руководящий профсоюз под названием «Солидарность». Советский союз опасался за судьбу ближайшего социалистического соседа. Однако решить дело с помощью танков, как в 1968 году с ненасытными чехами, уже не осмелился.
Что делалось в самой Польше, оставалось секретом: лживые средства массовой информации СССР затуманивали картину. Но дела творились серьезные. Я был тогда молод и политикой не интересовался – как равнодушен к ней по сю пору. Но о многом можно судить по словам частушки восьмидесятых годов, посвященной самой животрепещущей для советского человека теме: повышению цен на водку.
Я приведу текст полностью в том варианте, который мне знаком:
Если водка станет восемь —
Все равно мы пить не бросим!
С Леонидом Ильичом
Нам и десять нипочем!
Если станет двадцать пять —
Будем снова Смольный брать!
Ну, а если станет больше —
То устроим то, что в Польше!
Обещание устроить родной партии «то, что в Польше», как видимо, звучало нешуточной угрозой. Поскольку в градации ответных действий находится выше, нежели даже «взятие Смольного».
Как понимаю я теперь взрослым взглядом человека, прошедшего через все это у себя на родине, тогдашняя Польша находилась примерно в том же состоянии, как сегодняшняя Россия.
В середине восьмидесятых СССР голодал; в Уфе много лет не видели мяса в магазинах, да и Ленинград оскудел в сравнении с первыми годами моей учебы.
Однако все-таки российские дети не попрошайничали на дорогах, старики не рылись по помойкам в поисках пищи, а из вокзальных туалетов не выносили умерших своей смертью бомжей. То есть тогда падение страны еще не дошло до той ужасной черты, на которой мы лежим сейчас.
А в Польше уже в те годы было именно так.
Потому что едва поезд отъехал от границы на некоторое расстояние, как снаружи возникли какие-то оборванные дети.
Я инстинктивно отпрянул от окна, ожидая града камней: что-что, а железнодорожное хулиганство в СССР всегда оставалось на должной высоте.
Но как оказалось, дети собрались не за этим.
По тому, как они бросились за яблочным огрызком, я понял, что они просят милостыню.
Специально сбегаются к заграничному поезду, везущему сквозь умирающую Польшу богатых иностранцев и ждут, чтобы им бросили денег.
Зрелище побирающихся детей – ставшее сегодня обыденным на любом большом уфимском перекрестке – тогда произвело на меня тяжелое впечатление.
И я постарался поскорее его забыть. Ведь я не мог представить, что скоро и у нас станет так же. И даже хуже.
А Польша била по глазам каждой своей черточкой, удивительной для СССР.
Прежде всего поразило, что после границы привычные светофорные указатели сменились допотопными железнодорожными семафорами. Их я видел лишь в кино про старые времена.
Стоило пересечь границу СССР, как я сразу оказался в пяти– или даже шестидесятилетнем прошлом. Особо тягостное впечатление произвел Белосток: полуразваленный вокзал, разрушенные перроны, какие-то ржавые вагоны, брошенные колесные пары, тяжко чадящие паровозы.
И везде, словно символ остановившегося развития – именно так воспринимались нами прогрессивные перемены в Польше – опущенные руки семафоров, перегородившие путь. Запретившие дорогу куда бы то ни было…
Но все это я увидел чуть позже.
А пока за поездом бежали поля.
Напоминающие деревенские половики разномастностью своих узких полосок. Так показывали в документальных фильмах раздробленную землю царской России в противовес необъятным просторам колхозного СССР.
Там копошились какие-то грязные, оборванные люди.
Почти на каждой меже торчало маленькое, потемневшее до угольной черноты распятие. Или горбилась фигурка богоматери, украшенная ленточками и флажками.
И невольно – погружением уже на целый век назад звучал в ушах призрачный голос Вертинского:
– Тихо тянутся сонные дроги
И со скрипом ползут под откос.
И печально глядит на дороги
У колодца распятый Христос…
Неважно, что в той песне пелось про молдаванскую степь.
Сейчас вокруг меня проносилось то же самое. Пустота и нищета, которой не помогут ни распятые Христы, ни увитые выцветшими лентами богородицы.
И бедность, и грязь, и тоска.
Позже, в Германии, я встречал поляков на каждом углу. Во всех городах: на площадях, около магазинов и вообще в любых местах, где собирались люди, всегда стояли ряды поляков, настойчиво трясущих своими тряпками и коробками.
Сейчас это напоминает российскую экономику начального периода рынка. Только если наши челноки ездили за рубеж за турецкими и китайскими тряпками для соотечественников – которые хоть и считались неимущими, но всегда имели кучу денег на покупку всякой дряни – то поляки не находили рынка сбыта на родине. И зарабатывали выездной торговлей. Что по сути дела одно и то же. Правда, чем именно они торговали, я так и не выяснил, всегда отличаясь полным равнодушием к вещам.
Помню также поляков из нашего интернационального общежития. Они были разные, некоторые оказались отличными ребятами. С одной маленькой полькой по имени Каша я подружился – рассказ о ней впереди. Но имелась пара парней, которых я старался избегать. Потому что при каждой встрече они начинали доканывать провокационными вопросами насчет, партии и своей «Солидарности». Зная о недремлющем ухе КГБ (хотя кто являлся стукачом конкретно в нашем отряде, я так и не понял), я старался не отвечать.
Как живет Польша сейчас? Бог знает. Я не собираюсь туда ехать; лучше за втрое меньшую сумму посетить Турцию, где в течение недели меня будут поить, кормить и сдувать пылинки с моего пути.
Русский размер
Напрасно вы устроились поудобнее, решив, что сейчас меня вновь понесло в розовато-сиреневый дымок эротических воспоминаний.
Писать я буду совсем не о том, что пришло вам на ум.
Под «русским размером» я подразумеваю именно конкретный русский размер – ширину полотна российских железных дорог.
Которая, как вам известно, сантиметров на пятнадцать больше, чем в Европе.
Вообще когда начинаешь думать о несовпадении общечеловечески важных стандартов в разных странах, то рождаются философские мысли.
Например, такая простая вещь, как телефон, практически везде имеет собственный вид разъема. До сих пор существуют различные бельгийский, немецкий и французский. Да и Россия только-только перешла с чудовищной вилки, которой можно убить слона, на массовый RJ12.
А метрические (то есть измеренные в миллиметрах) и дюймовые соединительные изделия, конгломерат которых возник при проникновении США на европейский рынок! Любой технически грамотный человек знает, что резьбовое изделие (неважно, болт или гайка) имеет два основных параметра: номер ключа (расстояние между плоскостями головки) и шаг резьбы. Сейчас существуют гайки и болты полностью метрические, полностью дюймовые, с дюймовой резьбой под метрический ключ, с метрической резьбой под ключ дюймовый… И если слесарю нужно подобрать выпавший болт к автомобилю американской марки, но европейской сборки, он немало поломает голову прежде, чем выяснит нужное сочетание дюймов и миллиметров.
Но вернемся к железной дороге.
Не будучи специалистом, я не знаю исторических причин, по которым в Россия выбрала ширину колеи, не согласующуюся с общеевропейской. Впрочем, странного в том не вижу: в России всегда все делалось не так, как в цивилизованных странах. И вообще через противоположное место.
Известно, что при захвате СССР гитлеровцы не страдали от широкой колеи: им требовалось лишь выдернуть костыли и перебить рельсы. А как обходились наши железнодорожники после советского вторжения в Германию? По каким рельсам, в частности, вывозились репарированные автозаводы и эшелоны с генеральским барахлом? Трудно сказать.
Знаю только еще одно несовпадение русского и немецкого размеров, которое, правда, шло нам на пользу.
Во время войны у нас на вооружении находилась 152-мм гаубица, у немцев – 150-мм гаубица-пушка.
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Ну все, мой милый и терпеливейший из читателей…
Вашего покорного слугу понесло.
Стоило только подумать об артиллерийских орудиях, как мысль опять скользнула в направлении, не имеющем отношения к развиваемой теме.
Вы можете пропустить и эту главу.
Но я артиллерийский офицер.
И говорить о пушках мне приятнее, нежели о женщинах.
Потому что женщины изменчивы, да и сама жизнь уже ускользает из моих рук.
А пушка – она железная.
И я до сих пор помню, как ее наводить, руководствуясь картой и таблицами артиллерийских стрельб.
Так что уж потерпите еще одно нелирическое отступление.
Прежде всего, вы наверняка не представляете разницы между двумя упомянутыми видами артиллерийских систем – пушкой и гаубицей.
Пушка предназначена для стрельбы на небольшие расстояния по настильными траекториям – то есть ее ствол не поднимается слишком высоко относительно линии горизонта – и допускает поражение видимых целей прямой наводкой. Когда видно, во что стрелять. Наводка производится через панорамный прицел – именно его всегда показывают в кино. Где артиллеристы громят вражеские танки.
Гаубица стреляет по навесным траекториям с возвышением до сорока пяти градусов. На дальние дистанции – до десятков километров – причем непрямой наводкой, то есть исходя из карты, ориентиров и таблицы. Прицел гаубицы иной, чем у пушки; он не позволяет вести огонь прямой наводкой: в его перекрестие невозможно поймать близкую цель. И в редких случаях, когда этим мощным орудиям приходилось бить по танкам, их нацеливали «по-пехотному». На просвет. Через ствол при открытом затворе.
Я очень люблю литературу про Великую Отечественную войну. Именно там была достигнута высшая степень расцвета вооружения, управляемого человеком, а не компьютером.
Одним из самых мощных по экспрессии мне кажется эпизод одного из романов покойного Василя Быкова. Кажется, «Восхождения», но я могу ошибаться. Там описан случай – вероятно, действительно имевший место в начале войны. Когда 203-мм гаубичный артполк был захвачен на марше немецким танковым корпусом. И орудиям, предназначенным для артподготовки, пришлось вести ближний оборонительный бой. Опустив стволы, артиллеристы целились именно на просвет. И неважно, что введение снаряда и ручное запирание цилиндрического затвора (на орудиях меньшего калибра стоит затвор клиновой; снаряд достаточно втолкнуть в казенник, и упавший клин сам замыкает его в каморе) требовало времени. Цели двигались, но наводка не требовала точности. Мощный 230-миллиметровый снаряд (обычные полевые пушки, стреляющие бронебойными, имеют трехдюймовый калибр, то есть около 76 мм) при любом попадании разносил танк даже не как орех, а как яичную скорлупу. Улетали на десятки метров снесенные башни, оторванные гусеницы свистели по воздуху, как бескрылые драконы, и тевтонские кишки повисали на придорожных деревьях.
Поскольку стрелять из гаубицы по танкам равносильно тому, чтобы давить таракана КАМАЗом.
Кроме гаубиц и пушек прежде существовала мортира – орудие, стрелявшее почти вертикально для переброса снарядов через крепостные стены. Некоторое время мортирами именовали пушки с коротким стволом, но к началу Великой Отечественной это название уже не употреблялось.
Гаубица-пушка – которую имели только немцы – является универсальным орудием. Потому что позволяет вести огонь по любым целям, на любые расстояния и любым методом наводки.
Калибр орудия – сложное понятие, и он определяется не диаметром снарядной болванки. На стальное тело снаряда насажены ведущие пояски из мягкой меди: их глубоко продавливают нарезы, обеспечивая герметичность ствола при выстреле. Из пушки можно стрелять снарядами чуть большего калибра: пояски сомнутся сильнее, но это ни на что не влияет. А снарядами чуть меньшего уже нельзя: произойдет прорыв пороховых газов и снаряд не получит нужной скорости.
Поэтому мы успешно использовали трофейные немецкие 150-мм орудия, заряжая их нашими 152-мм снарядами. Но не наоборот.
Я понимаю, что разговор об артиллерии неуместен в данной книге. Но все-таки позволю еще одну маленькую слабость: расскажу о понятии беглого огня.
Это слово сейчас в ходу. Есть американский фильм, название которого именно так переводится на русский. И не имеет никакого отношения к артиллерийскому термину.
«Беглый» огонь был изобретен русскими артиллеристами во время Первой мировой войны. Этот способ неимоверно упростил батарейную стрельбу.
Как вы представляете работу артиллерии в бою? Думаю, никак. Или считаете, что каждое орудие самостоятельно лупит куда взбредет.
Это примерно соответствует действительности, если отражается танковая атака.
Но при организованной обороне или артподготовке наступления все строго упорядочено.
Четыре пушки объединены в батарею, имеющую свой участок обстрела.
Часто орудия вынуждены стрелять непрямой наводкой – то есть не видя цель. Прицелы смещаются так, если поймать в перекрестие купол церкви на пригорке, то снаряды точно покроют участок дороги, скрытой рощицей метрах в трехстах левее и ближе. Ясное дело, что для этого местность должна быть заранее пристреляна болванками – «весовыми макетами» снарядов и точно размечена на карте.
Сама батарея прячется в лощине. Ее не видят атакующие и артиллеристы тоже не видят врага. Стреляют вслепую – по ориентиру, которым служит церковь.
Командир батареи, находится где-нибудь на возвышении. Он единственный видит и пристрелянный участок и наступающую пехоту врага. И в нужный момент подает команду – Первое орудие – огонь! Второе орудие – огонь!..
И так далее. До четвертого. Потому что требуется как можно быстрее засыпать снарядами нужную площадь, пока движущийся враг находится в ее пределах.
Как происходит орудийный выстрел? Наводчик отклоняется от прицела – чтобы не получить удар в лоб – и нажимает спусковой рычаг. Или отбегает и дергает за веревочку. Орудие стреляет, с воем летит снаряд, грохочет накатник – устройство, противодействующее отбрасыванию лафета назад – со звоном падает пустая гильза и все окутывается пороховым дымом.
После первой команды расчету уже практически ничего не слышно.
Оценив это, кто-то из русских артиллеристов решил упростить процесс стрельбы по площадям. Командир командует:
– Батарея, беглым – огонь!
По этой команде стреляет первое орудие. После первого – второе. Следом третье. К выстрелу четвертого первое снова заряжено и готово к бою.
Вот что такое «беглый огонь». Море орудийного огня – лавина, срывающаяся после взмаха руки.
Впрочем, на войне я не буду командиром батареи. И даже командиром орудия. Мне предстоит командовать пусковой установкой оперативно-тактической ракеты дальностью 300 км. Это машина смертников, система одноразового действия: после первого же пуска установка будет засечена и уничтожена самонаводящейся ракетой.
Однако я не собираюсь воевать.
Потому что в нашем паскудном времени воевать мне просто не за что.
Но отвлечемся от орудий – и вернемся наконец к поезду.
Русский стандарт
Я знал, что проблема колеи существует, но до поездки в Германию понятия не имел о ее решении.
Вначале я думал, что до границы мы доедем на одном поезде, а там вынуждены будем пересесть на другой. Но меня успокоили, что экспресс пойдет до Берлина, только в Польше сменят колесные тележки.
Я не представлял этого процесса.
Оказалось – хотя как могло быть иначе, ведь это я ехал в первый раз, а составы курсировали туда и сюда десятилетиями! – что все давно продумано.
Сразу после границы поезд остановился в местечке Кузнице.
Там были проложены две железнодорожных колеи одна в другой: снаружи широкая русская, внутри узкая европейская. А по сторонам полотна стояли мощные гидравлические домкраты. Когда поезд занял свое место, домкраты подвели под вагоны и весь состав одновременно поднялся в воздух. Так плавно, что этого никто и не заметил.
Железнодорожным рабочим осталось выкатить советские тележки, закатить европейские, совместить посадочные места и опустить вагоны уже на новые колеса.
Правда, эта простая процедура заняла часа два: процесс выкатывания и вкатывания тележек под пятнадцать вагонов не подлежал ускорению.
И еще, насколько я помню, были заменены сцепки. Вместо привычных советских автосцепок в форме руки появилось что-то незнакомое. С крюками и противовесами, гораздо менее современное на вид.
Сразу вызвавшее ассоциацию с допотопными семафорами.
Наконец все было выкачено, закачено и перецеплено, поезд лязгнул сочленениями и двинул дальше.
Я ехал вперед.
По европейским рельсам, на европейских колесах. И по воле случая даже в европейском вагоне немецкого производства с тремя полками в каждом купе.
И даже без денег чувствовал себя вполне европейским человеком.
Варшава
Я уже не помню, в котором часу берлинский экспресс отбыл из Ленинграда.
Шел он быстро, практически не останавливаясь.
Но Гродно и Кузнице заняли много времени.
Белосток миновали при вечереющем небе.
А на вокзал Варшава-Гданьска приехали поздней ночью.
Еще не адаптировавшись к чужому миру и опасаясь отстать, я не отходил далеко от вагона. Поэтому по дороге туда не увидел ничего.
Зато – забегая в конец путешествия – на обратном пути Варшаву проезжали днем.
И на вокзал я вышел не спеша, при полном параде.
На мне сиял не очень новый, но отлично сохранившийся голубой костюм производства ГДР, до сих пор остававшийся в разряде парадной одежды. Пошитый из теплой шерстяной ткани, он считался летним благодаря цвету. По тем временам он представлял верх шика: пиджак невероятно нежной, небесной голубизны и такие же брюки в узкую белую полоску.
Этот костюм, как я понимаю, был одной из главных причин нелюбви ко мне бойцов отряда, привыкших ко плебейскому отрепью. Причем не из-за цвета: страна советов жила в столь наивном неведении, что само слово «голубой» тогда не имело нынешнего подтекста – а из-за ярко выраженного аристократизма. Бригадир исходил зеленой пеной, а самый паскудный экономист сломал мне пуговицу.
К костюму я надел голубую же – что считалось идеальным – рубашку и синий узорчатый галстук-бабочку.
И был великолепен, как брачный аферист.
В таком виде – уверенный в себе, налившийся невнятной немецкой силой за месяц пребывания в Германии, я вывалился на Варшавский перрон.
Прохаживаясь фланирующим шагом вдоль состава, я испытал физическое наслаждение. В те годы меня еще не угнетала мысль о приближающейся России; свою прежнюю Родину я даже любил. Кроме того, это было не безденежное возвращение после отпуска к опостылевшей работе. Я возвращался, полный немецкого духа, с неимоверным количеством подарков и сувениров. Все самое главное оставалось впереди. Можно сказать, после чудесного месяца за границей мне предстояло поистине триумфальное шествие по своим друзьям, тайную сладость которого я уже предвкушал.
И поэтому я спокойно наслаждался проезжим воздухом Варшавы.
Навстречу шел польский железнодорожник – в щегольской форме с начищенными пуговицами.
Я замедлил шаги, приближаясь– и он тоже. В итоге мы остановились, точно предстояло решить важный вопрос.
– Пршепрашем пана, – очень вежливо произнес я, коверкая польский язык. – Этот поезд не может уйти до срока?
– Пусть ясновельможный пан не пш…пш…пш, – железнодорожник козырнул. – Ленинградски пш…пш…пш…
Он сказал много шипящих слов по-польски, которых я, конечно, не понял.
Затем выразительным жестом показал на часы и поднял указательный палец вверх. Это было уже ясно: поезд уйдет минута в минуту.
– Дзенкую бардзо, – ответил я, и мы разошлись, поклонившись друг другу.
Тогда я был просто опьянен и окрылен.
И только теперь осознаю всю красоту и важность этой сцены.
Понимаете ли ее вы, читатель?
На транзитном вокзале Варшава-Гданьска незнакомый поляк-железнодорожник совершенно серьезно назвал меня…
Не кого-нибудь, а меня! Непризнанного аристократа, страдавшего целый месяц среди своих русских дерьмаков соотрядовцев…
Он назвал меня ясновельможным паном.
Теперь я понимаю, что то была одна из вершин моей жизни.
(Подобная описана в «Африканской луне», где незнакомый египтянин принял меня за полицейского).
Вершина, теперь уже не достижимая. Потому что жизнь незаметно выбила из меня не только ясновельможность, но и само панство… И скоро, пожалуй, выбьет саму табуретку из-под ног.
А жаль.
Я больше нравился себе в тогдашнем обличье. Когда был великолепным пижоном, русским барином, умеющим показать свою цену. Хоть и получавшим за это со всех сторон от окружавшего быдла.
Тот я – ясновельможный пан с Варшавского вокзала гораздо симпатичнее мне, чем нынешний уродец. Задавленный жизнью, втоптанный в грязь и по плечи вбитый в землю окружением. Прогибающийся перед каждой дрянью, каждым начальствующим ублюдком в стремлении к сбережению нервов. От которых все равно почти ничего не осталось.
Стоп.
Полный назад!
Мне не нравятся последние абзацы. Меня пошатнуло в сторону привычной грусти. Воспоминание о Варшаве я лучше завершу другим эпизодом.
Забавным, и тоже произошедшим на обратном пути.