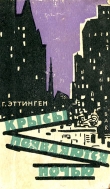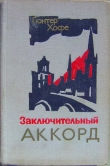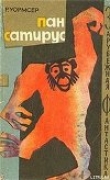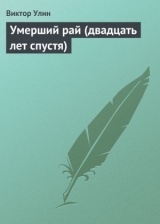
Текст книги "Умерший рай (двадцать лет спустя)"
Автор книги: Виктор Улин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Немецкая душа
Привычны слова о «загадочной русской душе».
Воспетой не только в русскоязычной литературе, но и далеко за пределами нашей убогой родины.
Спору нет. Никому не дано понять, что творится в мятущейся натуре русского человека, который никогда не знает своих действий в следующую минуту.
Но я уверен, что у каждого народа есть черты, ставящие чужестранца в тупик.
Туристу это вряд ли раскроется. Такое можно подметить, если повезет пожить в чужой среде равным среди равных.
Помню один поразивший меня случай.
Вставало утро.
Немцы не суетясь, но быстро спешили на работу. Автобусы шли переполненными, однако никто не давил друг другу ног, не пихался локтями и даже не возмущался теснотой. Проезд оплачивался так же, как и в СССР: с помощью талона и компостера. Длинный венгерский «Икарус» казался привычным, только выглядел чище, и у каждой двери торчали «тур оффнеры». Ну и, конечно, вдоль окон висело достаточное количество компостеров. Немцы отличались невероятной добропорядочностью. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь, вне зависимости от возраста, проехал зайцем. Все пробивали талоны или показывали проездные.
(У нас в Дрездене имелись студенческие проездные билеты, поэтому мы не беспокоясь ездили куда угодно.)
И вот этим зябким, слегка туманным утром рабочего дня вдруг выяснилось, что ближайший к средней двери компостер неисправен. Один немец попытался пробить талон, потом второй – ничего не вышло. Пожилая немка, вскарабкавшись на очередной остановке, тоже протянула руку с талоном.
– Капут! – остановил ее парень, показывая на компостер.
– А, зо… Капут! – радостно кивнула немка и спокойно убрала талон обратно в сумку.
В этом маленьком эпизоде мне раскрылся весь смысл образа настоящего немца. Гражданин законопослушен и добропорядочен – но лишь при условии обратной связи. Если положенный компостер сломан, то остальное пассажира не касается. Он честно пытался оплатить проезд, этого не удалось, поэтому с полным правом можно ехать зайцем.
В отличие от русского.
Который уж если бы решил платить, то взбулгачил бы весь автобус. Потребовал бы передать свой талон к исправному компостеру. Потом начал бы стучать к водителю, высказывая свое недовольство.
Для немца система видится иначе. Компостеру капут – значит, пассажир ни при чем. Поскольку это не его вина и не его проблема.
И, конечно, на стройке меня потрясало немецкое отношение к государственному имуществу.
На германских стройках, едва огороженных и свободных для прохода, под навесами лежали, с русской точки зрения, горы золота.
Ящики с гвоздями, шурупами, дюбелями. Пластмассовые части электроустановочных изделий, сантехника. Даже рулоны линолеума.
Как в современном магазине – но на улице.
И без всякой охраны.
За время пребывания в Германии я привык ко всему. Кроме одного: этого потрясающего неворовства. Каждый день шагая на работу, я тихо надеялся… – нет, наверное, этой ночью кто-нибудь все-таки забрался на стойку и украл.
Пусть не все, но хотя бы что-нибудь.
Но ничего не происходило.
День шел за днем. Количество унитазов, ждущих очереди около недостроенного дома, не уменьшалось. И гора гвоздей оставалась прежней.
Это не укладывалось в сознании.
И в это не верится до сих пор.
Особенно остро вспоминалось все по возращении в СССР.
Когда соседка пожаловалась, как на днях у нее украли пустое мусорное ведро, которое она оставила около подъезда, чтоб выйти к соседнему магазину и посмотреть, не привезли ли колбасу…
Вот это происходящее – точнее, непроисходящее – на стройках и стало для меня главным германским чудом.
Три этюда о вечном
Мысли, высказанные в конце предыдущей главы, побудили написать еще одно отступление.
Частично затрагивающее тему воровства, хотя и не касающееся ее прямо.
Я приведу три маленьких эпизода из местной жизни.
Их свидетелем мне стать не довелось по причине того, что случились все они достаточно давно.
Но, как истинные апокрифы, эти истории передаются из уст в уста, не обрастая лишними деталями, а лишь становясь отточеннее.
Эпизод первый.
Однажды, морозной зимой конца пятидесятых, на одном из скользких перекрестков (Уфа, подобно Москве или Риму, состоит из холмов и низин) перевернулась машина с водкой. Обычная зеленая трехтонка «Зис-5», какие застал в детстве даже я. Грузовик опрокинулся, ящики посыпались, бутылки с веселым звоном покатились вниз по улице. И сразу набежала туча народу: прохожие, полуодетые жильцы близлежащих домов. Свистел одинокий милиционер. Но через несколько минут около лежащей на боку машины не осталось ни одной целой бутылки. Это чудо старожилы вспоминают с большим восторгом, нежели мифическое явление Христа народу.
Эпизод второй.
Цистерна-спиртовозка попала в аварию. То ли из пробитой цистерны, то ли из крана потек спирт. Чистый, как слеза – из которого на ликероводочном заводе делали водку. Прохожие оказались захваченными врасплох. Одно дело схватить валяющуюся бутылку, совсем иное – мгновенно найти подходящую емкость. Вид льющегося спирта ранит русскую душу сильнее, чем костер из денег. Люди снимали резиновые сапоги – дело происходило в пригороде – и подставляли их под струю. Проблема решилась.
Эпизод третий.
На одной из автобаз планово ремонтировали такую же спиртовозку. Совершено пустую. Однако, оценив расстояние от крана до дна цистерны слесаря, поняли, что внутри должно остаться хоть немного спирта. Вероятно, это предусматривалось конструктивно, чтобы отделять тяжелые примеси и постороннюю грязь. Наверняка в цистерне имелся и дренажный клапан для промывки емкости. Но шарить в его поисках никто не стал. Автомобиль просто зацепили мостовым краном и поставили «на попа». После чего удалось слить все до последней капли.
В этих трех случаях, на мой взгляд, кроется часть секрета русской души.
Точнее, менталитета русского человека.
Неглупого, но чудовищно ленивого.
И принципиально непригодного для серьезных дел.
Но проявляющего чудеса изобретательности, когда дело касается дармовой выпивки.
Несчастная страна…
Этюд четвертый
Здесь пишу не о водке.
И не о веселых случайностях.
А о кропотливой, преднамеренной работе, связанной с виртуозно продуманным хищением продукта, который в советские времена был неимоверно дефицитнее водки: о мясе.
Мясо в СССР всегда оставалось дорогим и его всегда не хватало. Поэтому человек, причастный к его обращению хоть каким-то краешком ценился выше, чем сейчас начальник кредитного отдела в банке.
Как ни странно, машины тогда не пломбировались. Мне, работающему в момент написания этих строк (кем я буду работать и на каком свете находиться в момент прочтения их читателем – одному богу известно…) директором транспортно-экспедиционной компании, это кажется диким. Сегодня мы тщательно запечатываем одноразовыми пластиковыми пломбами уходящие машины и скрупулезно проверяем сохранность и соответствие номеров и ТТН на приходящих из Казани. Но тогда на вопрос смотрели легче. Хотя существовал даже особый орган – ОБХСС, отдел борьбе с хищениями социалистической собственности. О работе которого десятками снимали одинаковые скучнейшие фильмы, подобные зевотному сериалу про «Знатоков».
Один мой ленинградский знакомый в шестидесятые-семидесятые годы работал на автофургоне, развозившем туши с бойни на мясокомбинат, или с мясокомбината по базам… В общем – неважно куда и откуда. Главное – ввиду больших оборотов товар не перевешивался поштучно, а сдавался и принимался по брутто-весу.
То при выезде с комбината груженая машина проходила весы. Которые – что удивляет меня до сих пор – с точностью до нескольких килограммов определяли ее массу. Вес указывался в накладной, по которой груз сдавался на точке назначения. Также через большие автомобильные весы.
При такой системе контроля, своровать тушу в несколько десятков килограммов, казалось бы, не имелось возможности.
Но – именно казалось.
С такой задачей не справился бы ни американец, ни немец.
Однако русскому все по плечу.
Мой знакомый оборудовал свою машину простым, но технически безупречным устройством, заимствованным у… подводной лодки!
Он изготовил и приварил по рамой кузова балластные – то есть мясозаместительные цистерны.
Снаружи они не выделялись из конструкции.
При въезде на получение товара они оставались пустыми.
Автомобиль загружался, водитель получал отметку о брутто-весе.
Потом по дороге заезжал в определенное место, где имелись весы. Изымал из фургона – скажем условно – сто килограммов мяса и заливал вместо него сто литров воды.
В итоге брутто-вес машины не менялся. А о том, что центнер мяса заменен водой из колонки, не мог догадаться никто. Ведь продукт не перевешивался.
Мне кажется, эта история символизирует вершину русского инженерного гения.
Возможно, немцы не смогли победить нас именно потому, что им в голову не пришло бы так оборудовать грузовик даже для хищения мяса.
И пока в русском народе не переводились кулибины, мы оставались непобедимы.
Теперь пришли иные времена…
Работа по-советски
Как я писал, в течении жизни мне приходилось пробовать разные виды человеческой деятельности.
И уже по первому отряду я знал работу на стройке.
Трудовой менталитет строителя в СССР основывался на чисто коммунистическом принципе, который я бы назвал «пирамида отвязывания».
Поясню.
Рабочий исполняет необходимое в той степени и с таким уровнем качества, чтобы от него отвязался бригадир.
Бригадир гоняет рабочих, чтобы достигнуть результата, благодаря которому отвяжется прораб.
Прораб материт бригадиров в хвост и в гриву – чтобы пройдя по стройке, к нему не привязался бы начальник участка.
И так далее.
До самого верха.
По принципу: лишь бы начальство не заставило переделывать. А как выходит объект – дело десятое.
Я сам именно так работал в Союзе.
Помнится, в первом стройотряде вдвоем с Андреем Бородиновым мы укрепляли забор, огораживавший участок нашего математико-механического факультета. Забор, судя по всему, ставился посреди зимы. Столбы даже не вкапывались – вероятно, их кое-как воткнули в глубокий снег, едва достав до грунта. Весной хватило порыва ветра с Финского залива, чтобы сооружение налилось парусной силой, закачалось и рухнуло.
Красиво и медленно, плеть за плетью. По крайней мере я так представляю себе этот процесс.
Забор спокойно лежал не один месяц. Пока на него не упал случайный взгляд начальника участка.
После чего обматеренный прораб Виктор Михайлович Плахотник пришел к нашему бригадиру литовцу Вите Тутинасу (Какое мощное сгущение тёзок! Правда, Тутинаса звали Витаутасом, но у нас его перекрестили) и тот выделил нас с Бородиновым, чтобы мы подняли и укрепили этот чертов забор.
До обеда.
В задании не имелось релятивистского стремления увязать пространство и время. Просто оставалось часа два до момента принятия пищи, и бригадир решил, что нам будет этого достаточно для восстановления какой-то сотни метров забора.
Работа казалась пустячной. Углубить ямы под столбы, утоптать получше землю. Мы с Андреем рьяно взялись за дело. Но оно оказалось не таким простым.
Ямы мы выкопали. Однако стоило укрепить один столб и отойти, чтобы трамбовать соседний, как первый начинал заваливаться. Скорее всего, задание стоило поручить нескольким людям. Двоих не хватало, нужно было держать пару секций, пока хотя бы три столба не оказались крепко вкопанными.
Или проблему составлял мягкий сырой грунт. Или сам забор оказался неправильным, чересчур короткие столбы было просто невозможно как следует закрепить.
Как мы ни старались, но стоило поставить несколько плетей, как порыв ветра валил на землю первую, она тянула вторую… И через полминуты результат возвращался к первоначальной точке.
Мы маялись почти до обеда. Поняв наконец, что вкопать столбы не удастся, мы кое-как приперли их с подветренной стороны камнями, создавая видимость надежно стоящего забора. Он держался. Но неуверенно, качаясь и не внушая доверия.
– Ладно, – сказал Андрей, критически оглядывая нашу работу перед тем, как отправляться на обед. – Лишь бы до вечера не гребнулся… А так – может, ночью ураган был. Но до вечера простоит.
Так и порешили.
Однако Андрей оказался не прав.
Наш забор не простоял не только до вечера, но даже до конца обеда.
Вернувшись из столовой, мы увидели, что он опять мирно лежит на земле.
Был бы я немцем преклонных годов…
Впрочем, не обязательно преклонных.
Думаю, что в этом отношении все немцы одинаковы.
И скажу честно: именно в Германии я понял, что такое настоящая работа.
После чего все виды трудовой деятельности в СССР мне казались просто-таки непристойным занятием. Потому что если наше рукоблудие назвать работой, то для обозначения труда немцев в запасе не хватало слов.
Я отнюдь не считаю, что все должны работать именно как немцы. Более того, для этого мало желания. Нужна общая культура производства и производственных отношений (сколь сухо ни звучали бы экономические слова в художественном тексте) – которую нельзя создать одномоментно.
Ее вообще нельзя было создать на пустом месте, каким являлся СССР. Равно как и в черной дыре, которой представляется современная Россия.
Я просто вспоминаю две недели в Дрездене.
И хотя, будучи нормальным человеком, я в принципе не люблю никакую работу (на мой взгляд, в жизни вообще есть три самых непоправимых зла: работа, зима и ГИБДД), сами воспоминания о них вызывают наслаждение.
Положа руку на сердце, скажу, что путешествие по Германии доставило мне куда меньше удовольствия, нежели две недели равномерного и монотонного труда.
Само собой, что на стройке – тем более, на немецкой – нам доверили неквалифицированные операции.
Хотя в общем и не тяжелые. Нас не заставляли таскать чугунные ванны или подавать кирпичи.
Первую неделю мы рыли траншеи для прокладки кабеля уличного освещения.
Потом нас перевели в соседний квартал на ремонт дорожного полотна. Мы разделывали трещины в асфальте до треугольной формы и заливали гудроном.
В общем неважно было, чем заниматься: кидать лопатами землю, или разбивать асфальт.
Важным казался подход к работе.
Мы оставались русскими, но под руководством немецких прорабов – о которых скажу позже – были вынуждены подчиняться германским правилам. Кроме того, проходя через стройку, я подмечал, как работают настоящие немцы.
Основной чертой их являлась методичность. Немцы трудились спокойно и вроде даже неторопливо. Без авралов, но и без длинных перекуров. И с такой неумолимой направленностью продвижения, которой позавидовала бы стахановская бригада.
В дождь строители не работали в принципе, считая такое занятие бесполезной тратой времени и материалов. И после окончания смены не задерживались: переодевались и расходились по домам. Становясь совершенно непохожими на строителей в русском понимании: человеческий мусор, забулдыг и пьяниц.
Качество немецкой строительной работы меня потрясло. И осталось непревзойденным в моем жизненном опыте.
Даже когда при ремонте своей квартиры я купил отличные материалы, нанял бригаду, которой платил свои деньги и сам ежедневно контролировал ход работ… Даже в таких эксклюзивных условиях результат российского труда не мог сравниться с поточным производством немецких бригад.
Разумеется, немцы не были способны на трудовые подвиги в русском духе вроде размешивания цемента босыми ногами или круглосуточного возведения стены. Но подобного им не требовалось. Потому что привычка к размеренности, наличие материалов и дисциплина позволяла делать все то же самое штурмовщины.
Я даже ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь немец орал на другого. Что само по себе кажется ненормальным для стройки.
А что касается культуры труда…
Сейчас, под давлением западных традиций у нас постепенно входит в норму нечто отдаленно подобное.
Но тогда, в восемьдесят третьем году меня поражало в работе немцев абсолютно все.
Например, выкопанная нами траншея глубиной полметра после окончания рабочего дня огораживалась по периметру красно-белой предупредительной лентой, натянутой на специально забитые железные штыри. Чтобы не дай бог, какой-нибудь пьяный не сломал себе ногу в темноте.
(В почти родном Ленинграде годом ранее я был свидетелем того, как утром строители и милиция вытаскивали из глубокого – метров восемь – не огороженного котлована посреди улицы, окоченевший труп старушки. Вероятно, свалившейся туда вечером и умершей от страха.)
А однажды мы искали осветительный кабель, уже засыпанный грунтом. Само занятие мне казалось опасным: я помнил случай из русской практики, когда лихой экскаваторщик вырвал из земли пятикиловольтный силовой кабель. Который был обесточен по идиотской и тоже чисто русской случайности: в четверг напряжение отключили из-за проверки подстанции, а в пятницу уже с утра напились и включить забыли. Что спасло жизнь и экскаваторщику и автору этих строк: по словам строителей, при порыве такого кабеля, сгорает все в радиусе десятка метров.
Помня тот день, я усомнился в допустимости действий: копать острыми лопатами, не зная, где кабель. Прораб спокойно ответил, что все нормально.
Я понял это быстро: прокопав поперечную канавку, мы наткнулись на желтую поливиниловую ленту, проложенную перед засыпкой для обозначения места. Раскопав ленту, мы обнаружили канал, перекрытый кирпичами. Сняв их, нашли кабель. Черный и невредимый, и абсолютно безопасный при такой организации.
Это было непостижимым с русской точки зрения.
Но казалось нормальным с немецкой.
Мои учителя
Одной из моих задач, естественно возникшей при поездке в Германию, было изучение немецкого.
Причем разговорного: переводить со словарем каталоги или технические описания я в общем умел.
У меня имелся опыт английского; его я учил с пяти лет с частным репетитором. А в школе количество уроков по языку в старших классах доходило до двенадцати в неделю. Результат оказался прочным. Не имея необходимости в применении, я до сих пор владею английским на уровне подсознания. То есть если мне нужно написать резюме, я не набрасываю – в отличие от большинства – русский текст для перевода, а сразу пишу по-английски. Также читаю и говорю: не вспоминаю перевода, а думаю параллельно. Вероятно, это естественно для глубокого знания языка, заложенного с детства.
С немецким получилось иначе. Учить его не собирался. Просто надеялся, что погружение в среду даст язык естественным образом.
В общем так оно и вышло.
Мне сильно повезло: все, кто говорил по-немецки, оказались в другой бригаде. А наша оказалась в немецком окружении, имея соединительным звеном лишь меня. Найдись тут хоть один человек со знанием языка, и все мои потуги оказались бы ненужными.
Но как мудро подметили, древние римляне, Inter caecus luxus rex, – то есть «среди слепых одноглазый – царь».
И я нашей бригаде я был…
Разумеется, не царем, поскольку моего минимального знания никто не уважал. А в стремлении знать лучше я постоянно подвергался насмешкам со стороны своих русских «товарищей» – которые без моей помощи не смогли бы выяснить даже местонахождение туалета. Я совершал двойную работу: работал и одновременно служил переводчиком. Причем с каждым днем второе получалось все лучше.
Потому что я очень старался.
В Германию я захватил два встречных словаря карманного формата и русско-немецкий разговорник.
Бесполезность разговорника выяснилась сразу. С его помощью можно было узнать, как пройти в тот или иной музей, в котором часу начинается пьеса и сколько стоит вот эта (та) шубка (шляпка, блузка…) Но если требовалось выяснить необходимую ширину копаемой траншеи, разговорник оказывался бессильным. Подобные вещи приходилось ловить на лету. Причем не грамматически, а ухватывать целыми фразами и лишь потом представлять их конструкции.
Со словарями я не расставался и постоянно перечитывал их даже в транспорте.
Но самым главным, конечно, было общение с живыми немцами.
Тогда я еще не ненавидел Россию так, как сейчас. Впрочем, и России как отдельного государства не существовало; я родился и жил в СССР. Но уже тогда я избегал своих соотечественников за рубежом, предпочитая общество немцев. В то время, как соотрядовцы компаниями шатались по пивным или магазинам, я старался остаться в одиночестве.
И бесцеремонно знакомился с немцами, пытался завязать разговор даже с полицейскими. Где угодно: в кафе, в автобусе, на экскурсии или даже прямо на улице.
Меня поражала простота этих людей: никто не оставил без внимания моей попытки. И от каждого я получал помощь в освоении языка.
Главными моими учителями были, конечно, прорабы и строители, с которыми я общался во время обеденного перерыва.
Я уже отмечал, что одним из ходячих заблуждений является миф о простом произношении немецкого языка.
Начав учить язык на слух, я сразу понял, что это не так. Пусть немецкие слова легко читались и практически не имели исключений, но само произношение оказалось трудным в доведении отдельных звуков. Которые должны были быть то мягкими, то жесткими, то приглушенными, то звонкими.
Я настолько стремился перестроить свой речевой аппарат, что – ей-богу, не вру! – по возвращении в Россию у меня несколько дней держался акцент в русском языке.
В результате учебы я прочно привык не просто к немецкому языку, а к его саксонскому произношению – страшной мешанине звуков, которое отличается от академического берлинского, как бурливый говор краснодарцев от размеренной речи москвичей. Это акцент оказался неистребим и я не могу отделаться от него даже сейчас. Когда за границей приходится общаться с немцами.
Но в самой Германии посторонние люди ни разу не приняли меня за русского. Считали венгром – то есть в общем частично немцем. Это было предметом моей гордости.
И меня совершенно не трогали злые насмешки соотечественников.
Когда я научился уже не только выяснять вопросы, а разговаривать, то стал общаться с немцами-строителями.
(Чем, естественно, вызывал вулканы злобы со стороны своих, которые сидели, как бараны перед новыми воротами, не понимая ни слова.)
Немцы разговаривали с удовольствием: им, похоже, было приятно, что русский стремится научиться их языку.
И я выучил не только сам язык. Узнал отдельные тонкости национального поведения: в Германии я сбросил русскую оболочку и стал немцем.
Например, привык стучать пальцами по столу после окончания обеда. Или использовать слова, которых нельзя найти словаре: говорил “Malzeit” вместо правильного “Guten Appetit” и “Tschuss” вместо “auf Wiedersehen”. И до сих пор, считая на пальцах, я отгибаю их из сжатого кулака.
Особенно словоохотливыми оказался повар: здоровенный и весь заросший черным волосом, как изображали в наших фильмах страшных эсэсовцев. Отличаясь веселым характером, он постоянно заразительно хохотал. А ко мне расположился после того, как я похвалил его стряпню.
Он практически сразу признался, что воевал – правда, как мне казалось, ему было немногим больше пятидесяти, и наверняка он попал лишь в самый последний призыв – что ненавидит войну и Гитлера. Правда, добавлял он, Рейган (который тогда правил Америкой) хуже Гитлера, потому что тот хотел уничтожить Европу, а этот хочет сжечь весь мир.
(Об отношении к американцам вообще я скажу ниже.)
Повар настолько проникся ко мне, что со временем даже стал учить всяким непристойным шуткам.
Из которых наиболее безобидной была следующая.
Повар отсчитывал шестнадцать спичек и выкладывал в ряд аккуратные квадраты.
– Вот четыре дырки, – говорил он.
Я соглашался: квадраты условно могли обозначать отверстия.
– Добавь еще две спички, чтобы из четырех дырок получилась одна.
Я напрягал свои геометрические способности – ничего не получалось. Без перекладывания имевшихся спичек топологически не представлялось возможным превратить четыре замкнутых линии в одну.
– Смотри! – выждав паузу, демонстрировал довольный повар.
И под дружное ржание остальных клал две спички. Вертикально в левые нижние углы первого и третьего квадратов. Практически ничего не менялось. Но квадраты с добавленными спичками воспринимались прямоугольно написанными латинскими «р». А оставшиеся – такими же «о». Думаю, не стоит пояснять, какое получалось слово и почему четыре дырки превращались в одну.
После обеда или дождливым днем немцы играли в карты. Я знал, что национальной игрой является скат и спросил повара, может ли он меня научить. Разумный немец ответил, что это практически невозможно, поскольку в игре сложные правила и ее постигают долго. Взамен он спросил какую-нибудь русскую карточную игру.
И я научил самой русской из всех русских игр: подкидному дураку.
Правда, сразу возникла проблема, преодолеть которую сумели далеко не все ученики. В немецком понимании естественным казалось брать взятки. Поэтому немцы с трудом переламывали себя, отбиваться не умели и постоянно оставались в дураках.
Но это не уменьшало веселья и теплоты в нашей компании.
Где все говорили по-немецки – включая меня.
И даже не использовали переходного языка, каким сейчас служит английский.