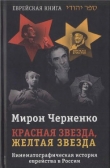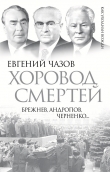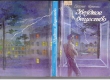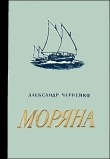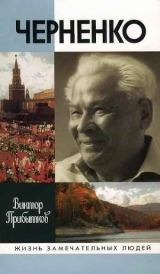
Текст книги "Черненко"
Автор книги: Виктор Прибытков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Ну а что же касается обвинений в «подхалимстве», то полагаю, каждый из читателей может вспомнить не один случай из собственной жизни, когда нельзя было отказаться от выезда на природу или застолья, потому что на них было получено приглашение от начальства. И не следует строго судить верхние эшелоны власти, так как их представители – такие же живые люди, со своими слабостями и пристрастиями. Константин Устинович не был здесь исключением.
Когда вспоминаешь прошлое, невольно думаешь о том, можно ли было избежать трагического надлома в жизни партии после кончины Черненко, связанного с приходом к власти Горбачева. Речь идет не об обновлении, не о демократизации, не об омоложении руководства КПСС (что давно уже назрело и чего все ждали), а именно надлома, поскольку с высоты нынешнего времени отчетливо видно: ломали «архитекторы» и «прорабы перестройки» всё «до основанья», ломали не только бездумно, но и осознанно.
Понятно, что все это ушло в историю, к которой, как хорошо известно, нельзя применять сослагательного наклонения, но всё же… Всё же в критические моменты нашей истории, к сожалению, судьбы партии и страны очень часто зависели от воли случая. И поэтому невольно думаешь о том, что могло быть, если бы…
Если бы, например, преждевременная смерть не настигла секретаря ЦК и члена Политбюро Федора Давыдовича Кулакова, который скоропостижно скончался в 1978 году в возрасте шестидесяти лет. А ведь Горбачев был избран именно на его место. Но разве сопоставимы эти две фигуры? Талантливый и перспективный, самоотверженный руководитель, Кулаков не только досконально знал все проблемы сельскохозяйственного производства – он унаследовал и привносил в работу партийной верхушки страны здоровый дух родной земли, которой посвятил всю свою жизнь. Более тринадцати лет он возглавлял в ЦК ответственный участок – осуществлял партийное руководство агропромышленным комплексом и отдал этой работе много сил, знаний и опыта.
Помню, как Черненко искренне сожалел об этой утрате. Ведь они были знакомы еще по Пензе, где в сороковых годах более трех лет вместе работали заведующими отделами обкома. Затем их пути разошлись. Черненко направили в Молдавию, а Кулаков остался в Пензе, возглавил облисполком. Позже он был заместителем министра сельского хозяйства, министром заготовок России, а позднее стал первым секретарем Ставропольского крайкома партии. Их добрые отношения продолжились и в годы совместной работы в ЦК КПСС.
И вот Кулакова нет. Но свято место, как известно, пусто не бывает. На очередном пленуме ЦК предстояло избрать нового секретаря. И, естественно, вся подготовительная работа, как было и всегда, когда дело касалось ответственных кадров, была поручена Черненко.
Весьма неожиданно для себя я оказался действующим лицом небольшой пьесы, в которой одновременно участвовали три генеральных секретаря: в то время действующий – Брежнев, будущий – Черненко и следующий за ним – Горбачев. Роль мне выпала эпизодическая, но, тем не менее, вспоминая тот эпизод, я снова думаю, что могло получиться, если бы… Но обо всем по порядку.
Как правило, накануне каждого пленума ЦК приходилось засиживаться в ЦК допоздна. Поручения могли последовать в любое время, и были они самые неожиданные.
Вот и на этот раз раздался звонок от шефа.
– Слушаю, Константин Устинович!
– Виктор, ты сможешь быстро найти Горбачева? Леонид Ильич ждет. Я должен идти с ним к Брежневу и представлять его.
– Постараюсь…
Из услышанного мне стало понятно, что Горбачева, первого секретаря Ставропольского крайкома, хотят избрать секретарем ЦК вместо недавно умершего Кулакова. Видимо, решение пришло неожиданно, и Черненко получил распоряжение «представить» претендента «пред светлые очи», сам того не ожидая.
Но где искать Горбачева? Обычно секретари крайкомов и обкомов останавливались в гостинице, что на Арбате, в Плотниковом переулке. Звоню туда:
– Горбачева Михаила Сергеевича можно попросить к телефону?
– В город вышел, – отвечает дежурный. – Куда пошел, не сказал.
– Пусть сразу позвонит, как придет, – говорю я в трубку. – Черненко или мне.
Проходит 15–20 минут. Во второй раз звонит телефон шефа.
– Ты нашел Горбачева? – В голосе Черненко уже чувствуется недовольство.
– В гостинице нет. Ищу.
– Плохо ищешь.
Снова звоню в гостиницу. Отвечают, что Горбачев не появлялся. Обзваниваю несколько отделов ЦК – сельскохозяйственный, организационный, пропаганды…
– Нет.
– Не был.
– Не появлялся. Звоню Черненко:
– Нет его нигде, Константин Устинович. В ответ слышу раздраженное ворчание:
– Зайди!
Захожу. Сидит туча тучей.
– Где же твой Горбачев?
– К сожалению, Константин Устинович, не могу найти.
– Все проверил? У тебя больше нет каналов? Тогда так! Если за тридцать минут не найдешь его, то… То у нас есть и другие кандидатуры на секретарство.
Получается, что из-за меня человек может не стать секретарем ЦК! Бегом возвращаюсь в кабинет, хватаю аппарат ВЧ, звоню в Ставрополь – там вторым секретарем крайкома у Горбачева работает мой давний приятель по комсомолу:
– Привет, Виктор! Как дела? Давно не виделись… Слушай, есть просьба! Говорить некогда! Где найти твоего шефа в Москве? Дай все телефоны, какие можешь…
Тот смеется:
– Много не нужно. Дам один, но стопроцентный. – Диктует быстро, по памяти, я едва успеваю записать эти несчастные семь цифр. Бросаю на место трубку, хватаюсь за обычный городской, накручиваю номер, сообщенный знакомым:
– Алло!
– Здравствуйте, – отвечает женский голос.
– Можно попросить Михаила Сергеевича?
– Минуту… – Пауза продолжается несколько секунд, трубку берет мужчина.
Это не Горбачев. Голос принадлежит другому моему знакомому – Марату Васильевичу Грамову – хорошему приятелю Горбачева. Узнав, кто звонит, он подзывает его.
– Михаил Сергеевич, срочно приезжайте к Черненко. Очень важное дело…
Снова звонок от Константина Устиновича.
– Нашел?
– Нашел. Сейчас будет. Из-за стола поднял.
– Из-за стола? – не понял Черненко. – Он что? Того-этого? Везти-то его к Брежневу можно?
– Не знаю, – сказал я. – По голосу вроде ничего.
Так Горбачев, не без моих забот, стал секретарем ЦК. Кто знает, не догадался бы я позвонить на Ставрополье, поискал бы его чуть дольше – и стал бы секретарем ЦК КПСС совсем другой человек.
Конечно, все эти мои рассуждения, наверное, не очень серьезные и, во всяком случае, давно уже не имеют никакого значения. А тогда… Перед уходом домой я заглянул в приемную Черненко, и секретарь Зинаида Ивановна, многозначительно посмотрев на меня, с укором сказала:
– Вы где же, Виктор Васильевич, Горбачева такого веселенького нашли? Наверное, долго искали?
– В чем дело, Зинаида Ивановна?
Но она только улыбнулась и ничего мне не ответила.
В одном из именитых московских театров – МХАТе был подготовлен спектакль о революции по пьесе известного драматурга, но комиссия его не приняла. Камнем преткновения стал выведенный в этом спектакле образ Ленина – слишком далекий от общепринятых канонов и поэтому слишком непривычный. Выходило, будто бы и у Ленина были серьезные ошибки, а его последователи их только усугубили. Да и поднятые в пьесе другие проблемы наталкивали на определенные размышления, прямо скажем, не очень веселые. Слишком далекой оказывалась наша реальная жизнь от авторской трактовки того, что завещал Ленин своим наследникам и потомкам. Кроме того, впервые со сцены прозвучали некоторые ленинские характеристики его ближайших соратников.
Речь шла о спектакле по пьесе М. Шатрова «Так победим!», поставленном О. Ефремовым.
Сначала попытался прорваться к Брежневу обиженный режиссер, а следом за ним – и драматург. Лично хотели объяснить Леониду Ильичу, что спектакль хороший и предложить ему самому в этом удостовериться.
Но работа аппарата выстроена так, что к Брежневу с подобными «пустяками» не прорвешься. Для приема подобных посетителей с такими вопросами есть Отдел культуры. В крайнем случае, «начальник штаба» – секретарь ЦК КПСС, он же заведующий Общим отделом Константин Устинович Черненко.
Встреча с Шатровым и Ефремовым была назначена не сразу, а через несколько дней. За это время нужно было получить о пьесе необходимую информацию, посоветоваться с людьми опытными, компетентными – как же иначе?
В назначенный срок гости из МХАТа были у Черненко, рассказали ему о спектакле и, естественно, пригласили в театр. Константин Устинович от приглашения не отказался, но идти в театр сам не собирался. Тут все дело в «политике»: приди он в театр лично, там сразу многие скажут (больше того – в газетах напишут), что на спектакле присутствовал член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и т. д. А это, считай, уже почти что одобрение спектакля, путевка в жизнь для него.
– Ты, Виктор, как к театру относишься? – хитро спрашивает меня Черненко, когда гости ушли, и, не дожидаясь ответа, говорит: – Вот и отлично! Свяжись с Ефремовым. Известный драматург Шатров пьесу написал, «Так победим!» называется, а Ефремов ее поставил. Сходи посмотри, потом доложишь.
Не успел я вернуться в свой кабинет, как уже звонит телефон. На проводе сам Шатров:
– Виктор Васильевич, ждем вас непременно. Билетик в партер приготовлен. Четвертый ряд устроит?
Прихожу на спектакль. Шатров радуется, сажает меня рядом со своей родственницей, чтоб приглядывала, что ли? Сижу, смотрю на сцену.
Очень понравилось тогда, как Александр Калягин играл Ленина: сильно, мощно, с напором! Помню, особенно мне понравилась сцена встречи вождя революции с Армандом Хаммером.
После спектакля меня взяли под локоток и повели в режиссерскую, где был накрыт небольшой столик – немного спиртного, закуска из буфета. Кроме драматурга Шатрова и режиссера театра там никого больше не было, так что разговор, по планам его организаторов, намечался быть доверительным.
– Ну как? – спрашивает Ефремов, разливая по рюмкам коньяк.
– Мне понравилось, – честно говорю я. – Александр Калягин хорош. Мне вообще нравится этот артист…
Ефремов довольно кивает.
– Конечно, Ленин у вас не канонический, не иконный, – продолжаю я. – Но ничего оскорбительного нет. Не знаю, что там такого страшного товарищи от культуры углядели? Похоже, перестраховываются.
Тут и Калягин в комнату заглянул. Веселый. Выпили еще по рюмке. Поговорили вчетвером, все обсудили. На следующий день прихожу к шефу, докладываю:
– Понравился мне спектакль, Константин Устинович. Особенно сцена с Хаммером. Там Ленин с молодым капиталистом очень здорово разговаривает. Да вы сами сходите как-нибудь, посмотрите.
– Как-нибудь схожу… – неопределенно отвечает Черненко и на этом считает тему исчерпанной, больше к ней не возвращается.
Сам на спектакль он не пошел, но, видимо, кому надо – сказал, что надо – сделал, на кого надо – надавил, и спектакль был выпущен. О нем в то время много писали в газетах, так как он стал заметным явлением в театральной жизни Москвы. А в 1983 году за эту пьесу М. Шатров был удостоен Государственной премии СССР.
Лишь с годами меня стали преследовать сомнения: прав ли я был тогда, может, не усмотрел что-нибудь важное? Но ведь для меня, как и для многих других партийных функционеров, только со временем стало ясно, что для либеральных кругов «очищение образа Ленина» стало лишь началом подготовки к открытию шлюза, через который на народного вождя обрушился огромной поток лжи, не ослабевающий и поныне. Тогда же все мы, жаждущие оздоровления и обновления партийно-государственной системы, верили в искренность намерений людей, обратившихся к поиску «исторической правды». Я не хочу поставить под сомнение деятельность тех или иных мастеров культуры – многие из них заблуждались искренне и только потом поняли, кому на руку их творческие искания. Но до этого всем нам пришлось пережить страшное время крушения светлых надежд, которые зарождались в начале восьмидесятых.
Как-то, уже в наши дни, мне на глаза попалась одна из поздних рецензий на пьесу «Так победим!». Ее автор, подводя итог своим размышлениям о ней, заканчивал статью словами: «Тьма сгущалась перед рассветом». Наверное, никуда не денешься от того, что для кого-то развитие событий через несколько лет после выхода спектакля, прежде всего «перестройка» и крах великой державы, воспринималось как «рассвет». Но, по-моему, более точно передают смысл происходившего тогда другие слова: «Тьма сгущалась перед закатом».
…Черненко все же привел на спектакль Брежнева, только гораздо позже. Тогда сразу все газеты захлебнулись в восторге: «Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР..» и т. д. В общем, почтил МХАТ своим присутствием выдающийся деятель современности.
– Ну, как спектакль? – осторожно спросил я на следующий день Константина Устиновича. – Не ошибся я тогда?
– Хороший спектакль. Не ошибся.
– Леониду Ильичу понравилось? – поинтересовался я. Черненко нахмурился и довольно неприветливо буркнул:
– Мне кажется, он не понял, куда его привели. Перепутал что-то…
Глава седьмая
После Брежнева
Смена главных идеологов КПСС. Противостояние в Политбюро. Читая западных аналитиков. Время Андропова. «Хранитель партии» в опале
Для руководства ЦК КПСС 1982 год стал особенным – в, казалось бы, монолитном Политбюро появилась трещина, возник дисбаланс сил. Все началось со смерти Суслова, который скончался в начале года, в феврале, на восьмидесятом году жизни. Идеолог-ортодокс, он 35 лет был у руля теоретической деятельности партии, всей партийно-пропагандистской работы. Свою карьеру Суслов начал еще при Сталине, став секретарем ЦК в 1947 году, и не случайно похоронили его у Кремлевской стены рядом с могилой Иосифа Виссарионовича. Преданно и старательно обосновывал он идейную непогрешимость сталинского курса. А после этого без всяких сомнений воспринял новую линию партии, проводимую Хрущевым, и внес весомый вклад в пропагандистское обеспечение его «великого десятилетия». С неменьшим рвением Михаил Андреевич руководил идеологическим фронтом в годы Брежнева.
Можно сказать, что с уходом из жизни Суслова завершалась целая эпоха в идеологической работе КПСС, характерными чертами которой стали догматический подход к освоению марксистско-ленинского наследия, стремление приспособить теорию к нуждам и прагматическим целям первых лиц партии и государства, начетничество и цитатничество.
Вставал вопрос: что же будет дальше происходить в этой важнейшей сфере деятельности КПСС, которая в конечном счете определяет всю политику и практические шаги партии? Ход развития событий пытались предугадать не только широкие круги партийных функционеров, но и работники печати, деятели искусства и культуры, творческая интеллигенция. Вполне понятен проявлявшийся ими живой интерес к тому, что будет предложено гражданам страны в качестве мировоззренческих ценностей, главных задач общественного развития и основных стимулов поступательного движения, которое на глазах теряло свои темпы. Однако со сменой главного идеолога, роль которого была возложена на Андропова, избранного после смерти Суслова секретарем ЦК и членом Политбюро, ясных ответов на этот вопрос так и не последовало.
Дело, конечно, не только в том, что бывший председатель КГБ еще не имел того веса и положения в партии, какими обладал Суслов, и некоторое время его в Политбюро заслоняла фигура Черненко, который стал там фактически вторым лицом. Было ли Андропову по силам преодолеть инерцию представлений и мышлений его предшественников на идеологическом поприще – вот в чем главный вопрос. И однозначно на него ответить очень трудно. Во всяком случае, позднее, когда он был избран генсеком, стало ясно, что в качестве конструктивного направления движения была избрана главным образом работа с кадрами и политика «закручивания гаек».
Безусловно, была сделана попытка переосмыслить сложившиеся представления о социалистическом обществе, о сохраняющихся в нем противоречиях. Было ясно, что важнейшая работа Андропова – «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР» – возникла не на пустом месте, а в результате серьезных размышлений. Но пока в ней можно было обнаружить лишь постановку задач, но не пути их решения, которые были только обозначены. Иными словами, статья, несомненно, подталкивала к размышлениям, порождала какие-то надежды и смутные ожидания, но не давала ощущения определенности. Это в полной мере относится и к выводу о том, что переворот в отношениях собственности при социализме – не одновременный акт, а превращение «моего», частнособственнического, в «наше», общее – дело непростое, длительный и многоплановый процесс.
Не было еще четкой программы действий в этом направлении и после июньского пленума ЦК КПСС 1983 года, на котором Андропов подчеркнул, что мы еще до сих пор не изучили должным образом общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Там же отмечалось, что партия вынуждена действовать эмпирически, нерациональным способом проб и ошибок, однако образ ее действий по-прежнему оставался прежним.
…Брежнев в последние месяцы своей жизни из-за плохого здоровья был вынужден работать в щадящем режиме, по два-три часа в день. Но половина даже этого времени уходила на отдых. Средства массовой информации неустанно поддерживали у народа веру в трудоспособность генсека, все время публиковали его фотографии, не исчезали со страниц центральных газет его интервью и беседы с корреспондентами, направлялись приветствия трудовым коллективам по всяким, приличествующим вниманию Леонида Ильича, случаям.
Мне кажется, что работу Политбюро не миновал бы полный паралич, если бы не Константин Устинович Черненко, а для Брежнева – по-прежнему «Костя». В этот период «Костя» составляет распорядок дня своего шефа, планирует график его работы и отдыха. Каково состояние генсека, таков и график.
Но было бы ошибочным считать, что жизнь в стране стала замирать, наступал какой-то «застой». Страна жила в напряженном трудовом ритме. На полную мощь работали заводы и фабрики, не утихала трудовая страда на полях и фермах, строились дома и объекты соцкультбыта, не стояла на месте наука, а система народного образования по праву считалась одной из лучших в мире.
Отлаженная схема управления страной, опирающаяся на стабильность и предсказуемость любого своего звена, находилась в работоспособном состоянии и была достаточно эффективной. Как бы либеральные демократы ни порочили в конце восьмидесятых годов работников партийных и государственных органов, всё созданное позднее на руинах насильственно разваленной советской системы руководства напоминало жалкую пародию на то, что было. Консолидированные вокруг идеи разрушения, новые «управленцы» созидать что-либо так и не научились. Да и сегодня мало что изменилось к лучшему, а о масштабах невиданной в истории России коррупции мы уже упоминали.
Хочется отметить главное: что бы ни говорили, прежний партийно-бюрократический аппарат умел работать. Аппарат ЦК КПСС в период Черненко стал настоящим мозговым центром страны, в котором накапливалась и хранилась, в том числе и в электронной базе данных, важнейшая информация. А в наши дни, даже при самых современных информационных технологиях, вряд ли управленческий аппарат обладает такими доскональными знаниями о положении дел в стране, которыми располагал раньше главный штаб партии. Тогда при необходимости можно было в кратчайшие сроки составить детальное представление о ситуации во всех отраслях экономики, в науке и образовании, социальной жизни, вплоть до каждого района и населенного пункта, завода, совхоза, учебного заведения. Не составляло никакого труда проследить и динамику развития той или иной сферы за несколько лет или даже пятилеток.
Я далек от мысли идеализировать что-либо из прошлого. Но не дают покоя отказ от огромного опыта, накопленного в советское время, варварское к нему отношение. Несмотря на огромные проблемы, страна тогда развивалась поступательно, и тот, кто знаком с реальным положением вещей, никогда не назовет эти годы «застойными». Особенно нелепо говорить о «застое», сравнивая это время с крутым обвалом экономики и культуры в стране, случившимся в результате бездарного правления Горбачева.
«Демократические» пропагандисты выдвинули версию, будто советская экономика жила на «нефтедолларовой игле», но такое утверждение совершенно не соответствует действительности. В 1980 году экспорт в страны, не входившие в экономическое сообщество государств социалистического лагеря, составил 34,9 миллиарда долларов, а импорт – 32 миллиарда. Потом цены на нефтяном мировом рынке стали падать, и в 1986 году экспорт в связи с этим снизился до 30 миллиардов, а импорт упал до отметки 29,4 миллиарда долларов. Для сравнения: в этот же период валовой национальный продукт СССР составил 799 миллиардов рублей, произведенный национальный доход – 587,4 миллиарда, а доходы государственного бюджета выразились в сумме 419,5 миллиарда рублей. Можно ли на этом фоне считать экспорт в 30 миллиардов рублей (заметим, что курс доллара тогда практически был равен рублю) чем-то весьма существенным, чтобы сравнивать его с иглой, держащей на себе всю экономику?
Так рассуждать, конечно, по меньшей мере, наивно. И без экспорта нефти Советский Союз снискал себе славу мощнейшей экономической державы, чей потенциал смог выдержать впоследствии много ударов, в том числе и перестройку Горбачева, и беззастенчивый грабеж страны в девяностые годы. За счет его и поныне еще держатся на плаву инфраструктура экономики, добыча нефти и газа, обороноспособность России, ее ракетно-ядерный щит. Мировой кризис со всей полнотой обнажил, что за последние два десятилетия в стране, по сути дела, ничего путного не создано – вот теперь-то она и живет только за счет торговли нефтью и газом, сидит на пресловутой «нефтедолларовой игле».
Поэтому-то ничего и не остается нынешним кремлевским идеологам и пропагандистам, кроме как искажать историю и рассказывать молодым людям байки об очередях в советских магазинах – за продовольствием, водкой, товарами первой необходимости. Да, было такое. Но не было ни одной семьи, которая бы недоедала, страдала от нехватки мясных, молочных и рыбных продуктов, потребление которых сейчас даже в сравнении с «голодными» восьмидесятыми снизилось в полтора раза и более. Итог? От дефицита качественных и натуральных продуктов питания, употребления огромного количества суррогатов, наконец, элементарного недоедания людей из малоимущих слоев население России медленно вымирает: численность ее жителей менее чем за два десятилетия сократилась на десять миллионов человек. Страна находится на пороге демографической катастрофы, наступление которой нынешний кризис может только ускорить.
…Спокойно-размеренная жизнь в стране и стиль аппаратной работы в ЦК КПСС были нарушены смертью Брежнева. Умер он неожиданно – уснул и не проснулся. Охранники его 40 минут пытались реанимировать, но безуспешно. Если принять во внимание состояние здоровья и возраст Леонида Ильича, то выглядит странным, даже невероятным, тот факт, что в злополучную ночь на даче не оказалось даже дежурной медицинской сестры. И это притом что после обширного инфаркта в 1975 году его чудом вытащили с того света и он мог в принципе умереть в любой момент. А ведь как мне потом рассказывали люди из окружения Брежнева, опасные симптомы начали проявляться с вечера – поужинал Леонид Ильич и на боль в горле пожаловался: «Тяжело глотать…» Его спросили: «Может, вызвать врача?» Он в ответ: «Нет, не надо!» Телевизор смотреть не стал, а поднялся из-за стола и пошел спать. Утром охранники обнаружили его тело еще теплым. Умер!
В стране эту новость еще долго не сообщали. По передачам радио и телевидения можно было, конечно, догадаться о том, что произошло: музыку по всем каналам передавали торжественно-печальную, из классического репертуара. Вечером 10 ноября министр внутренних дел Щелоков, поздравляя работников милиции с профессиональным праздником, имени Брежнева ни разу не упомянул. Случай беспрецедентный. А концерт эстрадных звезд, который всегда давали по случаю праздника, не состоялся. Опустился гнетущий занавес неопределенности, хотя, конечно, многие подозревали о случившемся несчастье.
Помню, на всякий случай я позвонил в приемную и поинтересовался, не нужен ли.
– Константин Устинович тобой не интересовался, – ответил дежурный.
Я знал, что началось заседание Политбюро. Что там происходит – тайна за семью печатями! Правда, довольно скоро выяснилось, кто назначен председателем «похоронной комиссии», а он, по традиции, всегда будущий генсек. Встретил в чуть ожившем коридоре коллег – они и рассказали.
А по радио из-за рубежа свои версии спешат изложить:
«…Борьба за власть началась не в это хмурое ноябрьское утро 10 ноября, а гораздо раньше – еще при Брежневе. И рвался к ней, конечно же, Андропов. По „закону“ он стать Генеральным не может – слишком далек от Брежнева. Перед ним длинная очередь секретарей ЦК, а под первым номером – Черненко. Но за Андроповым стоит не очередь из претендентов, за ним стоит Комитет государственной безопасности, который имеет досье на каждого претендента и в нужный момент может припомнить все прегрешения перед Богом, Царем и Отечеством!..
На Черненко, похоже, в КГБ ничего нет – его нельзя опорочить! Он один из немногих членов ЦК не вовлечен ни в какую коррупцию, не берет взяток, не прелюбодействует…»
Вот такие сообщения понеслись тогда в эфир из-за рубежа, и в них уделялось тогда выигрышным качествам Черненко немало времени. Но последуем за дальнейшими рассуждениями западных комментаторов:
«Для Андропова эта черненковская „чистота“ – неважное качество. Его трудно опорочить. А ведь с Брежневым, проживи он чуть дольше, эта операция прошла бы успешно: в самом начале 1982 года вокруг имени Брежнева закрутился целый ряд интригующих событий и фактов. Начали интенсивно распространяться слухи о том, что генсек резко и бесповоротно „впал в маразм“, потом была произведена „утечка информации“ о незаконных валютных операциях детей генсека, при этом говорилось, что они чуть ли не бегут за границу».
И пошло-поехало в том же духе. Интересно было послушать, как зарубежные голоса нагоняли страх на обывателя:
«…Еще не успело остыть тело покойного, как на отдаленных улочках Москвы загремели траками танки гвардейской Кантемировской дивизии, из кузовов крытых брезентом грузовиков посыпались на заснеженный московский асфальт солдаты дивизии госбезопасности имени Дзержинского. Их присутствие служит как бы катализатором для работы Политбюро в правильном направлении на этот час; как нам сообщают из Москвы, Политбюро расколото как минимум на два лагеря. Тихонов и Кунаев голосуют за Черненко. Устинов, Громыко и Романов – за Андропова. Кузнецов и Рашидов никак не могут занять определенной точки зрения. Кириленко и Пельше постарались отсутствовать по уважительным причинам. Щербицкий, Демичев, Пономарев и Горбачев, сперва бывшие на стороне Черненко, быстро сориентировались и встали на сторону солдат и танков, то есть Андропова…»
Нужно отдать должное западным журналистам: они умеют быстро соорудить правдоподобную информацию, да еще с множеством подробностей. Солдаты, танки, дивизии… Ничего этого, конечно, не было, хоть кого угодно в Москве спросите – никто не видел в эти дни танков, они гораздо позже в столице появились, в августе 1991-го… в октябре 1993-го. Но кое-что в этих сообщениях было похоже на истину. Например, противостояние Андропов – Черненко и анализ расклада сил. Все это было. В Политбюро активизировалась борьба за власть, наметилось противостояние, цель которого – если не выдвинуться на самый верх, то хотя бы всеми силами попытаться сохранить свои личные позиции. Но, тем не менее, голосование на внеочередном пленуме прошло единогласно: генсеком избрали Андропова.
Юрий Владимирович, совсем недавно вырвавшийся из аппарата КГБ на простор идеологического фронта (это произошло, как мы уже знаем, менее года назад – после смерти Суслова), не был настолько сведущ во всех тонкостях аппаратных игр, чтобы свободно ориентироваться во всех их хитросплетениях. Здесь зубр – Черненко, который почти 20 лет находится в самом сердце партийной бюрократии. Конечно, вокруг Андропова много новых, свежих сил, молодых кадров, но им тоже было бы неплохо хоть немного «повариться» в этом высшем партийном котле, набраться опыта. Как ни крути, но Андропову на первое время был нужен человек, который знал аппарат, который умел работать и смог бы управлять деятельностью Центрального комитета. Хотя после внезапной кончины Брежнева Черненко не стал первым человеком в партии, но лишать его сразу же положения второго лица в Политбюро не имело смысла – на первых порах он был нужен как опытнейший аппаратчик.
Пожалуй, с самого первого дня прихода Андропова к власти ему, как свежеиспеченному генсеку, стали самое пристальное внимание уделять западные политологи-«кремленологи», а также специалисты-«советологи» из ЦРУ. Я знакомился со многими аналитическими материалами, подготовленными по зарубежным публикациям тех лет, авторами которых были известные специалисты по Советскому Союзу: Роберт Дэниеле, Северин Биалер, Джерри Хав, Стивен Коэн, Мартин Эбон, Уолтер Дакар, Арчи Браун, Роберт Сервис и ряд других. В свое время соответствующие службы КГБ постоянно анализировали и систематизировали подобные исследования и периодически информировали об этом ЦК КПСС. Эти материалы поступали к руководству ЦК через Общий отдел и конечно же мне, помощнику Черненко, были хорошо известны.
Все западные авторы, во-первых, скрупулезно наблюдали за первыми и последующими шагами Андропова как во внутренних, так и в международных делах. И это было, конечно, не случайно. Запад ждал серьезных перемен в СССР после Брежнева и конечно же определенные надежды возлагал на то, что новый генсек возглавит движение за либерализацию советского строя.
Во-вторых, знакомые нашим спецслужбам зарубежные аналитики сосредоточили внимание на биографии Андропова, на страницах его прошлой службы. Своими многочисленными публикациями они как бы исподволь и ненавязчиво ориентировали нового руководителя партии и его «команду» на поворот политики КПСС в сторону либерально-демократических ценностей. Для примера я приведу несколько выдержек из таких публикаций, обратив внимание на то, что в них нередко упоминается и Черненко.
Так, в феврале 1983 года появилась статья в американском журнале «Харперс». В ней, в частности, говорилось, что «в ходе своей успешной борьбы за власть Андропов продемонстрировал умелое и очень циничное использование развединформации, что почти наверняка сделало его намного более серьезным противником с точки зрения Запада, чем был Брежнев».