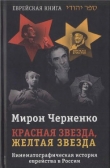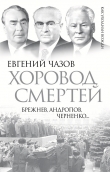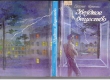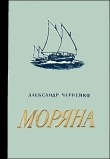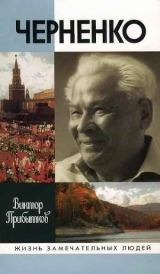
Текст книги "Черненко"
Автор книги: Виктор Прибытков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
В этом смысле большое значение в 1984 году имели переговоры Черненко с президентом Франции Миттераном. Их итоги показали, что существуют реальные возможности для расширения и углубления не только советско-французских экономических связей, научно-технических и культурных обменов, но и всего внешнеполитического сотрудничества наших стран. Это было тем более важно, что создавало предпосылки для дальнейшей активизации политики разрядки, борьбы за укрепление мира и безопасности в Европе и во всем мире.
И раньше, в семидесятые годы, взаимодействие СССР и Франции заметно влияло на благоприятное развитие событий в мире, способствовало утверждению разрядки. Черненко в ходе переговоров откровенно сказал Франсуа Миттерану: «Советский Союз, в том, что касается Франции, руководствуется не конъюнктурными соображениями, а тем, что сближает французский и советский народы. Мы придаем первостепенное значение поддержанию большей стабильности в советско-французских отношениях, ибо помимо взаимной выгоды это может принести сегодня немалую пользу упрочению международной безопасности, способствовать возрождению разрядки». И Миттеран, в свою очередь, выразил полное согласие с позицией советской стороны.
На протяжении всего 1984 года мы делали попытки восстановить деловые отношения, навести мосты с ведущими странами Запада, взяв за основу проблемы обуздания гонки вооружений. Весьма характерны в этом смысле были беседы К. У. Черненко с Гансом Йоханом Фогелем, председателем Социал-демократической партии Германии, и Нилом Кинноком, лидером Лейбористской партии Великобритании. И в том и в другом случае он старался убедить своих собеседников в том, что как советско-западногерманские, так и советско-английские отношения нельзя рассматривать в отрыве от политики ФРГ и Великобритании в вопросах разоружения.
Постепенно линия на восстановление взаимопонимания с ведущими странами Запада стала приносить свои плоды. До радикального перелома в развитии мировых событий было, конечно, далеко, но результаты визитов в Москву государственных деятелей Запада, их бесед с Черненко обнадеживали, показывали всем, кто хотел это видеть: такой перелом возможен, и Советский Союз делает все ради того, чтобы он стал реальностью.
Выступая за возрождение разрядки, новое советское руководство отдавало себе отчет, что очень не просто будет вернуться к тому, что было начато в семидесятых годах. Следовало извлечь урок из опыта прошедшего десятилетия – и положительного, и отрицательного. А он состоял прежде всего в том, что политическое сотрудничество может успешно развиваться лишь на основе неуклонного, шаг за шагом, сокращения военных потенциалов, реального разоружения. Но вот здесь концы с концами у нас не совсем сходились. Мы всё более и более втягивались в афганскую войну и не предпринимали реальных мер по свертыванию нашего участия в ней. В этом направлении Черненко, к сожалению, решительных шагов не делал, полагаясь во всем на Устинова и Громыко. И в этом, я думаю, была самая существенная слабость его позиции.


На приеме в Кремле. К. У. Черненко, М. С. Соломенцев, Л. И. Брежнев, Л. Н. Косыгин

Посещение Челябинска

К. У. Черненко и первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Т. У. Усубалиев на заводе сельскохозяйственного машиностроения в городе Фрунзе. 1979 г.

Посещение животноводческого комплекса под Кишиневом

К. У, Черненко и В. В, Гришин на встрече с избирателями Куйбышевского избирательного округа Москвы

Прогулка по Парижу. 1982 г.

Выступление Л. И. Брежнева при вручении К. У. Черненко второй золотой медали «Серп и Молот», Сентябрь 1981 г.

На земле древней Эллады

Кишинев. Вручение К. У. Черненко удостоверении об избрании депутатом Верховного Совета СССР

К. У. Черненко встречает Фиделя Кастро

В первые дни работы Генеральным секретарем ЦК КПСС

С премьер-министром Великобритании М. Тэтчер

На совещании Политического консультативного комитета стран – участниц Варшавского договора. 1984 г.

На встрече с лидером Афганистана Бабраком Кармалем. Февраль 1984 г.

С премьер-министром Швеции У. Пальме

На встрече с рабочими Московского металлургического завода «Серп и Молот». Апрель 1984 г.

К. У. Черненко встречают в Абакане

На даче в Подмосковье

К. У. Черненко с внуком

Последняя фотография К. У. Черненко. 20 февраля 1985 г.

Супруга К.У. Черненко – Анна Дмитриевна и начальник пограничных войск КГБ СССР генерал армии В. А. Матросов

Могила К. У. Черненко у Кремлевской стены

К. У. Черненко с супругой в музее Л. И. Брежнева в Кишиневе
Конечно, в любом случае за год работы, пусть даже самой напряженной, нельзя резко переломить тенденцию к росту международной напряженности. И все же в этом направлении было кое-что сделано, если сравнивать с положением, которое сложилось на международной арене к февралю 1984 года. Ведь к тому времени США от разговоров стали переходить к практической подготовке милитаризации космоса, что могло создать новую, чудовищно опасную ситуацию, чреватую самыми непредсказуемыми последствиями. Всего лишь за год до этого президент США Рональд Рейган объявил о принятии долгосрочной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, известной под названием «Стратегическая оборонная инициатива». Форсированное создание системы СОИ положило бы конец процессу ограничения и сокращения ядерных вооружений, стало бы катализатором бесконтрольного наращивания военных потенциалов по всем направлениям.
Нужны были выдержка, умение отыскать возможный выход из сложившегося положения, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение ключевой задачи – остановить гонку вооружений. Этот выход виделся в новом подходе к советско-американским отношениям. Однако в США еще осенью 1984 года либо не хотели, либо не готовы были понять, что иного разумного пути, чем нормализация этих отношений на принципах равенства, взаимной безопасности, – нет. Правда, первые подвижки в этом направлении все же делались и с их стороны.
В этом смысле определенное значение имела встреча Черненко с известным американским бизнесменом Армандом Хаммером, состоявшаяся 4 декабря 1984 года. Впоследствии доктор Хаммер подробно описал беседу с Генеральным секретарем ЦК КПСС в своих воспоминаниях, вышедших в свет в 1988 году. Эти воспоминания были опубликованы в восьмом номере журнала «Знамя» за 1989 год. Привожу здесь отрывок из них, непосредственно касающийся состоявшейся в Москве встречи:
«…Она была назначена на полдень. Я старался сосредоточиться в ожидании предстоящего разговора. Судьба предоставила мне возможность, которую я не должен был упустить. В течение десяти месяцев со дня смерти Андропова и после короткой встречи Черненко с вице-президентом Джорджем Бушем в день похорон ни один американец, кроме нескольких журналистов, не встречался с новым Генеральным секретарем. Да и их разговоры в основном состояли в зачитывании заранее приготовленных ответов на предварительно полученные вопросы. Сам Черненко не встречался с американцами со времен внушительной победы президента Рейгана на ноябрьских выборах.
В это время отношения между Америкой и СССР были хуже, чем когда-либо в течение шестидесяти пяти лет, с тех пор как я впервые приехал в Советскую Россию. Обе стороны называли друг друга „империей зла“. Было необходимо снова начать диалог, без промедления провести встречу на высшем уровне в надежде, что при личном общении Черненко и Рейган проявят теплоту, которая поможет растопить лед в отношениях между нашими странами.
Начиная с Ленина и кончая Брежневым, мои встречи с главами Советского государства всегда проходили в кабинете Генерального секретаря в Кремле. Поэтому я рассматривал как оказанную мне честь тот факт, что Черненко решил встретиться со мной не в кремлевском кабинете, предназначенном для официальных приемов, а на своем рабочем месте.
Когда двери открылись, я с интересом окинул взглядом огромную комнату, в которой меня ожидал новый руководитель СССР, один из самых влиятельных людей на Земле. Естественно, мне хотелось знать, правду ли говорят, что он больной человек. Он легко поднялся из-за стола, стоявшего в другом конце комнаты, и пошел мне навстречу, улыбаясь и протягивая руку для теплого, уверенного и сильного рукопожатия. Его слегка порозовевшее от волнения лицо и уверенные манеры не имели ничего общего с бледной, немощной фигурой, которую нам показывали по телевизору…
Я принес с собой подарок – письмо в кожаном переплете, которое Карл Маркс написал министру внутренних дел Великобритании лорду Абердеру в июле 1871 года в Лондоне. Это письмо было одним из документов, которые Маркс передал министру внутренних дел для создания штаба Коммунистического Интернационала в Лондоне. Преследуемый во Франции Маркс добивался права жительства в Англии. В письме была ссылка на корреспонденцию между Марксом и Авраамом Линкольном, в которой Маркс поздравлял Линкольна в связи с его переизбранием и освобождением рабов. Мне посчастливилось приобрести это письмо на аукционе „Сотби“ в Лондоне в мае 1984 года.
Теперь я подарил это письмо Черненко.
Он похвалил мои усилия, „направленные на развитие сотрудничества“, а затем сказал:
– Сегодня важнее всего найти практические пути предотвращения атомной катастрофы во всем мире. Я подчеркиваю – практические пути! В мире достаточно общих заверений о доброй воле… Чтобы действительно добиться разоружения, надо, засучив рукава, браться за дело и подготовить конкретные предложения.
Это прямо касалось меня: я привез с собой конкретные предложения.
Когда Черненко закончил читать свое заявление, он снял очки и отложил в сторону бумагу. Настала моя очередь:
– Господин Генеральный секретарь! В этом году в интервью в „Вашингтон пост“ вы сказали, что СССР несколько раз призывал Вашингтон последовать его примеру и обещать, что не применит первым ядерное оружие. Если Вашингтон согласится дать вам такое обещание… готовы ли вы… также обещать не применять первыми ядерное оружие?
– Как вы знаете, – сказал Черненко после весьма продолжительной паузы, – мы сделали это предложение более двух лет назад… Я повторил его для „Вашингтон пост“ и телекомпании „Эн-би-си“. Однако каждый раз, как мы даем подобное обещание, мы получаем отрицательный ответ от американского президента…
Я прервал переводчика и заговорил по-русски:
– Господин Черненко! Естественно, Америка будет придерживаться такой позиции, ведь вы обладаете куда большими запасами обычных вооружений…
– Предположим, что было бы наоборот… – прервал он меня. – Предположим, США сказали бы нам: „Мы готовы!“, а я бы ответил: „Нас это не устраивает“. Представляете, какой шум бы поднялся во всем мире: „Вот, СССР первым хочет применить ядерное оружие…“
Теперь переводчик стал нам не нужен. Мы прекрасно понимали друг друга. Разговор перетек в непринужденное русло. Я почувствовал большую уверенность и заговорил свободнее. Я старался убедить Черненко как можно скорее встретиться с Рейганом и не допускать больше в отношениях между нашими странами никаких проволочек из-за пререканий по поводу количества вооружений.
Черненко слушал меня с большим вниманием, не прерывая и не возражая.
– Мне было бы интересно узнать реакцию президента Рейгана, – сказал он в конце беседы, и я воспринял это как знак того, что при правильной подготовке можно решить и эту очень сложную международную проблему.
Интервью продолжалось уже больше часа, однако Черненко не проявлял признаков нетерпения вернуться к своим делам и его интерес к нашему разговору не уменьшался. Я почти закончил обсуждение вопросов, список которых составил перед встречей. Я выразил надежду на восстановление культурного обмена между США и СССР и сказал, что всё еще надеюсь организовать выставки картин Эрмитажа и Пушкинского музея в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, попросив оказать мне в этом деле помощь. Он обещал ознакомиться с этим вопросом.
Пришло время прощаться. Я заверил, что передам содержание нашего разговора Белому дому. „Я всегда готов немедленно приехать в Москву, если вы сочтете, что я могу быть полезным“, – сказал я.
„А теперь я хочу сделать подарок вам“, – сказал Черненко. Он обошел стол и подал мне громадный пакет в половину моего роста. Я долго возился с лентами и бумагой, пока, наконец, открыл коробку. В ней находилась великолепная ваза, украшенная прекрасной пасторальной сценой ручной росписи. Эта ваза была копией вазы, заказанной царем Николаем I на Российской императорской фарфоровой фабрике, одним из тех произведений искусства, которые я покупал в Москве в двадцатые годы.
Видя, как я доволен, Черненко просиял и обнял меня. Отношения между нами становились все теплее и казались началом настоящей дружбы. В то время я не мог знать, что эта моя встреча с Константином Черненко будет последней и ему никогда не доведется встретиться с президентом Рейганом».
Описывая в своей книге эту встречу, состоявшуюся всего за несколько месяцев до смерти Генерального секретаря ЦК КПСС, Арманд Хаммер по-человечески тепло отозвался о Черненко. Но писал-то он эту книгу, отнюдь не движимый желанием угодить кому-нибудь или подсластить горькую пилюлю. Хаммер – американец! Они, как правило, не кривят душой перед читателями – репутация дороже.
И еще: эта книга вышла много позже смерти Черненко, когда в России уже наступило время сноса памятников и бюстов, срыва со стен мемориальных досок.
Значит, сумел американский миллиардер разглядеть в лидере СССР нечто такое, что проскочило мимо доморощенных политиков и журналистов.
Помню, как несколько дней Черненко находился под впечатлением от этой встречи. Он был до некоторой степени очарован Хаммером. Завидовал его бодрости и энергии – в куда более преклонные, нежели у него самого, годы.
Черненко с восхищением говорил о Хаммере: «Надо же, с самим Лениным виделся…»
Перспективы советско-американских отношений в решающей мере зависели от того, будут или не будут за океаном сделаны реальные шаги к подготовке сокращения гонки вооружений, отказу от планов военного превосходства над СССР. Именно поэтому руководство Советского Союза предприняло большие усилия, чтобы склонить США к согласию начать переговоры по космическому и ядерному вооружению.
И реальные сдвиги произошли: в марте 1985 года начались советско-американские переговоры в Женеве. Предметом их стал целый комплекс вопросов, касающихся космических и ядерных (стратегических и средней дальности) вооружений. Цель, к которой стремились стороны, – выработка эффективных договоренностей, направленных на предотвращение гонки вооружений в космосе и ее прекращение на Земле, на укрепление стратегической стабильности. Путь к Женевским переговорам был долог и тернист. Но, думается, не будет преувеличением сказать, что именно тогда в фундамент новых советско-американских отношений были заложены первые камни. К сожалению, после смерти Константина Устиновича его «преемник» на посту генерального секретаря умудрился разрушить и эту важную конструкцию, поставил великую державу в унизительную зависимость от политики США и их западноевропейских партнеров.
Будем реально смотреть на вещи: Черненко как Генеральный секретарь ЦК КПСС, как Председатель Президиума Верховного Совета СССР не внес решительного поворота в ход внешней политики нашей страны. Просто, видимо, не смог за такой короткий срок. Но его кредо было четким и ясным – он был одним из горячих приверженцев советской концепции мира, которую всегда отличал открытый, конструктивный характер. Она никогда не была ни жесткой, ни бескомпромиссной.
Добиваясь радикального оздоровления международной атмосферы, выдвигая конкретные предложения, Черненко настойчиво доказывал, что Советский Союз не ставит ультиматумов, он вовсе не хочет сказать: или так, или никак. Напротив, заявляя о своей искренней готовности обсудить любые проекты и инициативы, СССР готов всегда внести в свои собственные предложения любые поправки и изменения. При этом необходимо соблюдать только одно, совершенно оправданное и естественное условие: наши партнеры также должны исходить из понимания необходимости упрочения всеобщего мира и безопасности, делом способствовать достижению этой цели. Черненко приглашал к диалогу, к честным и разумным переговорам.
Что подкупало всех руководителей западных держав и социалистических государств, провозглашаемые нашей страной внешнеполитические принципы он исповедовал совершенно искренне.
Глава десятая
Вымыслы и действительность
«Застой»: два взгляда на проблему. Противник перестройки. Андропов – Черненко: к вопросу о противостоянии. Планы и возможности. В поисках популярности. Реформа народного образования. Дети должны быть счастливы. К истории «сухого закона». Черненко как публицист. Взгляд Арбатова
Как многие считают, со смертью Черненко пришел конец эпохе «застоя». По их мнению, иного и быть не могло. При этом нам постоянно напоминают, что возглавил Черненко партию, будучи больным, в преклонном возрасте, да и по своим личным качествам, сформированным на чисто аппаратных должностях, он не мог постичь сложную науку управления огромной державой. К тому же ему трудно было контролировать положение в стране и потому, что к моменту избрания его генсеком атмосфера в обществе якобы была раскалена до предела и в стране сложилось положение, удивительно напоминающее революционную ситуацию, когда «низы не хотят» жить по-старому, а «верхи не могут» больше управлять государством.
Иллюстрациями к такому утверждению, как правило, служат рассказы о пустых полках магазинов и бесконечных очередях за колбасой и водкой. Правда, при этом почему-то не говорится о том, что, несмотря на имевшиеся проблемы со снабжением и работой предприятий розничной торговли, из холодильников самых что ни на есть простых граждан практически никогда не исчезали ни колбаса, ни мясо. Не имели они больших проблем и с другими продовольственными товарами, потому что почти все продукты питания были для них совершенно доступными. И даже попытки Горбачева претворить в жизнь свои путаные планы не помешали к концу восьмидесятых годов тому, что питание населения страны по своим качественным и количественным показателям вплотную приблизилось к международным медицинским нормам, а мясо-молочных продуктов на душу населения употреблялось в полтора-два раза больше, чем в нынешней, «процветающей» России. По этому показателю СССР занимал одно из ведущих мест в мире.
Огромным достижением социализма был равный доступ всех граждан страны к общественным фондам потребления, на которые направлялась огромная часть государственного бюджета в виде расходов на социальное обеспечение, просвещение, здравоохранение, физическую культуру. С учетом нынешней ситуации уместно напомнить о том, что подавляющее большинство основных видов лекарств производилось внутри страны, и стоили они копейки. Улучшалась обеспеченность людей жильем, которое было бесплатным, так же как были бесплатными образование и медицина: за четыре года пятилетки (1981–1984) жилищные условия улучшили 40 миллионов человек.
А что касается внутриполитической обстановки, то, при всех иронично-критических настроениях населения к руководящей верхушке КПСС, в стране царила стабильность и людей никогда не покидала уверенность в завтрашнем дне, залогом которой выступали предоставленные им государством социальные гарантии.
К сожалению, история конца семидесятых – первой половины восьмидесятых годов, как и весь советский период, была подвержена грубой фальсификации со стороны «архитекторов» и «прорабов» перестройки, которые в первую очередь должны нести ответственность за бедственное положение страны, сложившееся к началу девяностых. Очень быстро они «забыли», что настоящий обвал экономики начался не с тех проблем, которые испытывала социалистическая экономика, а с принятием весной 1988 года под их давлением Закона «О кооперации в СССР». Именно под флагом кооперативного движения развернулось реальное наступление на социализм. Подавляющее большинство созданных кооперативов паразитировало на теле государственных предприятий, не создавая никаких материальных ценностей.
Так начиналась невиданная по своему цинизму и размаху перекачка государственных средств в частный сектор, носившая в большинстве случаев откровенно противозаконный характер. Другими словами, пошел фактически открытый процесс ограбления государства, что привело к созданию над потребительским рынком огромного рублевого навеса – денежной массы, не находящей себе применения ни в сфере обращения, ни в сфере производства. Обрушение этого навеса стало главной причиной возникновения чудовищного дефицита, введения талонной системы, породило безудержную спекуляцию. Предпосылки политического переворота в стране и ее развала создавались умело и последовательно.
Впрочем, современные политологи и историки об этом стараются не вспоминать. Им ближе упрощенный подход к прошлому, создание примитивных стереотипов негативного восприятия советской действительности и их внедрение в общественное сознание. Ну а за массовое недовольство существовавшим при Брежневе порядком вещей, который по наследству достался сначала Андропову, а затем перешел к Черненко, выдается ими кухонная болтовня диссидентов, прятавших фигу поглубже в карманах.
Мы не намерены скрывать или затушевывать глубину и остроту существовавших тогда проблем. Однако объективности ради следует сказать, что уже в 1983 году у общественности страны возникли ощущения, что ожидания перемен были ненапрасными. У советских людей появились реальные надежды, что есть возможность справиться с трудностями, с которыми столкнулась страна в предыдущие годы. В соответствии с решениями ноябрьского (1982 года) пленума ЦК КПСС Политбюро во главе с Андроповым, государственные органы власти предприняли серьезные организационные меры, направленные на преодоление имевшихся недостатков. В результате улучшались качественные показатели во многих звеньях экономики. Например, национальный доход, использованный на потребление и накопление, медленно, но рос – за год он увеличился на 3,1 процента против 2,6 процента в 1982 году. Объем промышленной продукции вырос на 4 процента против 2,8, сельского хозяйства – на 5 процентов против 4. Главный показатель эффективности экономики – производительность труда – росла более быстрыми темпами, чем раньше: в промышленности она повысилась на 3,5 процента против 2,1 процента в 1982 году, в строительстве – на 3,1 процента против 2,2.
Наметившийся в народном хозяйстве перелом к лучшему подтверждают и данные государственной статистики по итогам следующего, 1984 года. Прежде всего росла производительность труда, за счет повышения которой был получен почти весь прирост национального дохода. По сравнению с 1983 годом увеличилось производство основных видов продовольствия – мяса, молока, яиц, масла животного, сахара-песка, кондитерских, макаронных изделий и других пищевых продуктов, а также целого ряда промышленных товаров широкого спроса.
Может, эти экономические показатели и покажутся кому-то более чем скромными. Но налицо был их рост, и, говоря об этом, невольно вспоминаешь, как спустя 20 лет рухнула экономика России. Ее ведущие когда-то высокотехнологичные отрасли промышленности – машиностроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение, авиа– и судостроение – сократили производство в несколько раз. Страна теперь живет в основном за счет нещадной эксплуатации недр, варварской добычи и продажи за рубеж сырьевых ресурсов – нефти, газа, угля. Практически отсутствует государственная поддержка товаропроизводителей всех форм собственности. Утрачена продовольственная и лекарственная безопасность страны, рушатся в результате бесконечных «реформ» ее вооруженные силы.
Особенно жалким выглядит сегодня состояние сельского хозяйства, объем капиталовложений в которое составляет не более одного процента от расходной части бюджета (напомним, что даже в худшие годы в Советском Союзе этот показатель не опускался ниже 10 процентов). Если на 1000 гектаров пашни в странах Европы приходится 114 тракторов, то у нас только восемь. В результате 40 миллионов гектаров пашни заросло бурьяном и чертополохом, поголовье скота сократилось более чем вдвое. По потреблению продуктов питания Россия с 7-го места, которое она когда-то занимала в мире, опустилась на 71-е.
И это – лишь фрагменты состояния экономики России, которые наглядно показывают суть «свободного, рыночного, капиталистического» ее развития. А ведь захвативший страну в свой водоворот мировой кризис грозит отбросить ее еще на несколько лет назад…
Нельзя сказать, что в последние годы жизни Брежнева и после него страна катилась по инерции. Понимание того, что обществу нужны кардинальные перемены, зрело, и зрело оно прежде всего в недрах партии, и в низовых, и в центральных ее звеньях. То, что страна нуждается в крупных переменах, мало у кого вызывало сомнение. И настоятельная потребность в перестройке возникла не вдруг, не как некое озарение Горбачева, снизошедшее на него сразу же после избрания генсеком и осенившее участников апрельского (1985 года) пленума ЦК КПСС. Потребность перемен – в общественной жизни и экономике, социальной политике, в решении многих внешнеполитических и внешнеэкономических проблем – ощущалась еще задолго до кончины Брежнева.
Заметим: то, что перестройка стала закономерным развитием настроений, царивших в партии и во всем советском обществе, не раз подчеркивалось в важнейших партийных документах и официальных публикациях в первое время после начала правления Горбачева. Правда, позже материалы такого характера исчезли из печати, а сам Горбачев присвоил себе монопольное право считаться родоначальником реформ восьмидесятых годов. Правда, желающих вступать с ним в спор по этому поводу не находилось ни тогда, ни, тем более, позже: за редким исключением никто не мечтал о сомнительной славе похоронщика великой державы.
Некоторые аналитики утверждают, что началу перестройки в стране положил Андропов, внедряя меры по укреплению трудовой дисциплины, расширению самостоятельности государственных предприятий, стимулированию труда. А далее ход их рассуждений сводится к тому, что с приходом после смерти Андропова к руководству страной Черненко все процессы начатых перестроечных мероприятий были заторможены и лишь только после смерти Черненко «знамя андроповской перестройки» поднял и понес Горбачев. (Итог похода этого «знаменосца» известен – крах СССР, а затем – годы ельцинского беспредела в России.)
Такое понимание короткого периода правления Андропова, а затем Черненко, на мой взгляд, выглядит слишком упрощенно и не соответствует истинному положению вещей. Андропов не был автором перестройки и не осуществлял ее в том горбачевско-ельцинском понимании, в котором она вошла в историю. Вместе со своими соратниками (а к ним, безусловно, относился и Черненко, несмотря на те его разногласия с Андроповым, которые вызывала сложившаяся расстановка сил в Политбюро) он стремился решительно отойти от ряда негативных явлений последних лет правления Брежнева, наметил и приступил к осуществлению мер по их исправлению или ликвидации.
По моему мнению, время с ноября 1982-го по март 1985 года можно было бы назвать периодом развертывания многосторонней подготовки к перестройке. Естественно, эти два года и четыре месяца в историческом плане – ничтожно малый срок. Вместе с тем этот период примечателен уже такой особенностью, что вместил в себя пребывание у руля партии и государства двух лидеров: Андропова (15 месяцев) и Черненко (13 месяцев). Изменились ли обстановка, общественно-политический климат в стране за этот короткий период? Несомненно.
Хотя видимых радикальных перемен и не произошло, площадка, или, может быть, правильнее сказать, подъездные пути для перестройки уже готовились тогда. Черненко, завершая этот переходный период, пытался внести свой посильный вклад в грядущие перемены. Мои наблюдения как человека, который все это время находился рядом с ним, подтверждают такой вывод. И мне кажется, что, будучи свидетелем происходившего, я имею некоторые основания высказать свои суждения по этому поводу, пусть даже они и покажутся субъективными. Но одно могу сказать: они – от жизни, а не надуманы в угоду времени.
Конечно, словосочетание: «Черненко и перестройка» – немыслимо. Немыслимо оно прежде всего потому, что мысль о перестройке здания, возведенного при социализме, Константину Устиновичу никогда бы не пришла в голову. И, уж конечно, он не воспринял бы ту перестройку, которая, как позднее выяснилось, означала ломку, разрушение «до основанья» всего, что было создано за годы советской власти.
Его настороженность к проявлению подобных настроений, а они уже проскакивали в поведении и действиях некоторых партийных функционеров, исходила не от косности, а от убежденности в правоте и торжестве социалистических идей, от веры в высокую жизнестойкость социалистического государства и созидательный смысл руководящей роли Коммунистической партии. Эти твердые убеждения можно назвать и ортодоксальными, но именно они не позволяли Черненко и мысли допустить о возможности слома существующего в стране общественного строя.
Такой, я бы сказал, благородный консерватизм был присущ не только ему, но и большинству других членов Политбюро, умудренных жизненным опытом. Не будем забывать, что люди преклонного возраста обладают и позитивными качествами, которые приобретаются только с годами. Среди них – способность видеть и предугадывать негативные последствия непродуманных начинаний, необоснованных ломок старого.
Для Черненко было ближе понятие «реформа», но в приемлемом для него смысле слова, подразумевавшем ремонт и совершенствование дававшей сбои партийно-государственной машины. Поэтому в своей практической работе на посту генерального секретаря он пытался сосредоточить внимание на наиболее «узких» местах, застопоривших развитие страны. Он в полной мере сознавал необходимость совершенствования управления экономикой страны, реформирования народного образования, повышения эффективности идеологической работы партии, улучшения всей деятельности партийного и государственного аппарата.
Черненко прекрасно сознавал, что нельзя топтаться на месте – это была, если хотите, его жизненная позиция, и возникла она задолго до того, как он стал лидером партии и государства. Пройдя все звенья партийной работы – от райкома до Центрального комитета и руководителя КПСС, Константин Устинович в полной мере понимал губительность застойных явлений, большого отставания от развитых западных стран, хотя первоначально и создавалось впечатление, что он тяготеет к брежневскому стилю правления с его замедленной бюрократической атмосферой и видимым благополучием.