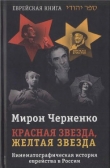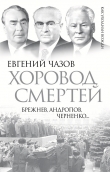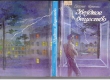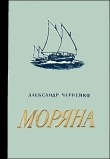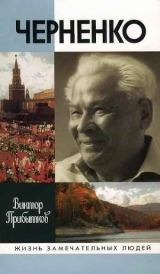
Текст книги "Черненко"
Автор книги: Виктор Прибытков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Возникает естественный вопрос: в чем же видел Черненко свои основные задачи как глава партии и государства и была ли у него собственная программа по преодолению проблем, доставшихся ему в наследство, и ускорению развития страны?
Конечно, развернутой программы действий к тому моменту, когда он стал генсеком, у него не было. Черненко полностью полагался на коллективный разум партии, который воплотился в решениях двух «андроповских» пленумов Центрального комитета, состоявшихся в ноябре 1982-го и июне 1983 года, и в материалах февральского (1984 года) пленума ЦК КПСС. Все они служили для Константина Устиновича, пожалуй, главными вехами, определявшими основное содержание практической деятельности партии. Он не раз, фактически до последних дней, подчеркивал их преемственность, что лишний раз доказывает, во-первых, его стремление отодвинуть страну от опасной черты, к которой приблизило ее царившее при Брежневе благодушие в верхних эшелонах власти, а во-вторых, несостоятельность попыток противопоставить его шаги андроповским начинаниям.
К примеру, уже на первом заседании Политбюро ЦК 23 февраля 1984 года, которое Черненко вел в ранге генсека, он призвал обратить внимание на «рост технического прогресса» и улучшение «порядка и дисциплины». Это были известные лозунги Андропова, и обращение к ним Черненко свидетельствовало о его полной поддержке начатой линии и желании продолжить ее.
Взаимосвязь деятельности этих двух лидеров налицо, и искусственно отделять политическую платформу одного от политики другого было бы неверно. Оба генсека пусть в разной, – хотя, откровенно скажем, в обоих случаях и незначительной, – степени, но успели только провести ряд подготовительных мер, давших толчок к неминуемому процессу перемен. Оба они сталкивались по существу с одинаковыми проблемами: у них было ограниченное временное пространство для серьезного экономического маневрирования и социальных экспериментов.
Можно сказать, что в решении принципиальных вопросов экономики и политики схожесть ситуации определяла схожесть шагов Андропова и Черненко на высшем посту в КПСС. Не трудно выделить и главные направления деятельности двух политиков, объединявшие их. Это прежде всего курс на всестороннее совершенствование построенного в стране социализма, сохранение его завоеваний. И одному, и другому свойственны: понимание необходимости осуществления мер по укреплению дисциплины, законности и порядка; попытки нацелить производство, в том числе и тяжелую промышленность, на повышение благосостояния народа; стремление преодолеть увеличивавшийся разрыв между научно-техническими достижениями и реальным производством. В правильности постановки таких стратегических задач трудно усомниться.
Но были между ними и существенные различия – это касалось главным образом рычагов, которые, по их мнению, должны были сдвинуть с места решение наболевших вопросов. Андропов с первых своих шагов явно опирался на службы госбезопасности, которые были ему близки и конечно же управляемы им. Черненко опирался на партийные органы, в первую очередь аппарат ЦК КПСС.
Определяя приоритеты в политике партии – развитие экономики, укрепление обороноспособности, совершенствование планирования, – Черненко, так же как и Андропов, искал поддержки и популярности в массах. Надо думать, не случайными были его неоднократные заявления, что постоянной заботой партии, ее целью будет «подъем благосостояния трудящихся», что она будет «последовательно укреплять связь с массами», «улучшать не только хозяйственную работу, но и воспитательную». Эти принципиальные позиции генсека публиковались в партийной печати под рубрикой «В Политбюро ЦК КПСС». Рубрика эта, введенная по инициативе Черненко, виделась ему как средство улучшения информирования масс о том, что делается на «верху», и развития партийной демократии; она как бы сопровождала весь период его пребывания на посту генерального секретаря.
В феврале 1984 года, очертив контуры стоящих перед страной проблем на заседании Политбюро, Черненко буквально через несколько дней развернул свои мысли на представительной встрече с работниками аппарата ЦК партии. Он, во-первых, предупредил участников совещания в ЦК, что не стоит рассчитывать на возвращение к старым временам, которые отличались благодушием, спокойствием и инертностью. Во-вторых, Константин Устинович высказал свое намерение проводить в жизнь самостоятельный политический курс, улучшать стиль и методы управления, совершенствовать организацию производства, развивать экономику. Обращаясь к работникам ЦК, он призвал их «работать так, чтобы обеспечить не только выполнение, но и перевыполнение заданий, установленных на 1984 год». При этом Черненко заметил, что намеченные им действия – не его личная инициатива, а «решение, выработанное коллективно».
В конце апреля 1984 года состоялась встреча Черненко с представителями трудового коллектива Московского металлургического завода «Серп и Молот». Здесь он, прямо скажем, пошел по пути Андропова, который в свое время встречался с рабочими Московского станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе. Напомним, что тогда такая встреча получила определенный положительный резонанс в обществе и послужила росту популярности генсека. Но прошел год, и выдвинутые Андроповым на встрече с коллективом завода конкретные предложения по совершенствованию производства, усилению стимулирования труда, поощрению технического прогресса сначала «зависли в воздухе», а потом и вовсе забылись.
Надо сказать, что и для нового генсека встреча с рабочими была организована фактически по тому же сценарию. Была лишь некоторая (но не принципиальная) разница между отдельными идеями и предложениями, высказанными на ней Черненко, и теми, которые «озвучивал» раньше Андропов. Так, в ходе этой встречи Константин Устинович говорил о необходимости интенсивного развития экономики: «Запасы у нас действительно немалые. Но они, как известно, природой не возобновляются». Он также высказался за бригадную организацию труда. «Эта форма стимулирования труда, – как отметил генсек, – получила путевку в жизнь».
Во время встречи с металлургами Черненко выдвинул идею перехода на прогрессивную оплату труда и подчеркнул, что не следует ждать итогов эксперимента, который проводил тогда Государственный комитет по труду и социальным вопросам, а насаждать и внедрять его в жизнь «там, где имеются условия».
Говорил Черненко и о трудностях в развитии производства, о сложностях, с которыми сталкивалась советская экономика на переломе семидесятых-восьмидесятых, выразил возмущение нерадивостью и беспечностью руководителей. Призывал он также «выйти на новые рубежи» путем высокопроизводительного труда и увеличения хозяйственной заинтересованности, соблюдения справедливости в системе вознаграждения за труд.
Несмотря, казалось бы, на актуальность выдвинутых задач, эта речь Черненко тоже довольно быстро забылась и многие высказанные в ней предложения не получили в дальнейшем воплощения в конкретные дела.
А вот его задумки и шаги по реорганизации системы народного образования имели довольно далекоидущие последствия, которые положительно сказались на постановке всего школьного дела.
Это была давнишняя мечта Черненко, его проект. Он вынашивал его долгие годы, еще при Брежневе, а затем и при Андропове, когда возглавил комиссию Политбюро по подготовке предложений по проведению школьной реформы.
Такое внимание Черненко к этим вопросам, на мой взгляд, имеет свое объяснение. Трепетное отношение к проблемам народного образования исходило из глубины души Константина Устиновича, в которой не гасло чувство благодарности советской власти, открывшей ему, простому деревенскому пареньку, широкую дорогу в жизнь. Не раз вспоминал он добрым словом школу крестьянской молодежи, которую окончил в двадцатые годы. Она стала для него стартовой площадкой, дала ему возможность продолжить образование в дальнейшем.
Не случайно в одной из своих публикаций он писал, что гордится одним из завоеваний нашей революции – тем, что советский народ стал самым образованным народом в мире. Приводил цифры: в царской России почти три четверти населения в возрасте 9—49 лет не умели ни читать, ни писать. Это была катастрофически низкая степень неграмотности, и другой такой страны к тому времени в Европе не было. Партия сразу же после революции выдвинула задачу – как можно быстрее ликвидировать неграмотность.
Черненко ссылался на Ленина, который подчеркивал, что «борьба с неграмотностью – задача важнее других», ибо «в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя», «безграмотный человек стоит вне политики».
«Должны были пройти десятилетия, – писал Черненко, – чтобы Запад понял и признал, что усилия молодого Советского государства, огромные по его возможностям того периода централизованные вложения в народное образование оказали решающее влияние на укрепление могущества СССР».
Осуществляя меры по реорганизации системы народного образования, Черненко надеялся, что она явится тем политическим рычагом, опираясь на который, можно будет преобразовать жизнь всего общества. По его мнению, через воспитание в школе, через общее и профессиональное образование, овладение основами производства у молодого поколения формировались главные принципы социалистического образа жизни, всего ее уклада.
Еще при Андропове на июньском (1983 года) пленуме ЦК Черненко в докладе «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии» особое внимание уделил проблемам образования молодежи, и в первую очередь вопросам ее профессионально-технической подготовки. Именно на этом аспекте работы он и сосредоточил основные силы. Не случайно в своем докладе на июньском пленуме он подчеркивал: «Нет необходимости доказывать значение раннего выявления способностей, дарования личности, правильного выбора профессии. От этого во многом зависят и производительность труда, и социальная активность человека, и его, если хотите, жизнь и судьба. Большими возможностями в этом плане располагает наша система профессионально-технического образования. К сожалению, в школах ее нередко рассматривают как средство избавления от так называемых трудных подростков. Такое отношение вредит и школе, и ПТУ. Нужно повышать авторитет училищ. Укреплять их материально-техническую базу и кадры, улучшать учебно-воспитательный процесс. Следовало бы продумать систему более действенных льгот их выпускникам при поступлении в вузы».
Черненко энергично поддерживал опыт ленинградской областной партийной организации, который благодаря его заботе стал достоянием всей страны. В Ленинграде и области тогда сумели наладить четкие, деловые отношения между школой, ПТУ и предприятиями. Выпускники профтехучилищ стали там основным источником пополнения рабочего класса. Многие регионы взяли опыт ленинградцев на вооружение, что, безусловно, способствовало укреплению и развитию профтехобразования в стране.
Реорганизацию системы народного образования Черненко активно продолжил, будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС. По его инициативе развернутый план школьной реформы был вынесен на обсуждение апрельского (1984 года) пленума ЦК КПСС. По мнению ведущих специалистов отрасли, еще ни одна из проводимых ранее школьных реформ не имела столь всеобъемлющего характера, не предусматривала такого глубокого сдвига социальных слоев и коренной ломки общественных отношений.
На апрельском пленуме Черненко выдвинул лозунг «Превратить школьный класс в рабочий!». Преобразование школы, которое намечалось осуществить в течение двух пятилеток, должно было предоставить производству миллионы дополнительных рук, приобщить школьников к конкретному труду. В планах реформы, в частности, предусматривалась необходимость направлять часть заработанных учащимися средств в распоряжение школьных коллективов. В перспективе намечалось, что школьные предприятия и хозяйства позволят перевести всю систему образования на самоокупаемость.
Утопия? Фантазия? Может быть и так. Но Черненко верил в задуманное. «Мы ждем от реформы, – говорил генсек на апрельском пленуме, – отдачи экономической, кадровой. Каждое созданное для старшеклассников рабочее место должно будет приносить обществу конкретный результат – пусть небольшой, но реальный». Он верил, что при благоприятном исходе задуманной им школьной реформы сотни тысяч учащихся пойдут на заводы и фабрики подготовленными, квалифицированными специалистами, приобретут в школе необходимую им и обществу профессию.
Черненко предложил свой проект для всенародного обсуждения. Он верил, что советское общество поддержит его идею. Но этим его задумкам, увы, не суждено было осуществиться.
После его скорого ухода из жизни в стране все стало быстро меняться, да и самого СССР вскоре не стало. К чему привели горбачевские и ельцинские реформы и «перестройки», в том числе и в сфере образования, теперь хорошо всем известно. Было разрушено, а в некоторых регионах и полностью уничтожено профессионально-техническое образование. В стройной системе среднего и высшего образования воцарились абсурд и неразбериха, которые на многие годы отбросили страну назад, перечеркнули все достижения в области народного просвещения, всё то, что в Советском Союзе создавалось десятилетиями, что было признано во всем мире.
Трудно поверить, что на развалинах когда-то добротной системы среднего и высшего образования нынешние руководители России могут создать что-то путное. Все то, что осталось нам в наследство от советской власти и еще уцелело, продолжают ломать через колено, подражая самым примитивным западным стереотипам, пытаясь примерить на Россию Болонскую систему. Полным ходом продолжается «роботизация» учащихся, из учебного процесса выхолащивается гуманизация, игнорируется принцип политехничности, который всегда лежал в основе отечественной системы образования. Полноценное высшее образование после его разделения на две ступени – бакалавриат и магистрат в ближайшие годы для молодых людей из семей даже со средними доходами будет попросту недоступным.
Едва ли Черненко мог предположить, что когда-нибудь настанет такое время, что в стране, словно в период разрухи после Гражданской войны, миллионы детей будут беспризорными и безнадзорными, а два миллиона подростков – безграмотными. Увы, такое положение вещей сложилось в современной России. Трудно представить себе подобное в прежние времена, когда политику государства отличала особая забота о детях.
Черненко относился к тем людям, которые не только понимали значение полноценного воспитания подрастающего поколения для будущего страны, но и делали все для того, чтобы вслед за лозунгами следовали конкретные дела. На мой взгляд, один яркий пример характеризует искренность отношения Константина Устиновича к проблемам детства. А то, что это так, я смог убедиться, когда проникся заботами известного писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова. Он обратился ко мне с просьбой оказать содействие в решении вопросов качественного улучшения деятельности детских домов и школ-интернатов, а также воссоздания детского фонда имени Ленина. Такой фонд существовал ранее, и был он создан в 1924 году на съезде Советов, посвященном памяти пролетарского вождя. Главной его целью стала борьба с беспризорностью, но в 1938 году фонд закрыли в связи с полной победой советской власти.
Тогда беспризорность удалось искоренить (казалось бы, навсегда), но спустя годы проблема обернулась другой стороной – в тяжелом состоянии оказались детские дома страны, которые остро нуждались в государственной и общественной поддержке. Лиханов рассказал мне, что до избрания Черненко генеральным секретарем он не раз обращался в ЦК, но внятного ответа на поднятый вопрос так и не получил. После того как я доложил суть проблемы Константину Устиновичу и представил ему все документы о бедственном положении детдомовских детей, дело сдвинулось с мертвой точки и получило «зеленый свет». Буквально в течение суток Черненко нашел время, чтобы ознакомиться со всеми материалами. Вопрос был вынесен на Политбюро, а Гейдару Алиеву, который в то время был членом Политбюро и первым заместителем председателя Совета министров СССР, было дано поручение подготовить соответствующее решение правительства. Кстати, записка, которую подготовил Лиханов для Черненко, была очень обстоятельна – достаточно сказать, что в ней было 45 пунктов.
В январе 1985 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка, детских домах и школах-интернатах». Многие из его положений действуют и до сих пор. А Лиханов вспоминает об истории рождения этого документа как о большой победе после трудной битвы, которую писатель, по его воспоминаниям, вел 26 лет. И победил благодаря поддержке Черненко.
Произошедшие сдвиги ускорили работу по воссозданию детского фонда имени Ленина, который возобновил свою работу в октябре 1987 года. В 1991 году он был преобразован в Российский детский фонд. К сожалению, в смутные девяностые годы, с приходом в страну рыночных отношений, всё изменилось и от ряда проектов, которые осуществлялись на основе благотворительности, пришлось отказаться. У бедных не было денег, чтобы помочь чужим детям, а богатых подобные проблемы не волновали.
* * *
Говоря о серьезных сдвигах в работе по ряду направлений, во избежание недоразумений еще раз хочу заметить: все попытки обнаружить у Черненко какие-то целостные программы будут тщетными. Глубоко убежден, что трудно будет их обнаружить и у его предшественника – Андропова. Причина проста: у обоих этих лидеров было просто слишком мало времени, чтобы их продумать и разработать. К тому же они прекрасно понимали, чем может обернуться спешка, к чему может привести дешевый популизм, желание прослыть «новатором». Думается, Горбачев за несколько лет своего правления нам это хорошо продемонстрировал.
И все же основные контуры стройной программы в действиях Черненко, как и Андропова, уже прослеживались. Другого и быть не могло – ведь нельзя было похоронить идеи обновления общества, которые созрели еще в недрах брежневского периода, ожиданием которых жили люди. Возьму на себя смелость сказать, что в периоды работы генсеками Андропова и Черненко многие перестроечные процессы пошли свободнее, стали проникать во все сферы жизни. Поэтому было бы справедливо рассматривать время этих лидеров как годы переходного периода, годы постепенного освобождения от целого ряда стереотипов застоя, годы, открывшие путь к широкому наступлению перемен.
Для примера можно обратиться к пакету документов ЦК и Совмина, которые были приняты за это короткое время правления Андропова и Черненко, хотя я хорошо понимаю, что принятый документ – это аргумент еще не совсем убедительный. Ведь любая, даже самая лучшая директива руководства – это очень часто только благое намерение и до конкретного дела еще далеко. И тем не менее даже беглое перечисление важнейших документов партии и правительства этого периода только по вопросам внутренней политики подтверждает явный поворот руководства страны в сторону укрепления экономики страны, упорядочения дисциплины, решения многих наболевших социальных проблем.
Среди них можно выделить два «андроповских» постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР – от 14 июля 1983 года и 2 февраля 1984 года, – определивших рад конкретных дополнительных мер по расширению прав и хозяйственной самостоятельности производственных предприятий и объединений промышленности бытового обслуживания населения, положившие начало глубокому и интересному экономическому эксперименту. В специальном Постановлении ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС, принятом 28 июля 1983 года, было намечено усилить работу по укреплению социалистической дисциплины труда. В Постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1983 года «О дальнейшем развитии и повышении эффективности бригадной формы организации и стимулирования в промышленности» содержится целая программа совершенствования форм и методов хозяйствования.
При Черненко был принят пакет постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР по осуществлению основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы, которые были намечены на пленуме ЦК КПСС 10 апреля и сессии Верховного Совета СССР 12 апреля 1984 года. Можно отметить Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 26 июля 1984 года «О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих» и целый ряд других важнейших документов.
Константина Устиновича волновали многие вопросы экономики и управления, тревожила запущенность многих социальных проблем. У него было немало задумок, связанных с предстоящей реформой народного образования, с необходимостью коренного улучшения работы Советов, профсоюзов, комсомола, органов народного контроля, творческих союзов. Он планировал как можно чаще бывать в трудовых коллективах, встречаться с рабочими и колхозниками, чтобы вместе с ними выверять свои начинания и действия. К сожалению, состояние здоровья так и не позволило ему воплотить в жизнь задуманное. После встречи на заводе «Серп и Молот» силы начали покидать его. Он выступил еще на ряде совещаний – на Всеармейском совещании секретарей комсомольских организаций, на пленуме правления Союза писателей СССР, на Всесоюзном совещании народных контролеров. Но на собрании его избирателей в Куйбышевском избирательном округе Москвы в феврале 1985 года он уже не смог присутствовать из-за болезни.
Но, испытывая недомогание, он не хотел сдаваться, мечтал о выздоровлении и полноценной работе. Его повседневно занимали вопросы необходимости развертывания подготовки к очередному съезду партии, работы комиссии ЦК КПСС по подготовке новой редакции Программы КПСС, председателем которой он был утвержден. Со съездом он, пожалуй, связывал свои основные надежды, полагал, что именно форум коммунистов Советского Союза сможет определить основные пути продвижения вперед. Но многому из задуманного так и не суждено было воплотиться в жизнь, осуществиться на практике. Главная причина здесь – пресловутый фактор времени.
Хотя и Андропов, и Черненко, скорее всего, понимали свою личную причастность к возникновению и развитию в стране негативных тенденций, определенную вину и ответственность за сложившееся в ней положение, у меня не вызывает сомнения искренность их намерений. Пусть многие из них так и остались призывами и лозунгами, но ведь слово в обществе само по себе играет немалую роль. Слово – главное средство воздействия на умы и сердца людей. А живое, выстраданное слово всегда предшествует большому делу. Но в то же время от слова, пусть горячего, искреннего, до конечного результата – порой очень большая дистанция. И все же наши партийные лидеры, пришедшие после Брежнева, стремились преодолеть ее, отойти от бессодержательного декларирования задач и предпринять всё от них зависящее для оздоровления обстановки.
Не всё, конечно, шло гладко. Мне вспоминаются, например, перипетии, связанные с принятием документа о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Наделавший столько бед, принесший громадные убытки нашему государству горбачевский антиалкогольный закон считается одним из наиболее неудачных детищ перестройки. Однако родился он не вдруг, не в мае 1985 года. Несколько вариантов документа по этой проблеме готовилось давно. Их проекты не раз рассматривались на Политбюро ЦК КПСС. Еще в начале семидесятых годов старейший академик страны С. Г. Струмилин обратился в ЦК с большой и подробной запиской, предупреждающей о грозящей нам опасности, которая придет неизбежно, если вовремя не будут приняты решительные меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом в СССР.
Записка академика в печати не публиковалась, но, как это часто бывало в советское время, была каким-то образом размножена и в списках активно ходила по рукам. Убийственные сравнительные данные из нее о потреблении спиртного в стране, о грозящей катастрофе для будущего нации приводили в своих выступлениях лекторы самого высокого ранга, докладчики и агитаторы.
Говорят, что документ, подготовленный академиком, произвел глубокое впечатление на Брежнева, и он велел продумать и внести в Политбюро предложения по борьбе с нависшим над страной злом. Разработка мер по преодолению пьянства и алкоголизма затянулась на несколько последующих лет. По роду своей работы мне довелось в то время предварительно знакомиться со многими проектами документов, которые вносились в Секретариат и Политбюро ЦК. И, естественно, с вариантами будущего антиалкогольного закона я был тоже знаком. Главная идея первоначальных проектов заключалась в том, чтобы постепенно сокращать производство крепких спиртных напитков (в первую очередь водки) и одновременно расширять производство сухого вина и пива. Общий объем потребления алкогольных напитков в пересчете на объем потребления сухого вина на душу населения практически не снижался. В проектах предусматривались меры по внедрению «культуры пития», усилению антиалкогольной пропаганды, повышению роли общественности в этом деле.
Как это нередко случалось, проекты рассматривались и возвращались на доработку, а практических шагов не предпринималось. Позднее проекты решений и документов и вовсе отложили в «долгий ящик». После смерти Брежнева пришедший ему на смену Андропов, насколько мне известно, также не спешил издавать этот закон. Напротив, он начал с того, что, наряду с укреплением дисциплины, санкционировал выпуск нового сорта водки по пониженной цене, сразу же получившей свое название в народе – «андроповка».
С первых дней прихода Черненко к власти группа инициаторов, у которой никак не утихал административный зуд борьбы и запретов, стала искать поддержки у нового генсека. Снова были подняты проекты документов о борьбе с пьянством и в доработанном виде, по указанию Черненко, разосланы членам и кандидатам в члены Политбюро на предмет всесторонней проработки, внесения предложений и обмена мнениями в дальнейшем. Предложения были вскоре получены. К слову, всеобщего одобрения не было.
Запомнилось, с какой логикой и убедительностью в своей записке на имя Черненко бывший в то время кандидатом в члены Политбюро и первым секретарем ЦК Компартии Грузии Шеварднадзе отстаивал вековые традиции виноградарей Грузии. Дело в том, что в проекте документа категорически запрещалось производство в домашних условиях виноградной водки (чачи). Шеварднадзе подробно описывал, что чача в грузинских селениях всегда производилась сообща из отходов виноделия и делилась между всеми жителями. Автор записки подчеркивал, что разрушить народную традицию просто немыслимо. Были разумные доводы и в других записках, но информация лидера Грузии почему-то более всего запомнилась Черненко и заметно повлияла на его позицию. Так или иначе, новый генсек сказал: «Спешить не будем» – и отправил бумаги на дальнейшую доработку.
При Черненко «звездный час» ярых борцов за трезвость так и не настал. Но он пришел сразу же после апрельского (1985 года) пленума ЦК. Проект антиалкогольного закона лег на стол к новому лидеру страны – Горбачеву, но только теперь уже в новой, перестроечной обертке, под знаменем непримиримой борьбы против застоя. Закон вскоре был принят. А к чему это привело, читатель знает.
* * *
Работая над этой книгой, я не раз обращался к публичным выступлениям и статьям Андропова и Черненко. Эти материалы еще и еще раз убеждали меня в серьезности и реальности их намерений как можно скорее вырваться из того состояния, в каком находилась страна конца семидесятых – начала восьмидесятых годов. Я уже упоминал о большом воздействии на умы статьи Андропова «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР», его речи на июньском (1983 года) пленуме ЦК КПСС. Если они еще и не давали ответов на злободневные вопросы, то, во всяком случае, заставляли оглядеться вокруг и задуматься. Не вызывало сомнений, что партия ориентировала коммунистов на то, что впереди – большая и нелегкая работа, а перед тем, как к ней приступить, очень многое следовало понять, переосмыслить сложившиеся представления о социалистическом обществе, о сохраняющихся в нем противоречиях.
Константин Устинович не случайно подчеркивал преемственность в своей политике, поскольку он хорошо понимал суть проблем, поставленных его предшественником. Черненко – человек думающий. Говорю об этом с полным основанием, потому что мне довелось ознакомиться почти со всеми его более или менее значимыми статьями и, конечно, книгами. Сейчас они могут вызвать интерес, наверное, лишь у специалистов да историков, а в свое время их довольно пристально читали и находили в них отнюдь не тривиальные мысли. Я говорю об этом потому, что представление о герое нашей книги будет неполным, если не затронуть чисто творческой стороны его личности, его деятельности как публициста и автора.
Черненко начал выступать в печати еще в тридцатые годы, в период его работы в райкомах партии, а затем в Красноярском крайкоме ВКП(б). Особенно страстными и убедительными были его статьи военных лет, которые публиковались в «Красноярском рабочем» и с большим интересом воспринимались читателями и партактивом. Позднее статьи Черненко периодически печатались в Пензенской областной партийной газете, в газетах и периодических изданиях Молдавии.
В годы работы в Отделе пропаганды ЦК КПСС Черненко был утвержден членом редколлегии журнала ЦК «Агитатор» и нередко выступал на его страницах с основательными и полемическими статьями. Коллеги Черненко считали, что у него «цепкое перо».
Публицистическую деятельность Черненко продолжил и позднее, будучи заведующим Общим отделом, секретарем ЦК и конечно же Генеральным секретарем ЦК КПСС. В последние годы работы Черненко в ЦК вышли в свет наиболее значительные его труды.
Надо отметить, что и другие члены Политбюро, секретари ЦК КПСС периодически публиковали свои книги, главным образом в Политиздате. Это были, как правило, избранные речи и статьи за какой-нибудь определенный период их деятельности. Такая практика, по сути, вошла в правило, считалась чем-то вроде обязательного ритуала, и поэтому вполне естественно, что и у Черненко были такие издания.
Но наряду с этим он большое внимание уделял подготовке фундаментальных работ, касающихся широкого круга общепартийных задач. Главная их тема – стиль, формы и методы работы партийного и государственного аппарата. Эти вопросы ему как «хранителю партии» были особенно близки. Одной из таких работ можно считать его фундаментальный труд «Вопросы работы партийного и государственного аппарата», который вышел в свет в 1980 году. Хронологическая последовательность изложенных в книге материалов позволяла читателям ознакомиться с историей вопроса, последовательно проследить за развитием деятельности по укреплению и совершенствованию работы партийно-государственного аппарата.