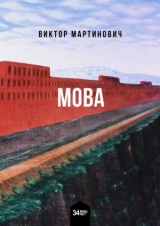
Текст книги "墨瓦 Мова"
Автор книги: Виктор Мартинович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Мы спустились на нижний уровень и увидели в стене, по которой карабкались, большое арочное окно. Элоиза забралась внутрь и позвала за собой, рекомендовав поберечь голову. Я осторожно шагнул туда, внутрь, заметив в темноте что-то огромное, грушеподобной формы. Прикоснулся – холодный металл. – Это же колокол! Вроде тех, что бывают в китайских храмах! – Мы на башне-звоннице. Тут есть лестница.
Сверху струился скудный свет. Я нащупал деревянную лестницу и полез следом за Элоизой. Вскоре мы оказались на ровной площадке внутри башни. Она щелкнула тумблером, зажглось электричество. Отсюда вниз вели кирпичные ступени. Мы спускались по ним, и в голову лезли всякие приключенческие фильмы, которые показывают по net-визору, когда хотят привлечь аудиторию перед важными для правительства новостями. Идти пришлось довольно долго, лестница была винтовой, над головой был лишь низенький потолок, по которому протянут провод с электрическими лампочками. Наконец лестница кончилась, проход повернул, и мы оказались в полной темноте. Судя по тому, что каждый наш шаг сопровождало долгое эхо, помещение было огромным. – Стой тут! Вот тут, – приказала она мне. Я сейчас.
Она исчезла, потом откуда-то донесся щелчок еще одного выключателя. И вдруг весь зал озарился щедрыми потоками света, струящимися сверху. Лампы были установлены за окнами так, что возникала иллюзия, что снаружи – яркий солнечный день. Стены были выкрашены розовым, под полуарками с цветистыми навершиями стоял старый китайский грузовик с деревянным кузовом и темно-зеленой кабиной. Причем даже номера у него были китайские – странно, что он добрался до нашей провинции из самой Поднебесной. Сзади, прямо на полу, лежала голова второй башни – по какой-то непонятной причине она не рассыпалась в прах, обрушившись сюда, внутрь здания. Где-то наверху что-то скрипнуло – эхо гуляло в пустоте несколько секунд. Храм заговорил голосом Элоизы. Из-за особенностей помещения все, что она произносила, раздавалось очень громко, хотя говорила она, кажется, совсем тихо. Каждое слово раздавалось три раза, отзываясь в левом, центральном и правом нефе. – Я сейчас тебе покажу… Эту вещицу написала… одна женщина… – Элоиза вздохнула, и я услышал этот вздох так отчетливо, будто она дышала мне в ухо. – Получилось так сильно… Что это она была запрещена для исполнения в Минске. А память о той женщине полностью уничтожена после смерти. Боролись с ней мертвой, как с живой. Хотя слова, рожденные сердцем, убить невозможно.
Грянул орган. Я дернулся от неожиданности. Я не знал, что тут сохранился инструмент. И не знал, что она умеет на нем играть, потому что, кажется, во всей России сейчас не найти человека, который умеет управляться с этой штуковиной. Аля выдала несколько пробных аккордов, и храм подхватил их. Звук стал настолько плотным, что его, казалось, можно потрогать.
Вступление состояло из ряда мелодических шагов, которые напоминали лестницу с пропущенными пролетами. Любая органная музыка в храме – это лестница в небеса, вопрос только в том, способен ли ты по этой лестнице подняться.
И тут она запела. Эта ее песнь была чем-то таким, что происходило только между ней и храмом, а, может быть, и мной, хотя я там был лишь случайным свидетелем. Я сразу понял две вещи. Во-первых, она пела исключительно для самой себя. Ее песнь несла нечто подобное тому, что происходит, когда люди зажигают палочки благовоний перед Буддой и Рамой. Или когда покупают отпущение грехов в храмах-бутиках. Она не пыталась произвести на меня впечатление или даже рассказать о своем культе. Просто пела. Во-вторых, я внезапно понял, что для нее мова – это Беларусь, и она же – ее Бог. И это никак не объяснишь, кроме как с помощью звуков ее песни и игры на органе в заброшенном храме. Потому что дурак, который не знает, что такое Беларусь, обожествляет сумочку из храма-бутика Hermes и не может двух слов связать на мове, по-другому не поймет.
Это было так искренне и интимно, что я не буду описывать воздействие, которое на меня оказала мелодия… Потому что, знаете, я слишком сентиментальный… И к тому же не очень удобно писать, когда на клавиатуру льются слезы и сопли. Просто напомню слова из той, как она выразилась, вещицы. Слова там были такие:
«Магутны Божа! Ўладар сусветаў,
Вялікіх сонцаў і сэрц малых.
Над Беларусяй, ціхай і ветлай.
Рассып праменне Свае хвалы».[39]39
Фрагмент стихотворения Натальи Арсеньевой «Магутны Божа» («Малітва»), которое было положено на музыку Николаем Равенским и стало гимном белорусской эмиграции и национального движения.
[Закрыть]
И вот эти слова про «праменне свае хвалы» меня особенно впечатлили. Я представлял себе, как в плотной череде туч, бывает, промелькнет прогалина, а из нее ударит луч солнца, и покажется, что там, на небесах, среди облаков и голубого великолепия, живут счастливые и чистые души. Я плакал, когда она спустилась. Мне было стыдно, потому что мужики не плачут. Она стала рядом и, деликатно отвернувшись, сказала: – Теперь вижу, что понял. Подняла голову, посмотрела на арки над нашими головами. Прислонилась к стене. Каждое движение ее тела сопровождал каскад звуков, эхо затухающих шорохов. – Знаешь, почему мы боремся за слова? – спросила она. – Потому что когда исчезнут они, исчезнет и Беларусь? – Беларусь уже исчезла, – покачала она головой. – Тут дело в другом. Мова – это этика. Это наше исконное понимание того, что есть добро, а что есть зло, зашифрованное в словах. Ты видишь, как тут все? Через какое место? Причем, заметь, так было всегда. Как только находился достойный человек, его всегда рьяно «привлекали к ответственности». Свои же, не чужие. Черное – это белое, белое – это черное. Палачи, именами которых до сих пор названы улицы. Пельмени «Петровские» и каша «Суворовская». Памятник Дзержинскому. Люди, которые не могут отличить подвига от преступления. И тут же рядом – филоматы и филареты, Калиновский. – И как это связано со словами? – спросил я, потому что не знал, кто такие эти филареты. – Самым непосредственным образом, – она вздохнула. – На мове говнюк назывался говнюком. Пришли другие языки, где много новых слов. Люди растерялись. И в этой растерянности живут до сих пор. Дай людям слово, и они вспомнят, что такое добро.
Она снова замолкла. Потом подошла ко мне, прижалась щекой к моей груди и прикоснулась рукой к волосам у меня на затылке. – Мы никогда не будем вместе, – сказала она без всякой связи с теми вещами, о которых мы рассуждали до этого. – Никогда, Сергей.
У меня перехватило дыхание. Я поднял руку, чтобы обнять ее, но она уже отошла и быстрыми шагами спускалась по лестнице, ведущей к выходу из храма. Щелк – и свет за окнами погас, оставив после себя лишь воспоминание о лучах божественной милости, рассыпанной над облаками. Мы никогда не будем вместе.
Джанки
Я какое-то время не заглядывал к своему голубоглазому барыге-Дрыщу, потому что возникли временные траблы с денежно-кредитным балансом, и мне нечего было есть. Не рассчитал с паузами в занятости, с любым Диогеном может случиться. Неделю жил на двадцать юаней – завтракал яблоками, ужинал украденным в ларьках шоколадом. Еще месяц такой жизни, и я всерьез бы рассмотрел перспективу приобретения плиты. Чтобы запекать картошку в углях, или что они там готовили, когда были «семьи» и люди питались тем, что приготовили самостоятельно.
Потом я съездил в Смолевичи, стырил там планшет в «Седьмом элементе» – я так и знал, что на окраинах секьюрити менее бдительное, чем в центре Минска. К тому же я и сам работал охранником и хорошо знаю, как снимаются аларм-фишки и как нужно одеваться, чтобы на тебя не обращали внимания. Планшет я хорошо загнал цыганам: двести юшек, сто можно оставить на еду, а за сто купить два свертка. Или даже три свертка и пятьдесят на еду. Как говорит Писание: будьте, как птицы небесные, не думайте о питании, предоставьте это богу.
«Хочешь у нас работать?» – спросила солидная цыганка, которая вынесла мне деньги. Колец на ее пальцах хватило бы на то, чтобы заполнить витрину в китайской ювелирной лавке. Отличие только в том, что они были из настоящего золота, а не из поддельного. Вот же жизнь пошла – никто, кроме цыган, не носит настоящего золота. «Хорошая работа есть, сумками торговать на Ваупшасова, – предлагала она. – Сумки не краденые, не краденые! Сами шьем, дочка моя шьет. В «Беларуси» фурнитуру берем и шьем. Хорошие сумки. Менты почти не гоняют». Я отказался. Торговать сумками у цыган – это не совсем та работа, которая подошла бы Диогену.
Так вот, я пришел к Барыге, а у него – новая дверь. И весь подъезд перекрашен. Думаю, ничего себе. В Зеленом луге уже начали подъезды красить! Может, революция в стране? И теперь быдло с Зеленого луга у власти?
Я позвонил, он открыл, смотрю я на эту новую дверь. А там – зайчик ты мой! – миллиметровая сталь, блокировка от взлома, закрытые петли, испанский замок! И открываются они с таким респектабельным шумом, будто за ними – золотой запас республики Конго, не меньше. – Ничего себе! – говорю. – Зачем тебе такая дверь?
А он голову в щель просовывает, как всегда, а шея у него худая, как у цыпленка. Ну говорю же, Дрыщ! Сейчас спросит: «Сколько?». Но он вместо «сколько?» смотрит на меня какое-то время, потом говорит, как-то несколько замогильно: – А, это ты. – Ну, говорю, я. А ты кого ждал? Саму Элоизу? Или Брюса Ли? Давай, спрашивай свое «сколько?». Мне три давай! Или даже лучше четыре. Давай четыре за двести. За двести – нормально? – Слушай! – он виновато почесал голову. – Я больше не торгую. – Что значит не торгуешь? – удивился я. – Ну вот так. Не торгую! – А чем ты теперь занимаешься? Чем ты нахрен занимаешься, если не торгуешь? – я рванул на себя дверь, но у него, представьте себе, оказалась цепочка. Нет, вы представляете, как чувак на мои деньги упаковался? Стальную цепочку завел от нежелательных посетителей! Таких, как я! Чтобы нас на порог не пускать! – Я ничем сейчас не занимаюсь, – объяснил он спокойно и виновато. – Я бы продал тебе! Но у меня нет. Ничего нет. – Как нет? – все не мог поверить я. – Вот так. У меня на квартире сейчас ничего нет. И ближайшие полгода не будет. А может, и дольше. Может, я вообще завяжу. – А что делать мне? – спросил я зло. – Вот поднял «Седьмой элемент» в Смолевичах. Он повторил: – У меня нет. Просто нет. Прости.
И, значит, всунул внутрь свою башку и дверь передо мной закрыл. Я в расстроенных чувствах пошел вниз. Что мне теперь делать? Намыливаться к китайцам в чайна-таун? Так там другие цены, там мне выкатят семьдесят за сверток, в самом лучшем случае продадут три за двести, а тут можно было и все четыре взять… Что же делать, что делать?
Я шел настолько углубленный в свои мысли, что не сразу заметил стандартный спецслужбистский «Опель». Через секунду после того, как я его засек, вокруг меня уже стояло три человека в одинаковых дубовых костюмах с отливом, а четвертый снимал меня на видеокамеру. Отмотаем назад: за секунду до этого я иду, думаю о том, где купить сверток. Светит солнце, слева от меня – плотный транспортный поток. Потом – за одно мгновение – я замечаю «Опель». «Опель» унылого, как зубная боль, серого цвета с металликом. В тот же миг, в тот же удар сердца, без всякого «одну минуточку, молодой человек!» – без всего того, как мы представляем себе наш возможный арест, тебя обступают четыре оперативника, один из них – с камерой, и я в полной жопе. Не покупайте наркотики, дети. Никогда. У человека напротив был очень уж узнаваемый пельмень вместо лица. – Добрый день, – этим приветствием он как бы говорил мне: стоять, не двигаться, руки перед собой. – День добрый, – повторил он. – А что ты так перепугался? – он хлопнул меня по левому плечу. – Я не испугался, – сказал я, остолбенев. – Ну как не испугался. Я же вижу, – он снова меня хлопнул. – Я не испугался, – повторил я. – Ну не испугался, так не испугался, – сказал он и отдал команду оператору. – Давай, включай запись, – тот что-то нажал на камере. – Старший оперативный уполномоченный Госнаркоконтроля Новиков. Покажите, что у вас в карманах. Тут до меня дошло, и я счастливо рассмеялся ему в лицо. – Ничего у меня в карманах нет, старший оперативный уполномоченный Госнаркоконтроля Новиков! – крикнул я. – Ничего! Слышите! Барыга больше не торгует! – Вот этот карман продемонстрируйте, – кивнул он на левую полу моей весенней куртки.
Я с той же самоуверенной улыбкой полез в карман, схватился за подкладку и вывернул ее. Из кармана что-то вывалилось и покатилось прямо под ноги оператору. Бумажный сверток, на котором проступали буквы, отпечатанные на казенном принтере. – Снимай, снимай, – приказал Новиков. – Крупным планом, – и спросил у меня: – Что это, гражданин? – Это, блядь, сверток, который вы мне подкинули! – закричал я в камеру. – Вы слышите? – Я пытался докричаться до кого-то, будто с камеры запись попадала в прямой эфир на YouTube, – они мне этот сверток подбросили! Нет, ну правда. Брать торчка с большим стажем и подкидывать ему стафф? Где логика? А Новиков объяснял, с брезгливой косой улыбочкой: – Что тебе подкинули, наркот? Первая же экспертиза подтвердит, что ты постоянный потреблятор. – Это не мое! Не мое! – продолжал реветь я. – И что делать? – спросил оператор, опустив свой инструмент. – Да нормально все, – махнул рукой Новиков. – Пускай с ним теперь следак нянчится. От души, с размаху, с наслаждением, он так засветил мне по печени, что меня согнуло пополам. Я упал на колени, а он схватил меня за шиворот и потянул к машине, приговаривая – Долго мы тебя, гандон, пасли.
В «Опеле» я оказался между двумя мосластыми бугаями, Новиков сел впереди, «видеолюбитель» – за руль. Когда мы тронулись, тот, который прижимал меня своими толстыми коленями слева, заговорил: – И, короче, тогда другой наркоман посмотрел на эту таксу и говорит: «Какая-то странная у тебя собака».
Я понял, что он продолжает рассказывать анекдот, который начал перед моим задержанием. Может, они и замешкались на секунду, дав мне заметить «Опель», исключительно потому, что хотели дослушать анекдот. – «Почему странная»? – тогда спрашивает первый наркот. «Ну, какие-то у нее ноги короткие», – отвечает второй. Тогда первый, внимательно осмотрев таксу, говорит: «Ну до земли же достают!».
Оперативники заржали. Мысль о том, что для кого-то мое задержание может быть настолько будничным делом, что после этого они продолжают неоконченный анекдот, внесла существенные коррективы в мою картину мира. Кроме того, я понял, что для этих людей я – что-то вроде свиньи, которую везут на ярмарку. От нечего делать можно и со свиньей, и с кошкой завести разговор.
Мы подъехали к белым стенам СИЗО, ворота открылись, запуская нас внутрь. Этого не видно из-за высокого забора с колючей проволокой, когда смотришь снаружи, но тут, внутри, каждый кирпичик здания, каждое зарешеченное окно было пропитано таким концентрированным рассолом человеческого горя, что становилось тоскливо. Стены и решетки – вот все, что я обречен видеть ближайшие десять лет.
Вы помните Мишеля Фуко, который в своем «Надзирать и наказывать» описывал закат эпохи угнетения человеческого тела в тюрьме, говоря о том, что государство после отказа от публичных казней карает исключительно символическим обездвиживанием. Так вот пускай бы этот болван посидел в минском СИЗО перед тем, как корябать эти глупости.
Меня завели в небольшую комнатку около входа, без нар и без окна, и оставили стоять. Сесть было не на что. Батареи в комнате тоже не было, а на улице стояла та пора зимы, когда уже не совсем зима, а весна, когда земля уже проснулась под снегом и в воздухе носятся такие, знаете, запахи… В общем, очень погано в такую пору садиться на десять лет. Так вот, тут, в комнате, не было батареи, стены – влажные, и ближе к потолку – в инее. Я простоял так час, и меня начало колотить. Сначала – скорее от страха, а потом – от страха и голода, а потом – уже исключительно от холода. Начало стрелять в голове – от стылого бетона сильно тянуло. «Они меня что, в карцер засунули? Но за что?» – перепуганно думал я. Мои познания о тюремном заключении, почерпнутые из Фуко, Шаламова, Рубанова и Достоевского, говорили мне, что должно быть немного иначе. Все ощущения тут свелись к слуху. Лязг, скрежет железа по железу. Может быть, где-то недалеко находились камеры, и настало время разноса еды или вывода задержанных на прогулку. Через каждые несколько минут – страшный скрежет то ли открываемых дверей, то ли решеток, потом – звук поворачивающегося в замке ключа, потом – снова скрежет, пауза, и самое неприятное – оглушительный удар захлопываемых металлических дверей, удар, похожий на выстрел, или, скорее, на взрыв снаряда. Тут, во время борьбы с дубаком, на меня снизошло метафизическое наблюдение, которому позавидовал бы и Фуко. Оказывается, когда тебе смертельно холодно, все неприятные звуки переносятся значительно болезненнее, чем обычно, просто вынимают душу.
Когда из носа уже сильно текло и душа моя наполнилась отчаянием и безысходностью, дверь в комнате открылась и я услышал команду «на выход». Меня отконвоировали в камеру с остановкой в маленькой комнатке, находившейся в подземелье. Там меня раздели, всю одежду прощупали, забрали шнурки и ремень. Затем повели «на хату». Я ожидал, что увижу большое помещение за решеткой с сотней ожидающих приговора людей, но камера оказалась крохотной – четыре кровати (два двухъярусных блока) и только две из них – заняты. Я увидел высокого шныря, смахивающего на выпускника философского факультета, и еще какого-то типа, который лежал на кровати не двигаясь. – Двести шестьдесят четвертая? – спросил у меня выпускник философского. – Они мне подкинули! Подкинули наркотики! – объяснил я. – Так всем подкидывают, – усмехнулся зек. У него совсем не было передних зубов, а щеки и подбородок покрывала небрежная черная растительность, почти как у Че Гевары. – Даже если у тебя на кармане десять дозняков, они все равно подкинут – для надежности. Они наблюдение устанавливают и когда удостоверятся, что ты – потреблятор, берут, и все – жди суда.
«Философ» размещался на верхних нарах. Ниже лежал тот, обездвиженный. Я бросил свои вещи на вторые верхние нары, потому что читал у Рубанова, что в тюрьме чем выше, тем почетней. Залез, сел, свесив ноги, огляделся. Еще одна неожиданность: я думал, что в камере будет темно, что будет гореть одна дохлая лампочка. А тут фигачили три трубки дневного света, заливая пространство невыносимым хирургическим светом. Потом я подумал, что на ночь, свет, конечно же, не гасят, и радость от такой иллюминации совсем испарилась. Маленькое окошко, через которое все равно ничего не было видно. Шкафчик для личных вещей – как в больнице. Подумалось, что камера напоминает внутренности корабля Апокалипсиса. Вокруг – жуть и мрак, а люди как-то обжились, вон даже носки постиранные сохнут. Потом, подумав еще, я понял, что выражение «корабль Апокалипсиса» не имеет смысла, а для Ноева ковчега тут очевидным образом не хватало самок. – У тебя тоже двести шестьдесят четвертая? – спросил я у «философа». Спрашивать, как его зовут мне показалось бессмысленным, потому что я про себя уже назвал его Философом. – Конечно! И этот, – он кивнул на человека, который лежал без движения, – тоже она. Для торчков – особые камеры. Чтобы нормальных подследственных лингвистическим СПИДом не заразили. – И давно ты тут? – спросил я. – Девять месяцев, – он удобно вытянулся на нарах. Нары представляли собой металлический каркас, на который была натянута сетка. Сверху – тонкое покрывало. А мне грезилось что-то о матрасах. У Рубанова зеки при переводе из камеры в камеру всегда держат в руках свои матрасы. А тут – голыми ребрами фактически на железе. Я удивился: – Ничего себе. Девять месяцев? – Так а куда спешить? Это же даже хорошо. На следствии – день за два. Да и они не спешат. Суды нормальными людьми занимаются. А мы отбросы общества, – Философ оголил пустые десны в улыбке. – А это кто? – я кивнул на обездвиженного. – Это Петрович! – мой собеседник соскочил с нар и откинул одеяло, которым был накрыт обездвиженный. Человек лежал ровно, лицом вверх, с закрытыми глазами. Он был в трусах. Все его тело было фиолетовым от кровоподтеков. Он весь поблескивал в электрическом свете, будто был залит лаком. Присмотревшись, я понял, что он замотан скотчем, будто египетская мумия. География пятен на теле Петровича заставила волосы на моей голове зашевелиться. Ощущение условного уюта, обжитости этого места исчезло. – Почему он в скотче? – спросил я. Спрашивать, почему он весь фиолетовый, нужды не было. Это было понятно и так. – Да конвоиры обмотали. Раздели для личного досмотра, потом руки на наручники, за спину, и все тело – в скотч. – А что он такое сделал? Этот вопрос был принципиально важен. Потому что он как бы поворачивал ситуацию в то русло, что для того, чтобы тебя таким вот образом отмудохали, надо все-таки что-то особенное сделать. Мысль о том, что Петровича избили ни за что – так, удовольствия ради, была невыносимой. Над Диогеном можно насмехаться, но бить его не надо. – Да телефон в жопу засунул перед досмотром. Думал, умнее всех. – А зачем ему телефон в жопе? – каждая его реплика вызывала у меня новые и новые вопросы. – Не, в жопе он совсем не нужен, – объяснял Философ. – Но если его оттуда достать, можно позвонить родным. Или продать право позвонить другим подследственным. В СИЗО телефон – очень важная вещь. Потому что один звонок свидетелю может спасти ситуацию. – И что? – мне все еще не было понятно произошедшее. – Ну что, они его на рентген, телефон увидели, руки в наручники, за спину, а все тело – в скотч.
Я все еще чувствовал себя полным олигофреном. А ведь у меня блестящее образование, полученное в престижных вузах Китая. – Слушай! Все равно не понимаю. А зачем все тело скотчем обматывать? – Ну как, – удивился Философ, – чтобы руками не закрывался, когда будут бить. Разве не понятно?
Действительно, разве такое может быть непонятным? Волосы снова зашевелились у меня на голове. Я прилег на нары и закрыл глаза. Признаюсь honestly, мне было страшно. Я поднялся выше и, опершись на локоть, снова обратился к сокамернику. – Слушай, а чего ты скотч не снимешь? – Ну как чего? – он почесал голову. – Петровича вчера принесли. С тех пор не очухался. Видишь, бурый весь, губы синие. Сегодня ночью может и отдуплиться. Если с него сейчас скотч снять, еще скажут потом, что я его этим скотчем и придушил. Если в себя придет, тогда и размотаем. А пока пусть лежит, отдыхает.
Перспектива провести ночь в одном помещении с умирающим меня взволновала еще больше. Но вопросы все не кончались, видимо, мое взбаламученное подсознание таким образом, посредством всех этих переспрашиваний, пыталось защитить себя от тишины и внутреннего диалога. – Слушай. Так телефон, получается, в нем и остался? – Нет, – усмехнулся Философ. – Телефон достали.
Он потянулся, повернулся ко мне спиной и заснул. Оставив меня с вопросом, как можно достать телефон из человека, который обмотан скотчем. О моем морально-психологическом состоянии многое может сказать тот простой факт, что первую половину ночи я прислушивался к тихому хрипу Петровича (который подсказывал, что он пока условно жив), а вторую – думал над этой неразрешимой загадкой.
Барыга
Мы выбрались из костела таким же сложным путем, каким проникли в здание – на руках осталась ржавчина с металлических скоб, за которые надо было цепляться, карабкаясь. Наверху Сварог беседовал с Мастером благовоний. При моем появлении, Мастер злобно сверкнул глазами, а когда я склонил голову в почтительном приветствии, просто отвернулся. Будто мы с Элоизой уединились там для ласк и поцелуев. Некоторые мужчины, когда дело касается сердечных дел, ведут себя, как малые дети.
Элоиза при виде своих подчиненных стала строгой, будто экскурсоводша в Музее Китая на улице Карла Маркса. – Это все, – сказала он мне. – Если вспомнишь еще что-то, выходи на связь.
Ее забрал четыреста тридцать второй, забрал и навсегда увел куда-то вглубь чайна-тауна, которым она управляла. Со мной остался Сварог и его «штыки». Он косолапо перетаптывался с ноги на ногу и наконец сказал: – Идем, боец. Разговор к тебе есть.
«Ну вот, наконец-то мне дадут звездюлей за Алю», – подумал я. Возможно, Мастеру благовоний бить меня не позволяет этикет, наверное, у них там по-китайски гармоничное распределение полномочий и областей ответственности. – Она, понимаешь ли, христианка, – Сварог кивнул на башенку звонницы, с которой мы только что спустились. – А у меня другие убеждения. – Другие убеждения? – повторил я за ним. – Другие убеждения. Я, можно сказать, язычник. Считаю, что богов много, а путь в вечность нужно искать в мове. Но говорить о таких вещах я не мастер.
Мы протискивались с ним сквозь толпу, подсвеченную сверху китайскими фонариками. Вокруг стоял шум – самое безопасное место для небезопасных разговоров. Чужие заинтересованные уши, если бы они вдруг тут появились, ничего не смогли бы услышать. – Есть другая тема, – он остановился, и из людей, которые шли позади него, тут же образовалась пробка. Чтобы почувствовать движение на китайской улице, надо остановиться. Потому что перемещаются по ней все прохожие с одной скоростью, и когда ты идешь в потоке – ты «стоишь». А если ты остановишься, толпа начнет двигаться мимо тебя, и ты ощутишь движение. – Мертвые оскорблены, – сказал он. – Мертвые оскорблены? – переспросил я. – Мертвые оскорблены. Уже сколько лет, сколько столетий тут срут на могилы предков. Их унижают этим, как они говорят, «уплотнением», строя на кладбищах жилые кварталы. Их оскорбляют умышленно, мертвые видят это, но терпят. Потому что мертвые начинают говорить только в самых исключительных случаях. И такой исключительный случай наступил. – Что вы имеете в виду? – понять его было непросто. – Есть информация от наших врагов, которую мы получили от наших агентов в Госнаркоконтроле… Есть информация, что они готовятся к финальной битве. У них она проходит под кодовым названием «Молчание». Мы пока не понимаем, что именно они сделают, но мова после этой акции не уцелеет. Планируется тотальная зачистка. Не нас – нас не жалко. Мовы. – Зачистка мовы? Как такое возможно? – я не мог себе такого представить. – В смысле, еще более тотальная, чем сейчас? – «Полная ампутация», – так они говорят. Мы этого тоже не понимаем, – он пожал плечами. – Но источник надежный. Поэтому мы должны нанести удар первыми. Сказал «слава нации», говори и «смерть врагам». – Да, – я подался вперед. – Ты – белорус, Сергей. И, я вижу, хороший человек, – что интересно, он сказал не «хороший боец», а именно «хороший человек». Неожиданным было то, что «хороший человек» – это для него комплимент. Он добавил: «Хороший человек, пускай и дохлый, как глист. Но я хочу дать тебе шанс. Я предлагаю тебе пойти с нами в последний бой. Через три дня мы нанесем удар. За это время я научу тебя стрелять.
Я испуганно замолк. «Последний бой» – не очень удачное название для операции, с которой кто-то планирует вернуться. К тому же в своей жизни я вообще ни разу ни в каких боях не участвовал, не то что в «последних». – Не бойся. Мертвые будут с нами, они будут биться на нашей стороне, – сказал он уверенно. – И потому мы победим.
Тут я хотел спросить, что за операцию они планируют, но он опередил меня. – Бить нужно по телевидению, Сергей. Любая революция сегодня – это захват net-визора. Это – шанс на разговор с нацией. Шанс на пробуждение миллионов. Все остальное – не существенно. Мы планируем захватить аппаратную прямого эфира рядом с площадью Мертвых. Мне стало понятно, что он доверяет мне полностью. – А Элоиза знает? – Нет, не знает. И не узнает. Она против. Она считает, что нужно собирать слова – как светлячков в коробочку. И что потом те, кто придет после нас, смогут по нашим записям воссоздать мову.
Я задумался. Аля казалась лучшим стратегом, чем Сварог. Иначе она бы не управляла триадой как Наместница Смотрителя горы. Наверное, в моих глазах мелькнуло недоверие, потому что Рог поспешил объяснить. – Слушай, это моя прерогатива. Я – Красный столб, командующий армией и имею право самостоятельно планировать боевые операции и держать их в тайне от братьев, которые находятся на гражданских позициях. – Просто это напоминает заговор, – заметил я. – Если Элоиза не знает, это похоже на заговор. – Если она узнает, то нас не пустит. Потому что в голове у нее сантименты и романтика, – тут он осекся.
По тому, как он осекся, я понял, что под «сантиментами» и «романтикой» Сварог имел в виду не те ненасильственные методы борьбы за мову, которых придерживалась Элоиза, а те вполне понятные «сантименты», которые хрупкая и умная женщина может иметь к безбашенному мордовороту, который командует армией. Мы никогда не будем вместе. Совершенно понятно, что так лютует Мастер благовоний: в этом любовном треугольнике только меня и не хватало. – Ты подумай, – сказал он. – Такие решения быстро не принимаются. Я найду тебя завтра вечером. Он кивнул и уже, кажется, готовился нырнуть в толпу, но я успел спросить: – Вы говорили, что у вас другие взгляды на вечность. А что за взгляды? Сварог смерил меня взглядом с головы до ног, будто решая, превратить ли свой ответ в шутку, и одновременно взвешивая, не высмею ли я его, если он ответит серьезно. – Вечность – в мове, – повторил он мысль, с которой начинал. – Это как? – Вот так. Не зря в христианских книгах написано, что сначала было слово, и слово было Бог. После смерти мы живем в мове. Бессмертие – в ней. – Подождите. Как можно жить в мове? – все не мог понять я. Потому что, как я уже говорил, я от природы не очень умен. – Душа человека – это то, как он говорит. Уходя из мира, он не исчезает, потому что его словами, поговорками и выражениями продолжают говорить другие. – Это как следы на снегу? – попробовал я подобрать метафору, вспомнив, как гулял зимой и узнавал свои же следы. – Нет, скорее, как тропа через трясину. Каждый из нас своей речью протаптывает такую тропу, по которой пойдут и другие. И пока тропа не зарастает, живет и душа. Но я не мастер говорить о таких вещах. Я мастер качать мышцы. Потому что нацик должен быть здоровым, – он хищно усмехнулся. – А что происходит с нами после смерти? Слова живут, а что происходит с нами? – Какими нами? – спросил он меня. – Ну, – я пожал плечами, – тем мной, который вот сейчас говорит и думает. – Так а что у тебя есть, кроме мовы, из которой состоят твои мысли и твои слова? – он снова людоедски улыбнулся. С качками действительно невозможно спорить. Их можно только слушать и соглашаться. – Ты лучше не о себе думай, – приказал он. – Кости наших предков достали из земли и выбросили вон. Там, где они отдыхали, сейчас рестораны и ночные клубы. А теперь их пытаются лишить еще и бессмертия. Вот с чем нужно бороться. Наша вечность должна принадлежать нам.








