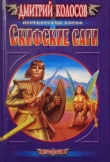Текст книги ""Савмак"(СИ)"
Автор книги: Виктор Михайлюк
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
В центре дворцовой крыши над центральным входом возвышался большой шатёр из белого полотна, верхушку которого в виде срезанного конуса с торчащим наружу опорным столпом, увенчанным золотой фигуркой Папая, Эпион заметил ещё при въезде в цитадель. Когда Посидей повёл его крутыми лестничными маршами на крышу, Эпион догадался, что даже в этом роскошном каменном дворце, построенном для него эллинскими мастерами, владыка скифов предпочитает вести привычный образ жизни в незамысловатом шатре номадов.
Оказавшись на крыше, Эпион бросил взгляд на юг, где почерневшее небо над дальними горами кроили на части беззвучные голубые зигзаги молний. Чуть отдышавшись, Посидей, жестом остановив своих спутников у открытого входа, вошёл в шатёр царя. Два высокорослых стража, неподвижно стоявшие, изнывая от духоты в полном вооружении, по бокам обращённого на восточную сторону шатрового входа, пропустив беспрепятственно Посидея, принялись буравить мрачными недоверчивыми взглядами замерших в двух шагах чужеземцев. Пока Эпион невозмутимо любовался бушевавшей над Таврскими горами грозой, его слуга, осторожно поставив на пол сундук и опасливо поглядывая на мрачных скифских воинов, стал беззвучно шевелить большими мясистыми губами, о чём-то моля своего неведомого бога, как будто тот мог услышать и защитить его в этой чужой, далёкой стране, где властвуют совсем иные боги.
Вскоре Посидей показался на пороге шатра и сделал широкий пригласительный жест:
– Входите, государь ждёт.
Оказавшись внутри, Эпион сразу уловил дурманящий запах жжёного конопляного семени. В глаза, прежде всего, бросился толстый опорный столб в центре шатра, снизу доверху украшенный резными рельефами сражающихся друг с другом хищных зверей и птиц, казавшийся из-за своего медового цвета отлитым из чистого золота. Вблизи верхушки на столб было настромлено тележное колесо со спицами, к которому прикреплены верхние концы шестнадцати длинных боковых жердей, переплетенных ремнями и покрытых плотной белой тканью, расшитой снаружи золотыми грифонами и орлами. Внизу на столбе на колках висели небольшой круглый щит, ножны с длинным мечом и коротким акинаком, горит с луком и стрелами, унизанная конусовидными шипами золотая булава и короткая толстая плеть хозяина шатра, к которым так и прикипел жадно заблестевшими глазами Рафаил, зачарованный отблесками пламени светильника на золотых рельефных пластинах и огромных самоцветах, сплошь покрывавших оружие и рукоять плети скифского царя.
На самом хозяине шатра и драгоценного оружия, лежавшем у дальней от входа стенки на кипе мягких овчин, покрытой сверху огромной шкурой редкостного белого медведя (свисающие по углам лежанки четыре когтистых лапы и обращённая ко входу, полная острых жёлтых клыков ощеренная пасть, не оставляли сомнений, что это именно медведь), никаких украшений, даже традиционного у знатных скифов золотого шейного обруча, не было.
При первом же намётанном взгляде на вытянувшегося на середине низкого ложа худого старика в длинной, до пят белой льняной рубахе, расшитой вокруг шеи, на концах длинных рукавов и на подоле тонким цветным узорочьем, на его тёмные ввалившиеся глаза, тонкий, заострённый нос, впалые щёки и всё изрезанное глубокими бороздами землистое лицо в обрамлении длинных, редких, грязно-седых волос, Эпион понял, что его худшие опасения подтверждаются, и едва ли все его медицинские познания помогут этому отжившему свой век старцу снова встать на ноги.
У изголовья по правую руку старика на маленькой кожаной подушке сидел, скрестив перед собой ноги в привычной для номадов позе, молодой скиф с толстым золотым обручем на короткой шее, некоторыми чертами лица походивший на лежащего старца. Мочку его правого уха оттягивала тяжёлая золотая серьга с подвешенным за вскинутые крылья крошечным грифоном. Эпион тотчас опознал в нём младшего царского сына Палака, каждый год приезжавшего с толпой знатных скифов в Пантикапей на конные состязания в честь Посейдона и принимавшегося как самый почётный гость во дворце басилевса Перисада. Больше в просторном шатре никого не было.
Почтительно поклонившись царю и царевичу, Эпион приветствовал знаменитого своей мудростью и могуществом во всех ближних и дальних странах владыку скифов на его родном языке, пожелав ему скорее одолеть злой недуг.
– Хайре, эллин, – ответил эллинским приветствием лекарю боспорского басилевса царь скифов слабым, хриплым голосом, после чего продолжил на родном языке. – Не думаю, что ты сумеешь помочь мне снова сесть на коня...
Скилур поднял над постелью тощую жилистую руку и указал костлявым пальцем на звёзды, мерцающие между спицами тележного колеса вверху, словно далёкие небесные костры.
– Чую, предки давно заждались меня у своих костров.
– Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь тебе, государь, – заверил Эпион на корявом скифском.
– Говори на своём языке, лекарь, – дозволил Скилур. – Я пойму.
– Прежде чем приступить к лечению, я должен осмотреть тебя, государь, и расспросить обо всех симптомах... проявлениях твоей болезни. И хорошо бы принести ещё два-три светильника: здесь слишком мало света.
Посидей вышел распорядиться и сразу вернулся. С дозволения царя, Эпион присел на край ложа, взял его правую руку, нащупал слабо пульсирующую жилку на запястье и засыпал неприятными вопросами. Тем часом молодые проворные слуги бесшумно внесли и расставили вокруг царского ложа четыре ярких бездымных светильника на высоких треногах, молча поклонились в пояс господину и пятясь убрались из шатра. Эпион пристально взглянул в поблекшие зеленоватые зрачки Скилура, спокойно, без страха и без надежды, глядевшие в умные чёрные глаза грека, мнящего себя способным воспротивиться воле всевластных богов, держащих в своих руках все людские судьбы.
Переведя взгляд на беззубый рот царя, прикрытый длинными поредевшими усами, лекарь попросил показать язык, затем закатал к плечам его рубаху, обнажив костлявое, иссушенное лютой болячкой старческое тело, покрытое множеством замысловатых бледно-синих татуировок, и принялся тщательно ощупывать его впалый живот, осторожно нажимая ловкими пальцами в разных местах в поисках источника боли.
Молодой царевич неподвижно сидел на прежнем месте у отцовского изголовья, а Посидей стоял чуть сбоку за его спиной, по-стариковски опершись обеими руками на свой красивый посох. Оба они сосредоточенно наблюдали за осмотром и внимали каждому слову лекаря и царя.
Приставив к тщедушной груди Скилура перевёрнутый высокий медный стакан, извлечённый рабом Рафаилом из лекарского сундука, Эпион приложил к его донцу чуткое ухо и долго вслушивался в тяжёлое, хриплое дыхание царя и неровное, усталое биение его износившегося сердца. Вернув магический стакан Рафаилу, Эпион вновь прикрыл царя до ступней ночной рубахой и собирался встать, но Скилур удержал его за запястье своей холодной, как у мертвеца, рукой.
– Скажи мне правду в глаза, эллин, что ты увидел... Не бойся... Я пожил уже достаточно, чтобы без страха и сожаления оставить этот мир... ради лучшего.
Грустно вздохнув, Эпион мягко положил свою левую ладонь на удерживающую его руку царя. Увы, осмотр лишь убедил его в правильности первоначального диагноза. Заставив себя глядеть прямо в строгие, немигающие глаза царя, Эпион печальным, извиняющимся тоном произнёс свой жестокий приговор:
– Государь! С помощью известных мне лекарств, я могу на время заглушить и притупить терзающие твоё нутро жестокие боли... Но продлить твою земную жизнь я, увы, бессилен. Мне не ведомо средство, могущее остановить поразившее твой желудок внутреннее гниение. На это способен, разве что, кто-либо из всемогущих богов, если пожелает внять горячим мольбам твоих близких и явит тебе свою божественную милость.
– Мне это ни к чему, – возразил Скилур. – Я слишком устал и с радостью уйду к предкам... Я вырастил добрых сыновей и оставляю свой народ в надёжных руках... Сколько, по-твоему, мне ещё отпущено здесь, на земле?
– Полагаю... не больше месяца.
Скилур отпустил, наконец, руку Эпиона и, переведя взгляд на вцепившегося в посох Посидея, заметил блестевшие в его глазах слёзы.
– Да, друг Посидей! Ушло наше время на земле. Настал час наших сыновей... Зря ты вынудил боспорского лекаря проехать такой утомительный путь по жаре для того лишь... чтобы я услышал от него то, что и так знал... Но всё равно – отблагодари его и вознагради по-царски. Слышишь, сын? – скосил Скилур глаза на горестно уронившего голову на грудь царевича.
– Да, отец... слышу, – борясь с подступившими к горлу слезами, глухо ответил сын.
– Отправь его завтра же обратно, – обратился царь опять к Посидею, – да не забудь, напиши царю Перисаду от меня благодарность за то, что отпустил ко мне своего лекаря. Отошлите Перисаду в подарок пару добрых коней в царской упряжи.
– Слушаюсь, отец.
Тем временем Эпион извлёк из своего сундука небольшой продолговатый сосудец с чёрной надписью на боку. Вытащив плотную деревянную пробку, он по запаху убедился, что не ошибся, и, когда царь, сделав распоряжения, умолк, предложил ему выпить изготовленное из корня мандрагоры и макового сока снадобье, которое должно унять боль и погрузить его впервые за время болезни в спокойный и крепкий сон.
Царевич подал лекарю любимую чашу царя с рельефными изображениями сценок из кочевой жизни скифов. Плеснув туда немного вина и разбавив его свежей водой из стоявших у царской постели кувшинов, Эпион отсчитал в чашу десять капель своего снадобья, пояснив, что в дальнейшем приступы боли будут усиливаться, и дозу лекарства нужно будет постепенно увеличивать.
На вопрос Посидея хватит ли этого флакона, Эпион ответил, что его должно хватить до самого конца, и предупредил, что если налить сразу слишком много, то больной уснёт непробудным сном, поэтому хранить и отмерять снадобье в царскую чашу должен только верный царю человек.
Взяв у Эпиона флакон, Посидей сказал, что берёт эту заботу на себя.
– Нет, Посидей, – возразил Скилур, – отдай зелье Палаку.
Посидей без спора протянул флакон царевичу, а Эпион с поклоном подал чашу Скилуру. Но царь отклонил протянутую руку, пояснив удивлённо наморщившему лоб лекарю:
– Не сейчас... Поставь чашу возле ложа. Я выпью её позже... А теперь прощай, эллин. Хайре!
– Хайре, государь! – ответил Эпион, распрямляясь у ног царя.
– И не забудь – передай от меня пожелание долгих лет земной жизни своему басилевсу.
– Благодарю, государь. Не забуду.
– Надеюсь, он останется таким же добрым соседом моему наследнику, каким был для меня.
Прижав правую руку к сердцу, Эпион отдал владыке скифов прощальный поклон и бесшумно, как от покойника, вышел из шатра вслед за уносившим хозяйский сундук Рафаилом.
Едва выйдя наружу, они обнаружили, что бушевавшая над горами гроза стала гораздо ближе, и огненные бичи небесного царя полосуют небо уже совсем неподалёку, сотрясая воздух и землю громовыми раскатами. Следом вышел Посидей и, подозвав одного из дворцовых слуг, велел ему взять факел и скорее проводить боспорского лекаря в его дом.
– Начальнику стражи ворот прикажешь выпустить вас именем царя.
– Слушаюсь, господин, – почтительно поклонился молодой скиф ближайшему другу своего царя и жестом пригласил боспорцев следовать за собой.
Тем часом Скилур велел сыну Палаку позвать к нему жён.
За долгие годы жизни, отпущенные щедрыми и милостивыми к нему скифскими богами, из которых последние полвека он носил за поясом золотую царскую булаву, у Скилура было пять жён, родивших ему три десятка законных сыновей и дочерей, а также несчётное число наложниц, с которыми он наплодил множество незаконнорожденных детей, ставших верными слугами его самого и его законных детей. А большинство прижитых с наложницами дочерей стали жёнами знатных скифов, счастливых породниться с царской кровью. До этого скорбного часа, когда пришла, наконец, пора Скилуру собираться в последний земной поход, дожили только две из пяти его жён: самая старшая – Аттала, и самая младшая – Опия, и лишь четверо его сыновей да девять царевен, давно отданных замуж за ближних и дальних сарматских царей и царевичей и скифских племенных вождей.
Аттала, Опия и вдовая царевна Сенамотис – любимая дочь Скилура и Опии – покинули царский шатёр перед тем, как родосец Посидей привёл туда боспорского лекаря. Пройдя через одну из калиток в стене на крышу женского дворца, где стояли их небольшие уютные шатры, почивать они, конечно же, не легли, а сели рядышком на расшитых яркими цветами подушках дожидаться, со страхом и робкой надеждой, вестей из царского шатра.
Вскоре к царицам с низким поклоном приблизился старший евнух и робко попросил их спуститься в опочивальни, а слугам позволить свернуть шатры, так как с гор приближается гроза, но Аттала прогнала его.
Когда в дверце разделительной стены появился Палак, женщины поднялись с подушек ему навстречу. Увидев в ярком отблеске молнии его мрачное лицо, они в тот же миг поняли, что и последняя, внушённая Посидеем надежда на чудо оказалась разбита. Переждав оглушительный громовой раскат, Палак, борясь с комом в горле, глухо произнёс:
– Грек сказал... никто, кроме богов, не в силах продлить жизнь царю... Через месяц отец навсегда нас покинет...
И, удержав навернувшуюся против воли слезу, добавил, мягко обняв за плечи упавшую ему на грудь со сдавленным рыданием сестру:
– Матушки, царь зовёт вас. Ступайте к нему.
Царицы – младшая по стопам старшей – поспешили на зов своего мужа и господина через никем не охраняемую дверь гинекея (чужого мужчину, переступившего без дозволения эту черту, ждала лютая казнь), а Палак ненадолго задержался, чтобы успокоить разрыдавшуюся старшую сестру и перебороть собственную слабость. К нему тотчас бесшумно подступил старший евнух и, переждав очередной громовой удар, попросил дозволения свернуть шатры цариц из-за надвигающейся грозы.
– Да... Убирайте шатры, – поглядев на небо, дозволил Палак. – Видать, скоро нас накроет нешуточная буря. Надо бы и отца снести вниз.
И царевич, в обнимку с не отпускавшей его сестрой, направился на мужскую половину крыши.
Ничего вокруг не замечая, жёны Скилура проскользнули мимо неподвижных, как истуканы, стражей в ярко освещённый четырьмя светильниками царский шатёр. У опорного столба ноги их подкосились, и они на коленях подползли по устилавшим шатёр мягким оленьим шкурам к ногам своего мужа. Прижавшись лицами к его большим, костлявым, жилистым ступням, они увлажнили их поцелуями и слезами.
– Оставьте... Сядьте поближе, – приказал Скилур спокойным, тихим голосом, прислушиваясь к громыханию долгожданной грозы.
Женщины послушно передвинулись к изголовью и застыли, как и прежде на коленях, по обе стороны ложа, припав лицами и губами к его рукам.
С минуту Скилур молча глядел на их покрытые скромными домашними убрусами головы и горестно согбённые спины, прикрытые длинными, до пят, украшенными тонкой вышивкой, белыми льняными сорочками, прежде чем заговорил о том важном, ради чего их позвал.
– От Палака вы уже знаете, что сказал лекарь-грек. Мой земной путь – хвала Папаю! – подошёл к концу... Совсем скоро я ступлю на дорогу к небесным кострам предков и надеюсь... одна из вас отправится туда вместе со мной.
– Я с радостью уйду вместе с тобой, мой возлюбленный господин! – в один голос воскликнули обе женщины, а затем Аттала, приблизив покрытое морщинами лицо к лицу мужа, тихо добавила:
– Смотри, Скилур, – мои глаза сухи. Я не лью горькие слёзы перед разлукой, как бывало прежде, а радуюсь, потому, что скоро отправлюсь бок о бок с тобой в страну предков и вновь увижу и обниму наших детей, ушедших туда раньше нас. И больше никто не разлучит меня с тобой. Я давно, ещё с первой нашей ночи, решила, что не останусь на этом свете без тебя.
– Хорошо, Аттала. Ты моя первая жена, и я буду рад видеть тебя хозяйкой... в моём подземном доме.
– А я, мой любимый господин?! – воскликнула сквозь заливавшие её слёзы младшая жена Опия. – Я тоже не останусь здесь без тебя!
– Нет, Опия! – обратив к ней лицо, повелительно возразил Скилур. – Ты должна остаться среди живых. Твоё время ещё не пришло.
– Нет, Скилур, нет! – рыдала, целуя его руку, безутешная Опия.
–Ты ещё молода. Ты мудра... Я хочу передать царскую булаву Палаку... А он ещё слишком молод и горяч... Ему нужна будет твоя мудрость, твой опыт, твоя материнская верность... Ты должна остаться с нашим сыном, чтобы уберечь его от ошибок молодости. Ты поняла меня, Опия?
– Да, – едва слышно выдохнула Опия, покорившись, как всегда, мудрой воле мужа-царя.
– Ты должна помочь Палаку и его жёнам вырастить наших внуков... А мы с Атталой и другими моими жёнами, ушедшими раньше нас, подождём тебя там... Разлука пролетит быстро – не успеешь оглянуться...
– Да, мой господин.
– Добро... Поклянись сейчас жизнью наших детей, что не нарушишь мою волю и не поспешишь вслед за мной и Атталой к предкам, а будешь жить здесь на земле... сколько отмерено тебе нашими богами.
– Клянусь здоровьем и жизнью наших детей и внуков, что исполню твою волю, мой муж и господин, – тихо, но твёрдо произнесла слова клятвы Опия, смахнув со щёк последние слезинки и неотрывно глядя на пляшущее в зрачках Скилура пламя светильников. Последние её слова потонули в ужасном раскате грома, расколовшем небо, казалось, прямо над шатром, заставив Опию испуганно вздрогнуть.
В этот миг в шатёр ворвался Палак.
– Отец! Позволь слугам снести тебя вниз – на нас надвигается буря!
Следом вошли Сенамотис и Посидей. Скилур велел Аттале взять его чашу с греческим зельем и идти в свою опочивальню, а Опию и дочь отослал в их покои. Когда женщины, пятясь, вышли, царь с помощью сына и Посидея поднялся с постели, держась ладонями за их плечи, медленно вышел из шатра, подошёл к южному краю крыши, и несколько минут смотрел на грохотавшую уже над ближними отрогами грозу и на свою столицу, выглядевшую пустой и мёртвой в частых, ослепительно-ярких вспышках небесного огня.
Наконец, старый царь обессилено опустился в принесенное слугами кресло, и двое крепких скифов (а царю в его дворце служили только природные скифы) отнесли его в спальные покои Атталы, тогда как другие слуги стали поспешно разбирать и сворачивать царский шатёр.
Велев Палаку созвать во дворец к завтрашнему утру его братьев и всех находящихся сейчас в столице царских родичей, вождей, скептухов, тысячников и сотников царских воинов-сайев, Скилур отпустил его. Взяв из рук Атталы свою серебряную чашу, царь выпил до капли греческое зелье.
– Грек обещал, что оно уймёт боль и поможет мне уснуть, – сказал он жене. – Посмотрим.
Аттала бережно уложила мужа в свою одинокую постель, а сама опустилась в кресло стеречь его сон.
– Нет, Аттала. Приляг рядом со мной, – попросил Скилур. – Отныне мы опять всегда будем вместе, как в дни нашей молодости. Помнишь?.. И вели служанке унести светильник...
Сняв с головы убрус, Аттала бочком легла возле мужа, уже много-много лет не бывавшего на этом ложе, прижавшись сморщенным пергаментным лбом к его плечу.
Старая служанка царицы, бесшумно пятясь и вытирая свободной ладонью слезящиеся глаза, вынесла за дверь тяжёлый бронзовый светильник, оставив наедине счастливых, как в далёкой юности, супругов, только что заново соединённых навек самою смертью.
2
Выйдя за ворота цитадели, молодой царский слуга с факелом в руке поспешно повёл Эпиона и его раба с хозяйским сундуком наискосок через пустынную площадь. Спешили они неспроста: грозовые тучи, стремительно пожирая звёзды, клубились уже над самым городом, в любую минуту угрожая испепелить неосторожных путников огненной стрелой и залить их потоками воды. Около бронзового всадника, застывшего в самой высокой точке города, на них налетел внезапный вихрь, подняв с земли тучи пыли, песка и всякого устилавшего неапольскую агору мусора, и едва не задул факел в руке скифского юноши, не на шутку напуганного яростным гневом Папая. Защищая глаза, путники повернулись спиной к налетевшему с юга ветру, и в этот миг очередная молния с жутким треском расколола чёрное небо прямо у них над головами, заставив всех троих невольно присесть в страхе. С радостью убедившись, что на сей раз огненная стрела сильно разгневавшегося за что-то на здешних жителей небесного владыки обрушилась на кого-то другого, Эпион и Рафаил, переждав короткий порыв ветра, всегда проносящийся по земле перед ливнем, припустили вслед за своим провожатым к юго-западному углу площади.
Вбежав в тёмный зев ведущей к городским воротам улицы, где на них упали первые тяжёлые капли дождя, они остановились перед широкой, красной дощатой калиткой, скреплённой тремя гирляндами кованых из бронзы дубовых листьев – первой на левой стороне. Тут над их головами опять с оглушительным треском раскололось небо, уронив на землю грозно извивающегося огненного змея. Страшный громовой раскат ещё звенел в ушах перепуганных путников, когда с неба на улицы Неаполя Скифского хлынули потоки воды, загасив факел в руке скифа. В ответ на стук рукоятью факела в толстую дубовую доску, с той стороны раздался хриплый собачий лай и послышался глухой старческий голос:
– Тихо, Кербер!.. Кто там?
– Боспорский лекарь и его слуга из царского дворца по приказу господина Посидея! – крикнул молодой скиф, и калитка тотчас открылась – здесь явно ждали сегодня поздних гостей.
Сивобородый старик привратник с подобострастным поклоном пригласил гостей войти в дом его господина. Царский слуга, сжимая в руке, словно булаву, потухший факел, опасливо покосился на здоровенного серого пса, сильно смахивающего на волка, лежавшего под скамьёй в глубокой нише в стене около калитки, служившей старику-привратнику и его четвероногому помощнику во всякую пору защитой от солнца и ветра, дождя и снега, жары и холода, и попросился переждать грозу под навесом. Заперев калитку на широкий бронзовый засов, старый раб взял со скамеечки в нише глиняный светильник и, прикрывая ладонью пугливо трепещущий огонёк, подволакивая не сгибающуюся в колене правую ногу, повёл лекаря и его слугу под опоясывавшим двор навесом, с которого на вымощенный булыжником дворик потоками лилась дождевая вода, стекая в черневшую посреди двора глубокую цистерну, ко входу в дом, где его дожидался молодой хозяин.
Едва Эпион перешагнул высокий порог андрона, слабо освещённого двумя тусклыми светильниками, горевшими в дальних от входа углах, навстречу ему, легко поднявшись с кресла, поспешил молодой скиф, учтиво приветствовавший гостя на прекрасном эллинском языке. Эпион тотчас узнал младшего сына Посидея Главка, как и его отец и старший брат, неоднократно бывавшего в Пантикапее.
– Дионисий поручил мне встретить пантикапейского гостя, а сам ушёл домой отсыпаться, – пояснил с едва заметной улыбкой в уголках губ Главк, заметив удивление на лице лекаря. – У него свой дом по соседству с нашим.
На вопрос, что он предпочтёт сначала – баню или ужин? – Эпион, хоть и не ел с самого утра (а в дороге по жаре и не хотелось) и почувствовал теперь сильный голод, попросился сперва в баню.
– Варуна проводит тебя в наш бальнеум и исполнит любое твоё желание, – объявил Главк, взглянув на одну из стоявших у стены молодых рабынь, одетых в короткие, тонкие льняные туники на голое тело, открывавшие от самых бёдер их стройные босые ноги. – Она в твоём полном распоряжении.
Окинув быстрым взглядом скромно потупившую глаза темноволосую красавицу рабыню, Эпион молчаливым поклоном поблагодарил гостеприимного хозяина.
– Как помоешься, Варуна отведёт тебя в триклиний, где я, с твоего позволения, составлю тебе компанию за ужином. А твоего раба накормят в трапезной для слуг. Но прежде, – Главк мягко опустил ладонь на плечо собиравшегося следовать за рабыней Эпиона, – прошу извинить мне моё нетерпеливое любопытство: чем закончился твой визит к нашему владыке? Есть ли надежда на его исцеление?
– Увы, – печально развёл руками лекарь, – мой богатый врачебный опыт говорит мне, что его болезнь смертельна. Излечить её могут только боги, а познания и искусство врачевателей здесь бессильны.
– Какая жалость! – громко вздохнул Главк, отпуская плечо лекаря. – Этого мы и боялись, – Эпиону показалось, что, вопреки скорбному взору и тону, на его губах мелькнула довольная улыбка.
Проводив взглядом скрывшихся вслед за Варуной в левой боковой двери лекаря и его раба с дорожным сундуком, Главк вернулся к столику между двумя креслами у правой стены, со стоящим на нём узкогорлым серебряным кувшином и широкой золотой чашей. Удобно устроившись в одном из кресел, он поднял чашу с недопитым тёмно-красным вином и перевёл глаза на стоявшую сбоку светловолосую рабыню. Повинуясь его молчаливому приказу, девушка опустилась на колени между его широко расставленных ног. Откинув треугольную полу его расшитой алыми узорами рубахи, она распустила узел на узкой кожаной тесёмке штанов и высвободила тотчас отвердевший и вытянувшийся навстречу фаллос. Почувствовав на затылке властную мужскую ладонь, она тотчас пугливо вскинула на молодого хозяина огромные коровьи глаза и медленно, словно меч в ножны, вобрала его в свой маленький пухлогубый ротик...
Через полчаса Варуна привела отмытого и посвежевшего боспорского лекаря в хозяйский триклиний и вернулась в бальнеум простирнуть пыльные, потные одежды Эпиона и его слуги. Рафаил, решив, что ужин пока подождёт, последовал за нею проследить, чтобы рабыня сделала порученную его хозяином работу как следует.
Как только Эпион улёгся на одно из боковых лож, скользнув равнодушным взглядом привычного к дворцовой роскоши человека по настенным росписям и позолоченной лепнине под потолком погружённого в полумрак посидеева триклиния, Главк, устроившись на ложе напротив, велел светловолосой полногубой рабыне скорее нести ужин.
Пока рабыня бегала на поварню, Эпион, закончив беглый осмотр интерьера, с куда большим интересом пригляделся к младшему сыну Посидея. Главк совсем не походил ни на отца, ни на старшего брата, и выглядел, как типичный скиф.
"Должно быть, уродился в мать", – предположил Эпион.
Двадцатипятилетний Главк имел невысокую, плотную, чуть полноватую фигуру, короткие руки и толстые, кривые, как почти у всех выросших на коне кочевников, сильные ноги. Его прямые, зачёсанные назад русые волосы ниспадали сзади на плечи, открывая широкий, покатый, гладкий лоб и круглые оттопыренные уши. В проколотом правом ухе торчала серьга в виде небольшого колечка с тремя крошечными рубинами, алевшими на золотой дужке, словно капельки свежей крови. Большие, широко расставленные чёрные глаза, разделённые хищно изогнутым носом, радостно поблескивали в сторону гостя с круглого, плоского, скуластого лица, опушенного внизу тонкими щёгольскими усиками и короткой соломенной бородкой, нисколько не скрывавшей его толстую шею, охваченную витой золотой гривной в палец толщиной, с необычайно реалистичными миниатюрными лошадиными головами на концах.
Тем временем гроза, пролившись обильно над скифской столицей, уползла куда-то за Пасиак, и её громовые разряды раздавались всё дальше и глуше, постепенно сходя на нет.
– Ты нисколько не похож на своего старшего брата, – заметил Эпион, завязывая разговор, пока не принесли еду. – Наверное, у вас разные матери.
– Верно. Дионисия родила ольвийка Эфора – первая жена нашего отца, а моя мать – царевна Атея, дочь сестры царя Скилура.
– О-о! Выходит ты – кровный родич скифского басилевса!
В ответ Главк самодовольно усмехнулся. Эпион заметил, что он уже успел хорошо поднять себе настроение вином и, создавалось впечатление, скорее радовался, нежели печалился скорой смерти старого царя.
В триклиний бесшумно впорхнули две босоногие рабыни, держа перед собой на широких серебряных подносах блюда с едой и кувшины с напитками. Комната наполнилась аппетитными ароматами, от которых у Эпиона тотчас пробудился зверский аппетит и потекли слюнки. Едва рабыня поставила поднос на столик перед его ложем, он набросился на еду. Главк тоже с удовольствием ел пироги с мясом и сыром, запивая их большими глотками холодного ячменного пива.
После того, как оба утолили первый голод, белокурая рабыня, стоявшая за спиной хозяина в ожидании приказаний, наполнила его чашу красным вином. Смакуя маленькими глотками его терпкий вкус, Главк с ухмылкой наблюдал, как боспорский лекарь обнюхивает узкие горлышки серебряных кувшинов на своём столе в поисках воды.
– Ах, да! Я и забыл, что вы, эллины, разбавляете вино водой. Не понимаю, для чего нужно портить этот божественный дар Диониса!
Главк предложил Эпиону, раз уж тот оказался в столице Скифии, пить вино по-скифски, а когда тот вежливо, но твёрдо отказался, велел прислуживавшей гостю рабыне сбегать за водой.
– Твой отец тоже пьёт вино по-скифски? – поинтересовался Эпион.
– По-всякому, – признался Главк. – Здесь, дома – разбавляет, а во дворце пьёт неразбавленным. А вот мы с братом пьём этот благородный напиток только по-скифски! Ведь ослаблять его волшебную силу и вкус водой недостойно воинов – так у нас поступают только женщины и дети.
– У разных народов – разные обычаи, – отметил Эпион, сам доливая в свою чашу с золотистым вином воду из принесенного рабыней влажного глиняного кувшина. – А твоя мать ещё жива?
– Конечно! Она ещё довольно молода и красива, в отличие от Эфоры, которая уже совсем старуха.
– Как, и первая супруга Посидея ещё жива?! – изумился Эпион. – Я полагал, что он женился на твоей матери после смерти первой жены.
– Сделавшись ближайшим другом и помощником во всех делах царя Скилура и переселившись навсегда сюда в Неаполь, отец принял скифские обычаи. А скифы, как известно, могут иметь жён, сколько пожелают и смогут содержать. Вот у меня, например, уже есть две жены, и я хочу вскоре взять ещё третью. Чем больше жён, тем больше детей и надёжнее старость.
– А у твоего старшего брата сколько жён? – полюбопытствовал Эпион.
– У Дионисия – четыре. И у меня будет не меньше.
– Весело живёте. У нас, эллинов, муж подчас не знает, как и с одной женой сладить.
–Хе-хе! У нас с этим строго! Плётка всегда под рукой – не забалуешь! Жена должна быть послушна и во всём покорна мужу, как хорошо выезженная лошадь! А ваши эллинские мужи почти все слабаки и дают слишком много воли своим женщинам.
Эпион решил сменить тему и спросил у быстро хмелевшего Главка, как его отцу – уроженцу далёкого Родоса, удалось подружиться с царём скифов.
– Доводилось ли тебе бывать на родине отца? – поинтересовался Эпион прежде, чем Главк начал свой рассказ.
– Нет, не доводилось. Я не люблю морских путешествий. А вот Дионисий на Родосе бывал. Он – сын эллинки, и ему легче переносить морскую болтанку. Я же любому кораблю предпочитаю надёжную спину коня.