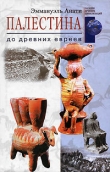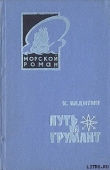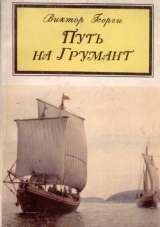
Текст книги "Путь на Грумант"
Автор книги: Виктор Георги
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Вскоре в царском правительстве стали понимать, что законные интересы России в этом арктическом районе начинают ущемляться. На Грумант посылаются научные экспедиции. В 1898 году там побывали видные русские ученые А. А. Коротнев и Ю. Н. Семенкевич. В следующем году через льды севернее Шпицбергена дважды пытался пробиться к полюсу напролом русский ледокол «Ермак». В 1899–1901 годах на архипелаге работает экспедиция академика Ф. Н. Чернышева.
Ученые заявляют: ни в коем случае нельзя терять эти ледяные острова, подчеркивают львиную долю России в их открытии и хозяйственном освоении.
В 1907 году, после расторжения унии со Швецией, Норвегия предлагает заключить международный договор о правовом положении Шпицбергена. Затем снова и снова поднимает этот вопрос, и Россия… дает согласие на участие в такой конференции.
1909 год. В МИД России проходит межведомственное совещание по подготовке к конференции. Высказывается явное сожаление об утрате Россией исключительного права на Грумант. Решено: летом отправить экспедицию в Арктику для проверки на месте сведений о заселении архипелага русскими и иностранцами. Но экспедицию не снарядили. Царское правительство продолжало ограничиваться заявлениями о своем приоритете на Шпицберген.
1911 год. В сентябре вышла на Шпицберген русская экспедиция под командованием В. Ф. Држевецкого. Корабли вскоре попали в шторм и возвратились назад. Попытка создать постоянное русское поселение на Шпицбергене – именно эту цель прежде всего преследовала экспедиция – не удалась.
1912 год. Экспедиция вышла из Александровска-на-Мурмане (ныне г. Полярный) на судне «Геркулес». Возглавлял ее талантливый ученый и полярный исследователь Владимир Александрович Русанов. Его прежние экспедиции, кроме всего прочего, предохранили от участи Шпицбергена Новую Землю. Русанов вместе с геологом Р. Л. Самойловичем исходил вдоль и поперек ущелья и горы Западного Шпицбергена. Он обнаружил несколько крупных. залеганий угля и поставил много заявочных столбов.
1913 год. В России организуется товарищество «Торговый дом Грумант». Летом отправляется новая экспедиция в Арктику, которая продолжает исследования архипелага. Снова, как и Русановым, построен дом и оставлены на зимовку люди.
1915 год. Во время поисков арктических экспедиций Брусилова, Русанова и Седова, пропавших без вести, большие исследовательские работы провел у Шпицбергена экипаж судна «Герта».
Постепенно наша страна расширяла хозяйственную деятельность на архипелаге. Намечались разработка и добыча угля. Но осуществлению этих планов помешали первая мировая, а затем гражданская войны.
А капиталистические государства не теряли надежд прибрать Шпицберген к своим рукам. В 1920 году, когда наша страна задыхалась от разрухи и голода, представители США, Англии, Дании, Франции, Италии, Швеции, Голландии, Норвегии, Японии и пяти тогдашних английских доминионов и колоний (Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза) собрались в Париже и… отдали суверенитет над Шпицбергеном Норвегии. Нас даже не пригласили. Но они понимали, что устранить нашу страну от решений судьбы Шпицбергена невозможно, поэтому, несмотря на лютую ненависть к молодой Советской Республике, вынуждены были сделать оговорку: после признания русского правительства оно будет приглашено присоединиться к договору.
Наша страна решительно протестовала против такого бесцеремонного вмешательства в дела, к которым Россия имела непосредственное отношение. 12 февраля 1920 года была направлена соответствующая нота Норвегии. Но в 1924 году были установлены дипломатические отношения с Норвегией, и в интересах сохранения и укрепления добрососедских отношений с этой страной мы согласились на признание норвежского суверенитета над Шпицбергеном. И в 1925 году над полярным архипелагом подняли свой флаг норвежцы.
В довоенные годы к договору о Шпицбергене присоединились Австрия, Албания, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Болгария, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Египет, Испания, Китай, Польша, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехословакия, Чили, Швеция, Югославия и другие государства…
Да, не удержался и я от соблазна хоть кратко, но пересказать историю освоения Шпицбергена. Сегодня здесь нет моржей, этих морских слонов, чьи бивни длиной в руку человека считались «белым золотом» и были раньше самым ценным товаром. Канадский писатель Фарли Мак-Билл Моуэт утверждает, что в одном из сообщении древних русских рукописей говорится о московском князе, взятом в плен татарами. И выкуп за него был установлен в 114 фунтов золотом… или равным весом в моржовых клыках. Кость была не единственным ценным продуктом. Кожа моржа, выделанная из шкур, так прочна, что отражала мушкетную пулю и была лучшим материалом при производстве воинских щитов. И еще одно очень ценное для мореходов свойство шкуры: веревка, вырезанная из нее, после обработки моржовым жиром становилась столь же эластичной и долговечной, как и современные веревки из растительного волокна, а по прочности превосходила их. Так что канат из моржовой кожи с незапамятных времен считался наиболее предпочитаемой снастью в такелаже северных судов. Судов, чьи корпуса были пропитаны смолоподобной массой, получаемой путем выпаривания кипящего моржового жира. Это клейкое черное вещество использовали для замазывания корабельных швов и для защиты дощатой обшивки от вторжения корабельного червя.
Уже к XIII веку моржовые лежбища в Атлантическом океане были варварски уничтожены человеком. Выжил этот морской зверь лишь в Арктике. Церковный летописец тех времен писал: «В северных краях водятся огромные рыбы, такие большие, как слоны, которых называют моржи, или русские моржи, возможно, из-за их сильных укусов; ибо, если они видят какого-либо человека на морском берегу и могут поймать его, они неожиданно нападают на него и разрывают его своими зубами… Головы у этих рыб напоминают своей формой бычьи, и шерсть у них толщиной в соломинку… Они могут с помощью своих зубов взбираться, как по приставным лестницам, к самым вершинам скал, чтобы получить возможность питаться свежей травой… Они очень быстро засыпают на скалах, тогда рыбаки делают все быстро, как только могут, и начинают у хвостовой части; они отделяют кожу от жира, в это место помещают очень прочные веревки и привязывают их к выступам скал или к деревьям. Затем они бросают в их головы камни из рогатки, для того чтобы поднять их и заставить спуститься, тем самым отдирая большую часть кожи, которая привязана к веревкам. При этом, будучи измотанными, испуганными и полумертвыми, они становятся ценной добычей, особенно из-за зубов, которые очень ценятся у скифов, московитов, русских и татар».
Как же добывали моржа русские поморы? Об этом я задумался, выйдя на окраину Баренцбурга по узкой полосе песчаного пляжа между холодной водой Грен-фьорда и слоистой скалой берега. Чуть дальше открывался покатый откос, уходящий в море. И представилось, как сюда, на отмель, выходит – выползает стадо моржей – огромных глыбообразных существ с пучеглазыми мордами, колючими усами, глубокими складками на щеках и подбородке. Выходящие из моря подталкивают передних клыками, чтобы получить свое место под солнцем. День кончается, летние северные сумерки сгущают тени, падающие на землю от моржей и раскиданных по откосу валунов. Ветер дует с горы, с берега, поэтому-то животные и не чуют подошедших со стороны моря людей.
Охотников человек десять, каждый сжимает в руке длинное копье. В полном молчании они ползком приближаются к стаду и тихо, имитируя удары клыков, подталкивают палкой копья животных подальше от моря. И когда этот обман открывается – по знаку вожака охотники начинают улюлюкать и шуметь как можно громче, колотя что есть мочи моржовые туши копьями. Тем моржам, которые повернули от вершины к морю, мешают те, которых люди гонят по направлению к ним. Животные сталкиваются, наползают друг на друга, давят малышей. После этого начинается обыкновенное убийство: самых ретивых закалывают на месте, а тех, что уже выбились из сил и не пытаются ускользнуть в море, можно, подгоняя копьем, своим ходом гнать к лагерю, к становищу, где уже горят костры под гигантскими чанами для варки звериного сала…
 16 Вид поселка Баренцбург
16 Вид поселка Баренцбург
– Мы должны сюда добавить грохот прибоя и брызги пены, поднятые спасшимся моржом, рычание сотен охваченных паникой чудовищ, пойманных в ловушку на берегу, – добавляет Фарли Моуэт, комментируя доклад офицера английского королевского флота, описавшего именно такой способ охоты на моржей в 1765 году. – Мы должны наглядно представить себе сцену в мрачной и ветреной темноте, освещенную только к эпилогу красными вспышками факелов. Мы должны еще ощутить, что чувствуют люди, совершающие резню, ползущие на руках и коленях и слишком хорошо знающие, что в любой момент они могут быть раздавлены черной лавиной мяса и костей…
С каждым днем нашего пребывания в гостях у полярников Шпицбергена все реальнее, как нарывающая заноза в пальце, тревожит мысль о необходимости возвращения домой. Да, мы достигли желанной цели, доказав всем и вся возможность плавания в Арктике на новоделах старинных парусников. И было бы нелепо на обратном пути потерпеть крах. И за байками судовых острословов, что, мол, программа выполнена, осталось лишь смоделировать кораблекрушение средневекового коча, так или иначе скрывалась тревога за благополучный исход нового, 680-ти мильного (если по прямой, как современные суда) пути до Мурманска. Утешало одно: если что, то, наверное, поставят нам в Баренцбурге памятник, как и экипажу невесть где сгинувшего парохода «Геркулес». Но лично для меня это было слишком слабым утешением.
Да, время отправляться в обратный путь. Десять дней мы бороздили воды гигантского Ис-фьорда, гостя у приветливых полярников. Пора и честь знать. В эти дни я не вел дневника – события и впечатления наслаивались, переполняли чувства, мелькали, как в волшебном калейдоскопе детства: ледяной бело-зеленой рекой нависает над водой ледник Норденшельда; ребятишки-дошколята из поселка Пирамида собирают в лукошко малюхонные, самые северные в мире грибы; в норвежской кирхе висит модель парусной лодки – символ спасения человека в нашем грешном мире; в квартире земляков из Баренцбурга хозяйка как самый дорогой подарок ставит на стол блюдце с нарезанным свежим огурцом, выращенным на подоконнике за месяцы зимовки…
Вечером 22 июля на веслах отошли от причала, от ставшего почти родным берега с красными звездочками цветов северной камнеломки. Берега, в чьих недрах на угольных пластах навек окаменели следы диковинных динозавров и широколистных растений. Поселка, на улицах которого вместо голубей разгуливают чайки, а вместо собак – низкорослые доверчивые олени.
Поймав ветер, крепим по бортам шестиметровые весла и поднимаем парус. Грот пузатый, как баба на сносях. Из-под самого носа набирающего скорость коча улепетывают ленивые кайры, громко хлопая по воде черными крыльями. Вот они – последние аплодисменты Ис-фьорда…
Однако рано, оказывается, мы поддались сентиментальному настроению: прощания не состоялось. Под утро зачихал и заглох сорокасильный мотор «Груманта» – единственный, если не считать самовара, «паровой двигатель» экспедиции. Решили не рисковать и вернуться в Баренцбург. Спасибо местным умельцам – управились с ремонтом за полутора суток. Но в понедельник, 24-го, выходить в море остереглись – плохая примета. Вышли во вторник, сразу после полуночи. И пора, наверное, мне рассказать поподробнее о том, как товарищи по экспедиции оценивают наш поход. Ведь каждый из нас преследовал свои цели.
 17 Летний пейзаж Шпицбергена
17 Летний пейзаж Шпицбергена
Владимир Пучкин (работник БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ, кок лодьи «Грумант»): Молодежь должна отдыхать активно, а не знакомиться с достопримечательностями тех или иных мест из окна автобуса или с палубы океанского лайнера. Почему бы не предоставить возможность людям за свои деньги быть не только пассажирами, а членами экипажей подобных судов и путешествовать, например, по Белому морю? Думаю, что желающие найдутся, хотя я и почувствовал всю «экзотику» похода на Грумант на собственной шкуре. Напомню, что «Спутник» работает по принципу «нон профит», то есть не ставит основной целью получение финансовой выгоды. И мы решили испытать пригодность старинного типа парусных судов для организации молодежных морских круизов: экологически чистых, физически активных, связанных с познанием истории.
Ростислав Гайдовский (заместитель начальника Арктической нефтегазоразведочной экспедиции Мингеологии СССР, капитан лодьи «Грумант»): У нас утерян опыт плавания на маломерных судах. Удивительно, но факт: перевозка грузов, выполнение различных работ в прибрежных водах считается сложным и небезопасным делом. Но зачем платить бешеные деньги за использование вертолетов или другой современной техники, если можно именно в Арктике намного дешевле и эффективнее работать на малых судах? В этом я еще раз убедился, пройдя от Петрозаводска до Шпицбергена. Сбор гагачьего пуха, промысел рыбы, водорослей, расчистка от плавника побережий – так или иначе все эти частные вопросы упираются в глобальную задачу возрождения отдаленных поморских деревень…
Владимир Панков (преподаватель Мурманского высшего инженерного морского училища, матрос коча «Помор»): В своей научной работе я занимаюсь физикой поверхности моря, и нынче смог с иного ракурса взглянуть на некоторые проблемы, далекие, казалось бы, от практического мореплавания. Ну а побывать на Шпицбергене – это мечта моего детства!
Александр Скворцов (сотрудник НИИ культуры, заместитель начальника экспедиции по науке): Для меня, как ученого и яхтсмена, этот переход сравним с творчеством. Коч – идеальное судно для ледового плавания, вобравшее в себя лучшее из искусства кораблестроения и кораблевождения древних поморов. В истории освоения высоких широт еще немало «белых пятен». И данная экспедиция органично вписалась в программу исследований историко-культурной среды Арктики морской комплексной экспедицией нашего института, программу, рассчитанную до 2000 года…
Однако достаточно рассуждений и давайте вернёмся на борт коча, которому еще предстоит переход от Шпицбергена до Кольского залива.
Итак, мы вышли в море, хотя и получили радиограмму от мурманских синоптиков с пометкой «шторм всем судам»: «Циклон смещается к востоку от 74° северной широты со скоростью 30 км/час. 26 июля на юге Баренцева моря ветер 15–17 м/сек, видимость хорошая, в тумане 300–500 м, дождь, температура 3–8° тепла. Ветер западный, северозападный еще двое суток (для нас попутный. – В. Г.). На побережье Норвегии: ветер юго-западный, южный 15–17 м/сек. Высота волны 1–2 метра, на севере – 3 метра. Последующие двое суток ветер юго-западный, западный, местами туман». Вышли, рассчитывая под парусами успеть добежать до Медвежьего, а там, через два-три дня, глядишь и циклон уйдет в центральную часть Арктики… Опрометчиво? Наверное, да. Перелистну несколько страниц своего путевого блокнота.
«26 июля. 4 часа утра.
За кормой южная оконечность Шпицбергена. Отошли миль на 40, но горы все еще видны. Скорость до семи узлов, хотя работает один фок. Небо в голубых дырах – просветы как разводья солярки на воде. Целые сутки попутный ветер.
27 июля. 4 часа утра.
К. вечеру подошли к острову Медвежий.
28 июля. 4 часа утра.
Днем штиль. На севере светлая полоска неба, впереди – черная хмарь, разодранная по краям на кучевые облачка, словно кто-то грязными руками заляпал хрусталь небесного свода.
Параллельным курсом прошел норвежский ракетный катер. Постоял рядом, а потом рванул к берегу со скоростью узлов в 50.
29 июля. Утро.
Увидели землю – до берега миль 80. Солнце красное. Сильная болтанка. Ветер попутный, но, очевидно, встречное течение: гребни волн белые, а перед ними вырастают маленькие фонтанчики, будто сотни невидимых бесенят занимаются серфингом – или как там правильно называют этот новомодный вид спорта? Типичный морской сувой.
29 июля. День.
Едва успели срубить грот – идем на одном малом фоке. Ветер усиливается. 18 метров в секунду, но в порывах сильнее! Волна высокая. Коч пока что „вписывается“ в нее: перекатывается с гребня на гребень, как на американских горках. И лишь слегка подрагивает всем корпусом. Капитан советует не оглядываться: за кормой жутковатая картина. Отпустил шкот и удерживаю его конец в руках, чтобы, если начнет заваливать судно, сразу уменьшить давление на парус. Встретили две яхты, следующие почему-то в открытое море.
29 июля. Вечер.
Прошли Варде. Скорость максимальная – до одиннадцати узлов. Вода пенится у самого борта, лижет планширь.
30 июля. 4 часа утра.
Проходим Рыбачий. Впервые за всю экспедицию видел восход солнца: в начале пути и в высоких широтах оно не садилось вовсе…»
Днем, после ночной вахты, и проснулся уже у входа в Кольский залив. Было воскресенье – праздник военных моряков. К вечеру подошли к причалу мурманского морского вокзала. После оформления недолгих таможенных формальностей ступили на берег. Первая новость, которую узнали: в Баренцевом море какие-то две яхты дали «SOS». Одну обнаружили перевернутой, другую пока ищут. А мы успели прошмыгнуть между двумя циклонами…
Послесловие
У Бориса Шергина есть маленькая притча, которой лучше, точнее всяких моих слов расскажет о том, что чувствует – переживает человек, вступив в единоборство с морем.
«По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Гостев оследил нехоженый берег…
Вечно ходит солнце со востока на запад. Гуси и гагары с теплом летят 6 север, с холодами – в юг.
Так же обычаем сорок лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий!
Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума: „Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче…“
В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодейного: „Кому надобны неиссчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?“
…Перед глазами бескрайнее море, волны рядами-грядами. И видит Гостев: у середовой мачты стоит огнезрачная девица… Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу.
– Кто ты, о госпожа? – ужаснулся Гостев. – Что ты считаешь и что пишешь?
– Я премудрость божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих лодей исчислены и списаны в книгу жизни…

18 Участники экспедиции „Путь на Грумант“ после возвращения в Мурманск со Шпицбергена
– Ежели так, о госпожа, – воскликнул Гостев, – то и дальше дальних берегов пойду и пути лодей моих удвою!»
Путь туда грубый и долгий… Кто сочтет морской путь и морской труд?.. И дальше дальних берегов пойду и пути лодей моих удвою!
…На днях получил от председателя клуба «Полярный Одиссей» Виктора Дмитриева программу новой экспедиции. Будущим летом впервые за последние одиннадцать лет наши суда – три новых древнерусских лодьи – возьмут курс из Петрозаводска не на север, в Арктику, а на юг: по рекам и каналам в Черное море, порты Румынии и Болгарии, затем – Стамбул, Афины, Никосия, Тель-Авив, пригород Каира – Гиза. Называться все это будет «Золотой Век», цель – моделирование экономических и культурных взаимосвязей исторического пути «из варяг в греки». Девиз: «Мир, флот, торговля соединяют народы и континенты». Эмблема экспедиции – кижский Преображенский собор и египетская пирамида…
Реально? После того, как мы сходили на Шпицберген и вернулись обратно, на мой взгляд – да.
Декабрь 1990 года
Вычитывая корректуру этой книги, уже сейчас, в январе 1991 года, могу сообщить: задуманная экспедиция от Кижей до Египта прошла успешно. Подробности? О них можно будет узнать из новой книги о дерзких морских походах членов петрозаводского клуба путешественников и исследователей «Полярный Одиссей».