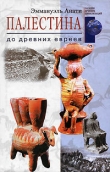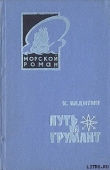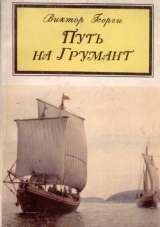
Текст книги "Путь на Грумант"
Автор книги: Виктор Георги
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Летом разъезжаются колхозники по тоням, где берут идущую с моря семгу, а вот зимой жизнь замирает. Самая тяжелая работа – дрова заготовлять. По побережью леса не так много осталось. И решили как-то в Тетрино одним махом убить сразу двух зайцев: с дровами быть и от лишних хлопот с общественным животноводством избавиться. Сказано – сделано: организовали субботник и распилили на дрова добротный телятник… Не верится, что при крестьянской хватке не подумали колхозники о последствиях. В том-то и дело, что подумали, и крепко! А потом сходили в сельский магазин, посмотрели на полки с доставленными за сотни верст маслом, банками сухого, сгущенного и пастеризованного молока и разошлись по домам. Может, посылки родственникам с продуктами в среднюю полосу России отправлять, в обратный путь доппайком… А когда не было этого изобилия, не 20, а 40 коров держали в «Беломорском рыбаке». Да столько же скота в личном пользовании было. Теперь все покупают свежее молоко на ферме – его на несколько десятков жителей вполне хватает.
По данным районной госстатистики сейчас на все Терское побережье в личных подсобных хозяйствах числится… одна корова. Хоть в музей ее веди, а не в хлеву держи. И это в районе, где сосредоточена большая часть естественных кормовых угодий Мурманской области, до половины всех сенокосов, две трети пастбищ. Для декорации на радость редким туристам раскинулись обширные лайды – заливаемые водой луга с прекрасной молокогонной травой. Сохранился еще в хозяйствах и. высокопродуктивный скот, а относительно мягкий климат этих мест, казалось бы, должен привлечь на поселение новых людей. Да, видно, порвалась в них жилка древних новгородцев. А если это не так, то что же за река огненная преградила людям дорогу, заказала путь на берег более чем миллионному населению области?
Ответ прост. Заявив, что они не готовы к приемке молока и мяса от терских колхозников, руководители местной промышленности по сути дела отмахнулись от них, оставили колхозников наедине со своими проблемами. Лишили хозяйства рынков сбыта. А убыточность, бессмысленность своего труда погасили природную творческую смекалку поморов. Зачем напрягаться, если знаешь, что молоко все равно будет продано за бесценок или скормлено скоту? Возникло даже мнение о новом укрупнении оставшихся трех от недавних двенадцати колхозов.
Неперспективность, отягощенная отсутствием элементарных с точки зрения горожанина бытовых удобств, породила и своеобразную семейную агитацию. Смысл ее в ориентации самими родителями своих детей на выезд из села. Мол, мы уж здесь доживем век, а вам нечего мучиться. И правы ведь! А ты, уважаемый читатель, посоветовал бы повзрослевшей дочери остаться искать женихов в терском селе? Вряд ли. И перестают колхозники верить, что на речке Чаваньге можно вновь поставить маленькую гидроэлектростанцию, не вызывает у них энтузиазма мысль о значительном увеличении поголовья оленей, хотя ягельных мест в округе для этого достаточно, не хотят жители лишних хлопот с организацией зимнего лова озерной рыбы. И не в отдаленности здесь дело.
…Пробежав на лыжах десяток-другой метров, замер на сельском аэродроме долгожданный самолет. Первым на мотонартах подъехал к нему почтальон. Потом уже подбежали пассажиры с чемоданами, рюкзаками, бидонами. Несколько минут – и под крылом с одной стороны пологая озерная тундра, с другой – Белое море. Самая южная точка Кольского полуострова. Остаются в памяти измеренные по побережью снежные километры. Зароды сена с накинутыми на них сетями (не для зайцев заготовляли!). Деревни, где по субботам так топят бани, что в воскресенье до вечера стоит туман.
Остаются в памяти дороги. Автострада от Мурманска до Кандалакши и грунтовый путь до Умбы: на «Жигулях» 6–7 часов езды с комфортом. Твердый, как взлетная полоса, песок отлива под Кузоменью. Пыльные дороги-тропы между селами, на которых твои следы пересекают отпечатки медвежьих лап. И обманчивое ночное бездорожье, когда снегоход, минуя опасные спуски, уверенно идет по старой колее. Путь не самый короткий, но верный. Можно бы срезать морскую губу, но есть риск застрять в накопившейся под настом воде или наскочить на ропак – одинокую, ребром стоящую льдину. Ее лучше объехать, да разве в ночи углядишь? А еще лучше, добравшись до избы, поскорее 'отогреться крепким чаем. И только потом выйти на крыльцо и слушать невидимый в темноте прилив. Там, за береговой линией припая, гулко дышит студеное море…
Хозяйка дома – Нина Гордеевна – угощая гостей, поставила на стол две сковороды. Одну с семужьей печенью, другую – с жареной рыбьей икрой. За разговорами вспомнили рыбаки, что после войны был на фактории свой маленький консервный завод и не выбрасывали в реку, как сейчас, внутренности красной рыбы. Конечно, требования к качеству пищевой продукции возросли, но ведь обидно терять такие деликатесы…
Вернувшись в райцентр, я передал эти слова молодому директору Умбского рыбозавода Александру Ульянову, рассказал ему и о младшем сыне Тропиных, вернувшемся из армии с правами водителя и не знающем, куда устроиться на работу. Директор каждый раз отправляет в Кузомень транспорт для сбора и доставки семги, выписывая шоферу командировку на неделю. Почему бы не доверить технику местному парню? Оказывается, нельзя. Опасается руководитель, что не по делу будет использовать машину новичок, у которого на каждой тоне если не родственники, так знакомые сидят. Здесь нужен чужой человек, умеющий держать себя с людьми «на расстоянии». А вопрос о сохранении семужьей икры совсем зряшный. По ГОСТам она подвергается первичной обработке в течение нескольких часов. Разве это возможно при многоверстном бездорожье? На рыбпункте же надлежащих условий не создашь.
Прав директор. Меня вообще удивляет правота руководителей даже самых убыточных хозяйств. Все-то они всегда делают согласно чему-то и в соответствии с чем-то. Не подкопаешься. И все новое в их глазах по меньшей мере – авантюра. В чем же дело?
Некоторые объективные причины уже названы мною. Есть и другие, упирающиеся в структуру отношений ответственности за общественный характер производства. То есть при «вертикальных» и «горизонтальных» связях нашего управления в периферийном районе резко проявляются элементы ведомственности и местничества, ведь колхозы числятся за Мурманским рыбакколхозсоюзом, а находятся на территории, закрепленной за Терским райисполкомом. Ведомственность и местничество проступают, как корги во время отлива, при решении многих экономических и социальных задач.
…На стыке времен года – весной и осенью – нарушается регулярность авиарейсов. И если при летной погоде АН-2 все же идут «на восток», а так местные жители называют маршрут на Чапому, Тетрино, Чаваньгу, Кузомень, то в Варзугу попасть труднее: взлетно-посадочные площадки побережья, как правило, бесснежны, в этом же старинном поморском селе аэродром защищен от ветра и уже в начале зимы покрыт снегом. И пока он не превратится в твердый наст, на риск не идут.
На этот раз рейс был особенным, специальным. Вернее, груз, который доставил самолет: первые 9 цветных и 11 черно-белых телевизоров. И понятно было волнение начальника площадки Валерия Попова – молодого парня, мечтающего попасть в летное училище, да и всех встречающих, поспешивших из своих домов на гул мотора. Хотя и не был я в тот момент вместе с ними, но яснее ясного представляю, как бережно были переложены тяжелые коробки на сани и бойкая лошадка с заиндевевшей от мороза мордой тронула в сторону села, кося любопытный глаз на необычный груз. Накануне наземной станцией космической связи «Москва», смонтированной на правом берегу реки, был принят первый сигнал со спутника. Так на Терский берег пришло телевидение.
Спросите у любого мурманчанина, что он знает о Варзуге. И человек, возможно, вспомнит о неповторимой природе этих мест, уникальном памятнике русского деревянного зодчества – Успенской церкви, песнях поморского народного хора, северном речном жемчуге. Но наверняка скажет о добываемой здесь семге. Сами же терчане стараются в разговоре это слово не упоминать. Говорят просто – рыба. Подобное «табу» до этого дня было наложено и на слова с приставкой «теле». Есть в этом что-то и от заскорузлой, как руки старого рыбака, обиды на невозможность вернуть былую славу некогда многолюдной родной стороне, и чувства боязни спугнуть, произнося вслух, нечто заветное, затаенное в самом укромном уголке широкой русской души. А попросту не верили уже варзужане приезжим лекторам о скором возрождении берега, да и своим колхозным руководителям, даже когда приступили на селе к монтажу станции и установке цветного ретранслятора. И не мудрено – столько лет год за годом на их глазах уезжала молодежь, забивались окна осиротевших домов. Не было в том вины терчан – могли понять люди необходимость большого строительства в городах, а с детства приученные к нелегкому крестьянскому труду, как должное принимали мизерные трудодни колхозников в послевоенные годы.

3 Село Варзуга Терского берега
Помните, как у М. М. Пришвина, побывавшего в Беломорье еще до революции, рыбаки море делили? До сих пор здесь видят в каждом приезжем чужака и в лучшем случае как соседи по коммунальной квартире несут ему свои обиды, прося разрешить давно уж потерявшие смысл споры. Не только о варзужанах я веду речь. Тяжелый хмельной осадок тех лет остался в думах жителей всего Беломорского побережья. Вспоминают про Устав рыболовецких колхозов, указывают на бессмысленность многоотраслевых хозяйств, на развитие животноводства. Нет-нет, и в наши дни, выступая на каком-нибудь совещании, кольнет председатель руководителей района тем фактом, что такая-то тоневая бригада одновременно с ловом рыбы заготовила энное количество сена. И хорошо это, вроде бы, а по Уставу-то колхозному не положено. Но рабочих рук не хватает. И хотя не желают родители приучать к отцовскому труду своих детей, но все же как о самом сокровенном говорят в Варзуге о будущей смене, переживают потери, борются за каждого человека.
…Вы знаете, как ловить хариуса «на всплеск». Стоишь на мелководье с удочкой наготове, ждешь. Как только рыба сыграла – забрасывай поплавок и вытаскивай на берег упирающуюся добычу. Детская забава, скажут рыбаки. Да, конечно. Именно этим и занимались ребята на разливах Варзуги. Рыбинспекция специально отвела им место на реке для подобной рыбалки. Меньше будут браконьерить, да и все же каникулы. А польза на селе от школьников большая, когда на счету каждый человек, а многие мужчины выехали на тони. Посадка картофеля, рассады капусты (только в Варзуге выращивают знаменитую на весь берег белокочанную), уход за посевами – это забота школьных полеводческих бригад.
Как-то осенью вернулись на село после службы в армии пять парней. Встретились с уволенными в запас воинами члены правления колхоза, переговорили с их семьями. И четверо остались. Не потерян окончательно и пятый – поманило его море, уехал в Мурманск, на флот. Выдали ребятам подъемные, поставили на работу. Теперь на всех тоневых участках есть молодежь.
С первых же минут знакомства секретарь партбюро колхоза «Всходы коммунизма» Анатолий Федорович Брюховецкий с болью рассказал мне о судьбе варзугской церкви. Вот уже четвертое столетие стоит она на правом берегу реки, а простоит ли еще год-два – кто знает? Договорившись о встрече, наутро я первым подошел к ее крыльцу. Сторож Никита Григорьевич Рогозин, прикрыв за собой двери, не пустил незнакомца на порог. Мол, кто его знает, а я на службе. Зато потом можно было неторопливо всматриваться в стертые временем доски, лишь по рассказам старожилов восстанавливая краски икон. Обходя нагромождения поздних картин, останавливать глаз на нехитрой церковной утвари, перелистывать влажные листы старых тяжелых книг. И слушать повествование того же Никиты Григорьевича о том, что были в Варзуге не одна, а четыре церкви, и собирались люди на праздники, пройдя на оленях, а чаще пеш ком, сотни верст, чтобы прикоснуться к затерянному в лесу чуду. И все это, – под монотонный пересчет работников Мурманского областного управления культуры, которые сверяли свои реестры, регистрируя какие ценности уже вывезены, какие еще остались (как тяжелобольные, которых нельзя транспортировать), а какие потеряны безвозвратно. Еще в середине XIX века, как гласит рукопись, церковь Успения Святой Богородицы обветшала, и тогда кузоменский крестьянин Алексей Петрович Заборщиков взялся на свои средства произвести все необходимые работы. И в 1889 году завершил свой труд. Наверное, и сегодня мог бы найтись подобный энтузиаст, да не позволят. А есть ли, спросят, у тебя разрешение министерства на строительно-реставрационные работы? Да и вообще, кто ты такой и почему тебе больше других надо? И ведут второй десяток лет мурманские работники культуры переписку с Владимирскими научными мастерскими, и пылится в шкафах проект реставрации. Да простят меня наши руководители, но в данном случае, говоря об их действиях, невольно вспоминаешь пословицу: «И сам не гам, и другим не дам».
Не буду оригинален, если начну сейчас вспоминать далекое прошлое и плакаться в жилетку, пересказывать байки о самобытном словаре поморов и добротно рубленных северных избах. Все так. Но не этим живут нынче селяне. Красоты, экзотика – они для туристов, гостей. А мужиков и баб больше волнуют, например, сроки доставки в Варзугу бензина, без которого стоят зимой снегоходы, а летом приходится как сто лет назад на шестах поднимать вверх по реке лодки-плоскодонки…
В одном из походов по побережью моим проводником был опытный и удачливый охотник Антонин Павлинович Чунин. Однажды мы с ним вышли на заповедную речку Кицу – левый приток Варзуги. Остановились отдохнуть в скрытой от лишних глаз промысловой избушке. И мое внимание привлекла каменка, выложенная из плоских красноватых камней. Такая порода характерна для аметистовых жил, к ней крепятся друзы этого полудрагоценного камня.
На вопрос Антонин Павлинович ответил утвердительно – да, обычные камни через несколько лет трескаются, покрываются копотью, а эти всегда чисты и очень прочны.
– А где же сами аметисты? – полюбопытствовал я.
– Пришлось их сколоть. Нам эти безделушки ни к чему, а для каменки опасны: при нагревании светятся и выделяют какой-то ядовитый газ…
Не для красного словца рассказал я этот эпизод. С подобным месторождением аметистов (а их, кстати, на земном шаре лишь два – в Бразилии, и у нас, на Терском берегу) можно сравнить все южное побережье Кольского полуострова. Надо только суметь увидеть и понять красоту и ценность полудрагоценного камня, который в умело сделанной оправе станет украшением области. И не торопиться брать на хозяйственные нужды пустую породу, скалывая сиреневые друзы.
Варзуга – одно из самых многолюдных нынче сел побережья. Здесь я как-то гостил несколько дней в семье Поповых.
Хозяйка дома Капитолина Михайловна – пенсионерка, участница знаменитого Варзугского поморского хора. Народные певуньи – Попова среди них чуть ли не самая молодая – легки на подъем, с удовольствием ездят, когда приглашают, в областной и районный центры, а то и в Москву на ВДНХ. Но с годами слабеют голоса запевал, а подхватить песню некому. Одни и те же слова по-разному произносятся в городской квартире и на берегу реки-кормилицы. По-разному и песня поется. Для приезжих она как бесплатное приложение к командировке, этакая местная достопримечательность. Для других, может, даже не часть, а вся жизнь с ее радостями и бедами, молодостью и старостью, вечерними посиделками с подругами и тяжелым ежедневным трудом рыбачки.
Пацанкой вместе со стариками сидела Капитолина Михайловна в годы войны на тони, семью кормила. Потом вышла замуж, дети пошли. Выросли незаметно, поразъехались. Нынче рядом остался лишь младший – Геннадий.
Но не только от мизерных трудодней рвались люди в города.
Восстановление народного хозяйства, индустриализация страны – стройки и заводы нуждались в дополнительной рабочей силе. И она пришла из деревни.
Сегодня уже наметился и набирает ускорение обратный процесс – тяга людей из города в село, от комфорта и стрессов в обезлюдевшие, забытые деревни. Будь то в Сибири, в центре России, на Терском побережье. Но возвращаются младшие варзужане, отслужив в армии, в отчие дома, к стареющим родителям, а в колхоз работать идти не спешат. Уж лучше в лесничество, в рыбоохрану или на сельский аэродром? на оклад в 85–90 рублей, хотя на денежных тоневых участках в бригадах не хватает рыбаков. В чем же дело? Нет, наверное, у парней уверенности в том, что будут они всю жизнь трудиться в колхозе. Желание, силы, подходящие специальности есть, а уверенности – нет. Уверенности в том, что смогут они найти на селе невест и удержать их здесь, что если не через год-два, то через пять-десять лет не ликвидируют колхоз совсем, не укрупнят, как это было после войны с другими хозяйствами Терского побережья, что всерьез и без кампанейщины пойдет экономическое и социальное возрождение старинных поморских сел периферийного района.
Конечно, вспоминать минувшее и критиковать день нынешний проще простого. И все же просчет кроется в том, что за принимаемыми планами и цифрами отчетов мы порой не видим тех, для кого берег – не тысячи гектаров сенокосных угодий и заповедные семужьи нерестилища, а кровная родная сторона, где есть и покосившиеся кресты родительских могил, и сегодняшние сельские новостройки.
Как щедрый хозяин, прижав буханку к груди, наделяет путника солидной краюхой свежего хлеба, так и полярный круг, не скупясь, отмахнул своим солнцеворотным лезвием Беломорское побережье Кольского полуострова. Терский берег – южный берег. Еще до мая ветер играюче пропихнет ледовые поля через беломорское Горло. А стоит ветру перемениться – и на глазах исчезнут искрящиеся на солнце километровые разводья чистой воды. Распрямляясь, ледовая пружина потеснит береговой припай, черными ропаками оставит на горизонте тихоходные суда.
В это время года в терских селах гостей мало. Знающие люди не испытывают больше судьбу, потопив уже однажды печь в колхозной гостинице. неделю-другую в ожидании лётной погоды. Любителям же экзотики делать нечего: одинокими погорельцами сторожат побережье живописные летом тоневые избушки. И кажется, что злой ветер выдул из них последнее воспоминание о человеческом тепле.
Мало кто, добираясь из, Тетрино в Чапому, не рассчитывает отдохнуть, обогреться чайком в доме Семена Семеновича Чеченина. Он до последнего времени был одним из трех, да и то «неофициальных» жителей Стрельны.
После революции интервенты сожгли старое село, но люди отстроились вновь, ближе к морю. Послевоенное экономическое развитие Терского района постепенно, но теперь уже навсегда, стерло Стрельну как населенный пункт с географических карт. Да, отдельное село может быть занесено в список неперспективных. Но в каких списках сохранить человеку святое чувство отчего крова?
В углу жилой части дома, у широкой русской печи с полатями закипает самовар. Семен Семенович ставит на стол кружки, сахар на блюдечке, тарелку с кисловатым самодельным белым хлебом. И разговор, как обычно в таких случаях, заходит о судьбе медленно умирающего села…
Дорогое, заветное острее чувствуешь издалека, в разлуке. Так получается нынче и с Терским берегом. Сейчас кажется, что встречался я там не с теми людьми, задавал им не те вопросы, забывал главное, порой жизненно необходимое. Хотя настоящий человек, как драгоценный камень, не нуждается в лакировке. На солнце так или иначе блеснет острая грань кристалла, осветив память неслучайными встречами, наполнив блокнотные записи живыми голосами попутчиков.
Говорят, что Терский берег надо пройти пешком. От села к селу, останавливаясь на ночлег на гостеприимных рыбацких тонях. Привыкнуть, вобрать в себя свет полярных ночей, когда солнце за каких-нибудь полчаса скатится по склону сопки с запада на восток, и, зацепившись за сосну, вскарабкается по ее ветвям и вновь заиграет чешуйками воды, превратив море в одну серебристую рыбину. «И радость, и горе помору – все от моря», – поговаривали в старину. Какое-то тревожное чувство остается после каждой встречи с берегом. И чем чаще, тем острее. Словно дали тебе прикоснуться к давно забытому, почти неосязаемому, что в детстве, давным-давно, хорошо знал и понимал. А с годами забыл, замутил… И, ломая породу, взрывая скалу, выгребают добытчики из кладовых мыса Корабль ободранные аметистовые щетки. А в то же время где-то на склоне Варзуги поднимет путник сиреневую гроздь кристаллов, удивится ее чистоте. И, оглянувшись вокруг, будто впервые увидит этот лес, открывшуюся за речным поворотом деревянную церквушку.
Родимая сторона. Заполярное Нечерноземье.