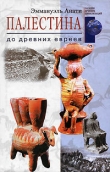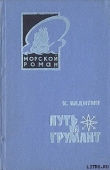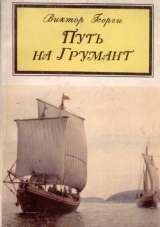
Текст книги "Путь на Грумант"
Автор книги: Виктор Георги
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Кстати, назову тех, кто вышел в плавание на «Поморе». Это Александр Скворцов – заместитель начальника экспедиции по науке, сотрудник НИИ культуры Министерства культуры РСФСР; Владимир Королев – краевед из Сыктывкара, ходивший много лет капитаном тральщика по Печоре; петрозаводчанин Юрий Колышков – боцман коча, профессиональный шофер; Владимир Панков – матрос, преподаватель Мурманского высшего инженерного морского училища; Владимир Вешняков – кок, кинооператор Архангельской студии телевидения. И, конечно, работник карельского клуба юных моряков кормщик Виктор Дмитриев, возглавивший экспедицию.
Все члены экипажа, за исключением отлично вписавшегося затем в команду Вешнякова, знали Друг друга и раньше. До этого дважды коч выходил на морской простор. Первый раз, поставив перед собой сверхзадачу – достичь легендарной Мангазеи в русле Оби, экспедиция из-за сложной ледовой обстановки в море и распрей внутри команды, не выдержавшей моральных и физических нагрузок, закончилась на полпути. В 1988 году, практически обновив состав современных кочманов (извините за неологизм, но как еще назвать плывущих на старинном коче людей?), мы планировали дойти до Мурманска. И вновь неудача – после трех безуспешных попыток пересечь беломорское Горло повернули назад. Но за это время успели сдружиться, «притереться» друг к другу. Так что костяк экипажа сохранился, а это, согласитесь, немаловажно. Особенно если учесть, что перед началом экспедиции предусмотрительные спонсоры из «Спутника» любезно попросили каждого расписаться под необычной «грамоткой». Из ее текста следовало, что я, имярек, прошу в случае чего никого не винить… мол, иду в экспедицию добровольно, находясь в здравом уме и твердой памяти… И мы расписались, не забыв перед выходом из Архангельска поставить свечку в местной церкви. А что оставалось делать после. подобных «грамоток»?
…В первую ночь на буксире у «Груманта» прошли остров Мудьюг, на траверзе мыс Инцы Зимнего берега. Волнение небольшое, ветер попутный, слишком «многолюдный» фарватер двинского русла позади – можно ставить паруса. Для начала подняли фок, и качка заметно уменьшилась, парус заработал, потянул яйцевидный корпус вперед. Румпель приятно подрагивает в руке, словно приложил ладонь к крупу породистого скакуна. Хотя со скакуном «Помор» сравнивать трудно – в предыдущих походах он развивал максимальную скорость до семи узлов. Так ведь не для состязаний гоночных строили наши предки эти суда, а для плавания в ледовых морях, где в первую очередь нужны не скорость, а надежность конструкции и простота управления. И пусть на прямых парусах не пойдешь против ветра – значит, надо знать четкие сроки выхода в плавание, чтобы оседлать попутный обедник и бежать на северо-запад или поймать полуденник для северного хода. Не за год-другой постигал древний мореход и знания морских течений. Иной раз падет ветер с горы, а навстречу ему приливная волна – столкнутся, схватятся промеж собой силы подводные и небесные, застучат по кораблю злым и жестким сувоем – уж лучше отстояться – пожировать в укромной бухте, чем плыть таким морем…
По радиостанции «Причал» с идущей впереди лодьи сообщают о курьезном случае: попробовали определить координаты по навигационному бую «Сарсат-Коспар» (на борту «Груманта» находятся два радиста Петр Стрезев и Василий Заушицин – опытные коротковолновики, не раз работавшие в международных экспедициях Шпаро), так американский спутник дает незначительное отклонение к западу, а советский вообще указывает на наземную точку, будто мы не на кораблях идем, а на оленях скачем по берегу…
«Собачья вахта» – с 0 до 4 часов утра – по традиции, заведенной на коче, у капитана. Значит, и у меня. Стоим по двое – всего три вахты, а кок работает по индивидуальному графику. Такой экипаж из семи человек для коча минимальный:
при управлении двумя парусами – фоком и гротом, общая площадь которых 80 квадратных метров – приходится звать на подмогу подвахту. Всего же на «Поморе» можно разместить 12 человек – для дюжины кочманов есть и спальные места, и спасжилеты;
На второй день пути, ближе к полуночи, задул устойчивый норд. Теперь вся надежда на сорокасильный движок «Груманта», который упрямо держит курс на север. Все ребята отдыхают, на палубе мы с Дмитриевым. Обсуждаем варианты: если не сумеем пройти беломорское Горло, то остается одно из двух – или возвращаться к Зимнему архангельскому берегу, к Канину мысу, или бежать на юг до острова Сосновец, а может до Умбы, так как по Терскому берегу надежных укрытий нет.
Северный ветер крепчает, заходит на норд-ост, заставляет держаться носом на волну. Идем милях в двенадцати от берега: ближе подходить опасно, а вдруг повернет «роза ветров», бросит суда на скалы? Трудяга «Грумант» практически стоит на месте, зря жжет топливо, борясь с катящимися из морской горловины длинными, с белыми гребнями, волнами. Объявляем общий аврал.
…Облачившись в роканы, ребята занимают свои места на палубе. Отпущены шкоты, чтобы враз., обрубив буксир, поднять паруса. Кормщик до упора оттягивает румпель в сторону – начали! Волна, чуть замешкавшись, раз-другой запоздало перехлестывает через борт. Но уже поднатужился поднятый на двенадцатиметровую высоту грот, взвился фок. И словно почувствовав шпоры опытного наездника, наш «Помор», сделав разворот, набирает скорость. Волны, шипя, гаснут за кормой, белой пеной изливают по бортам свою бессильную ярость, мерно прокатываясь под днищем коча. Курс на Сосновец…
К утру добежали, а что толку? Между пологим берегом и островом мелководье. С трудом выбрали место поглубже, бросили якорь, вытравив весь конец, но все равно сносит ветром на берег. С помощью «Груманта» вручную выбираем якорь и вновь раз за разом пытаемся найти на дне бухты хоть какую-то зацепку. Кажется, удалось…
Что ж, начало скверное. За первые полутора суток похода лодья израсходовала четверть всего запаса топлива, а экспедиция отброшена от желанной цели миль на сорок. Неужели придется возвращаться в Архангельск? Впереди просторы Белого, Баренцева, Норвежского и Гренландского морей. Мы же стоим на якоре и подсчитываем первые потери: при вынужденном бегстве к Сосновцу не успели поднять на борт лодку-кижанку, и ее волной бросило на корму, разбив оконце в казенке. Неисправным оказался построенный по старинным чертежам и установленный на баке деревянный ворот коча – пришлось при критическом сносе судна на берег выбирать якорь вручную. Кок «Помора» Владимир Вешняков, пытаясь согреть усталую команду горячим чаем, обварил себе руку кипятком…
Сквозь пазы дощатой палубы кое-где проступает вода – сыро и холодно внутри и вокруг. Да, упустили мы добрую поветерь, простояв в Архангельске лишнюю неделю и изнывая от одуряющей жары. Для меня эта небывалая в конце июня жара запомнилась неприятным вкусом теплого и липкого «Тархуна», которым нас угощали соседи по яхт-клубу, разместившиеся на пассажирском пароходе-гостинице участницы Мезенского поморского хора. По утрам они репетировали на бетонном пирсе, а днем выезжали выступать с концертами. Поначалу бойкие селянки, невзирая на жару, разминались в полной амуниции – длинных глухих красно-синих костюмах и с высокими кокошниками на головах. А под конец, освоившись с городской жизнью и не устояв под жгучими лучами солнца, скинули с себя потные балахоны. И тогда наши кочманы могли бесплатно присутствовать на необычных представлениях, наблюдая, как под игривую запевку «А как Ваня приглашал к себе Дуняшу кочевать» мезенки в купальниках водили хороводы. Сейчас бы хоть полчаса посушиться – погреться под тем солнцем…
И пока мы ждем погоду, в самый раз вспомнить рассуждения заполярного краеведа Владимира Афанасьевича Евтушенко о тайне каменных лабиринтов, продолжить рассказ о гипотезе московского писателя и археолога Андрея Леонидовича Никитина о существовании загадочного морского народа Беломорья. Тем более что, насколько хватает глаз, тянется за бортом пологий Терский берег, по которому мне посчастливилось совершить однажды увлекательный поход во времени и в пространстве вместе с Никитиным. Иной раз, склонившись над россыпями колотого кварца у очага первобытных охотников, или осторожно переступая через камни лабиринта, или шагая по плоским плитам песчаника среди древних захоронений, или просто отсчитыва-я километры по отливу, подставив лицо солнечному ветру, мне казалось, что за новым поворотом откроется не очередная морская губа с покосившейся тоневой избушкой, а распахнется тысячелетней давности лукоморье, где на приливной волне покачиваются байдары времен неолита…
Строители лабиринтов
1. Умбский «вавилон»О каменных лабиринтах Беломорья, этих удивительных сооружениях, назначение которых до сих пор не разгадано наукой, написано так много, что мне стыдно повторяться. Как и стыдно признаться в том что в свое время за целый год жизни в Умбе я ни разу не побывал у близлежащего лабиринта, хотя порой и выезжал подергать трески в Островскую губу, огибая выступающий в море крутой каменный мыс. Но на этот раз дора Умбского рыбозавода уверенно взяла курс в небольшой залив, где и пришлось бросить якорь, добираясь до берега на лодке.
По рассказам старожилов, байкам очевидцев я ожидал увидеть менее впечатляющую картину. Конечно, это было не внушительное сооружение из каменных глыб, а просто выложенные из крупной гальки круги. И все же явно «прочитывалась» характерная двойная спираль довольно-таки приличных размеров. Кое-где она была скрыта моховой подушкой, пряталась в пористой корке лишайника, покрывшей за тысячелетия камни и открытую площадку морской скалы.
Удивительным контрастом могла служить нижняя часть одного из поднятых нами камней – чистая, сохранившая бледно-розовый рисунок гальки. Вот, пожалуй, и все, что может увидеть на этом мысу дилетант. Разве что вспомнить еще легенды и предания различных народов, на чьей территории встречаются подобные лабиринты. Так, в Англии и Ирландии считали, что на них при лунном свете танцуют эльфы и феи, которые завлекают к себе, под землю, неосторожного свидетеля плясок обещанием вечной молодости, бессмертия и сказочных богатств. В горной Норвегии, где лабиринты лежат в глубине фьордов, люди полагали, что их создатели – зловредные йотуны, этакие ледяные великаны. А народ Швеции считал, что каменные спирали отмечают входы в подземные дворцы карликов-двергов, владеющих всеми секретами кузнечного ремесла, а потому оружие, которое они выковывали героям саг, делало их владельцев непобедимыми…
Совсем иную картину исследователь встречает в Карелии и на Беломорье. Ничего таинственного и волшебного, по мнению поморов, в лабиринтах нет. Ну а к каким все-таки выводам пришли ученые?
– Археолог, привыкший к тому, что определенный вид памятника связан со столь же определенным народом, который его оставил, при взгляде на лабиринты невольно останавливается в недоумении. Огромные расстояния, ничем не связанные территории не позволяли принять тот единственно возможный вывод, что каменные спирали выложены руками одного народа…
(Я слушаю Андрея Никитина и не устаю поражаться стройности его системы доказательств.)
– Что же это был за народ, столь многочисленный, освоивший огромные морские пространства, в которых должен ориентироваться по звездам? Куда он исчез? Где искать его корни? Наконец, когда именно происходило строительство лабиринтов? И для чего их создавали?
Собственно говоря, все, что высказывали по этому поводу ученые, можно свести к двум точкам зрения, попеременно преобладающим в науке: «реалистической», или бытовой, и «магической», сакральной. Первая предполагает, что лабиринты являются моделью рыболовных ловушек, которые сооружались на морском дне, обнажаемом отливом. Спирали, выложенные из камней, служили основанием для шестов, переплетенных еловыми или ивовыми прутьями. Логика в таком предположении есть, но только семга в подобную ловушку вряд ли зайдет. Да и зачем нужны столь громоздкие сооружения? Давайте поднимемся на мыс, осмотрим противоположную лагуну.
Предложение Никитина было принято и через несколько минут мы стояли у края обрыва, откуда открывался вид на низкий и ровный берег с сосновым бором и узкой полоской пляжа. Отлив уже достиг своего максимума, обнажив широкую полосу песчаного дна, посредине которой параллельно берегу шел своеобразный желоб, «труба», как называют его рыбаки, оставшийся заполненным водой. Именно он и был причиной богатых уловов на этом тоневом участке. Ведь идущая морем рыба не просто прижималась здесь к берегу, скользила над песчаной отмелью. Ее путь проходил по этой самой «трубе», которую перегораживали неводами. Столь идеальное для ловли семги место действительно, как мы убедились позже, было единственным на всем протяжении Терского берега. Не потому ли его отметили когда-то знаком лабиринта?
– Однако это не так, – продолжил рассказ Никитин. – Почему тогда на Соловецких островах в одном месте расположены сразу несколько одинаковых гигантских лабиринтов? Дело в том, что каменные спирали следует рассматривать в комплексе не с материальной культурой обитателей древнего Беломорья, не в одном ряду с каменными скребками и очагами, остатками жилищ, охотничьими и рыболовными ловушками, а в комплексе культуры духовной.
Все дальнейшие исследования убедили меня, что лабиринты служили входами, в подземное царство мертвых, о чем, кстати сказать, недвусмысленно напоминают связанные с ними легенды. Феи, эльфы, дверги, йоуны – все они были выходцами «с того света», куда завлекали неосторожных путников или искателей приключений.
(На мой взгляд, сила доказательства Никитина в том, что он пытается смотреть на все Беломорье в целом, старается решить его загадки во взаимосвязи всей истории человека на протяжении чуть ли не десятков тысячелетий.)
– Классический тип лабиринта мы находим на древнегреческой монете с острова Крит, где легендарный лабиринт царя Миноса, который на самом деле состоял из переплетений многочисленных залов, переходов, дверей и лестниц, представлен точно таким, как этот, под Умбой. А почему, собственно, критский лабиринт, о котором рассказывает древнегреческий миф, не мог быть именно таким? Для жертвоприношений требуется жертвенник, алтарь, стоящий в храме, но никак не здание-лабиринт. И алтарь этот находился не во дворце, а в подземелье, как о том повествует древний миф. Он вполне мог оказаться примитивной двойной каменной спиралью, которая у самых различных народов земного шара символизировала Солнце. И художник, вырезавший штемпель для древнегреческой монеты, знал гораздо больше, чем сообщал слушателям распространенный миф о Тезее и Минотавре…
(Итак, лабиринты – это алтари Солнца, единственного действительного божества северных народов, которое дарило жизнь всему сущему на Земле? Но кто же все-таки был их строителем?)
– Единство лабиринтов заставляет предполагать, что это памятники одного и того же народа. Поскольку наибольшее количество лабиринтов находится на Соловецких островах, то, вероятно, именно оттуда шло расселение, а если не расселение, то шли плавания строителей лабиринтов. Плавания, которые распространяли границы известной им Ойкумены все дальше, и в конце концов мир для древних мореходов расширился настолько, что они уже не вернулись назад. Почему? Мне думается, что главной причиной явилось резкое похолодание, изменение климата, которое мы наблюдаем во второй половине второго – начале первого тысячелетия до нашей эры. Белое море стало замерзать. Морскому народу пришлось держаться севера Кольского полуострова, омываемого теплым Гольфстримом. А когда Беломорье стало полностью покрываться льдом, они ушли еще дальше. Возможно, стали шотландцами, смешались с населением северных датских островов… Тут остается только гадать.
Каким-то отражением этих скитаний, вероятно, остались воспоминания об «островах блаженных» на далеком севере, которые дошли до нас в эпосе кельтов Уэльса. Эти «острова блаженных», где обитают души умерших, очень похожи на наши Соловецкие острова…
– Андрей Леонидович, ну а откуда пришел, где сформировался этот морской народ Беломорья? Есть ли еще следы его обитания?
– Да. Это прежде всего два древних поселения на мысе Востра под Чапомой, а также древнейшие могильники, которые удалось недавно обнаружить у мыса Корабль, напротив тони Великие Юрики…
2. Мыс Востра– Прошу ступать осторожно, дабы не повредить очаги, не сдвинуть с места камни…
По этому строгому предупреждению можно было понять, что сейчас рядом со мной уже не Никитин-писатель, а Никитин-археолог. Причем профессиональный. Его слова были не лишними: впереди на десятки метров протянулся береговой бар, Разделенный руслом пересохшего ручья. На каждом Шагу попадались выложенные из обожженных камней очаги, порой четкие, словно вдавленные в песок остатки мостовой – большие и маленькие круги, обозначавшие границу раскинутых над ними тысячелетия назад жилищ первобытных людей.
Наклонившись, Андрей Леонидович ощупал, взглядом песок.
– Смотрите: вот наконечник гарпуна. А это обломок ножа, сделанный из черного роговика. Камень стал слоиться, и его, очевидно, бросили за ненадобностью…
С трепетом поднял я сколотую под тупым углом каменную пластину, которая, казалось, еще хранила тепло чьих-то рук. Нож привычно и удобно уместился в ладони. Пожалуй, им еще можно было бы, хотя и с трудом, распластать крупную рыбу, а если подточить, то и освежевать тюленя.
– Разбросанные здесь колотый кварц и горный хрусталь – не что иное, как древние резцы и отбойники, скребки и ядрища, – словно угадав мои мысли, сказал Никитин. – По этим признакам мы стоим на типичной северной стоянке людей, строивших свою индустрию на кварцевой культуре и на кости.
Определив для себя цель поиска, вскоре и я заметил выступающий из песка характерный каменный предмет. Им оказалась заготовка для топора или большого гарпуна, выполненная из серого шифера. Среди мелких жальцев гарпунов удалось обнаружить одно столь совершенное, что, уверен, любой сегодняшний мальчишка с удовольствием приспособил бы его наконечником к самодельной стреле…
Так в чем же уникальность стоянки Востра близ села Чапома? Почему именно сюда вновь через 16 лет после ее открытия вернулся уже не Никитин-археолог, а Никитин-писатель, пытающийся понять и связать воедино не поддающиеся пока объяснению каменные лабиринты Беломорья и петроглифы Онежского озера, наскальные изображения в низовьях реки Выг и загадочные могильники, о которых еще пойдет речь в этих заметках?
– Отличие данной стоянки от остальных в том, что здесь жили не протосаамы, а охотники на морского зверя, – рассказывает Никитин. – Похоже, что в целом на побережье Кольского полуострова мы находим остатки по меньшей мере двух народов, так как наконечники копий и гарпунов, таких, как на мысе Востра, пока нигде не обнаружены.
Во-первых, эти стоянки ближе к морю. Во-вторых, количество очагов во много раз больше, чем на месте одного сезонного поселения охотников-оленеводов. Здесь их около семидесяти. То есть на мысе обитала мощная группа людей, которая могла не бояться нападения чужаков. В-третьих, близость Горла Белого моря…
Тем временем мы поднялись на следующую, более высокую морскую террасу, откуда в обе стороны открывалось широкое лукоморье. Море дышало, и в белесом дневном мареве вода сливалась с небом, оставив линию горизонта где-то там, за пределом морского простора. Позади были длинные, трудные, но отнюдь не утомительные сутки пешего перехода, когда, спасаясь от гнуса, приходилось вышагивать километры по куйпоге, надеясь на чуть заметный встречный ветерок. Сюда же из тундры выбегали дикие олени: гордые быки и осторожные важенки с телятами уходили за сотни метров от берега и взбивали копытами соленую пыль прибоя… Так было, наверное, и сто, и двести, и тысячу лет назад. Но кем были те, кто в далекие времена вот так же любовались широким простором, стоя на берегу? Ответ на этот вопрос и искал А. Л. Никитин в своих археологических экспедициях, подобных походах по Беломорью, которые давали толчок к различным гипотезам, находящим свое отражение в писательской работе. О своих догадках он рассказывал мне короткими июльскими ночами на тоневых избушках под неумолчный шум ворочающегося за окном моря. Попробую пересказать услышанное.
Архангельский археолог А. А. Куратов, давний друг Никитина, произвел однажды разборку одной из каменных куч в кольце лабиринтов на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага. Примерно на глубине полуметра от поверхности археолог обнаружил темное пятно: немного песка, пронизанного тленом, как бы от давно сгнившего дерева, мелкие угольки и кусочек обожженной кости.
Кость оказалась человеческой. А вместе с ней лежали куски колотого кварца, совсем такие же, как на стойбищах неолитических охотников и оленеводов Терского берега. Получалось, что каменные кучи, а стало быть, и лабиринты создавали люди, пользовавшиеся кварцевыми орудиями, то есть приплывавшие на Соловецкие острова с Карельского или Терского побережий Белого моря. Люди эти должны были быть «морским народом», не боявшимся пускаться в далекие и опасные плавания. Предки саамов, обитатели летних стойбищ Терского берега, не были мореходами и не занимались сколько-нибудь активным промыслом на море. Единственно, кто действительно мог претендовать на эту роль, были загадочные обитатели стоянки Востра – первого доисторического поселения, открытого Никитиным.
– Еще раньше меня поразило на нем обязательное присутствие на земле возле каждого очага от одного до трех наконечников гарпунов, сделанных из сизоватого шифера или роговика, – рассказывает Андрей Леонидович. – Точнее, то были не сами наконечники, а их каменные жальца, которыми оснащались наконечники поворотных гарпунов, совершенно необходимых для охоты на зверя в открытом море. Это было, пожалуй, одно из самых больших открытий, сделанных нашей экспедицией. Почему? Потому что поворотный гарпун произвел, если можно так сказать, революцию в промысле морского зверя.
В эпоху палеолита гарпуны, которые дошли до нас, имели костяной наконечник, который крепился намертво к деревянному древку. Таким образом, каждый раз для поражения морского зверя требовалось несколько гарпунов. Больше того, они часто ломались. А поворотный гарпун позволяет оснащать себя последовательно любым количеством наконечников, которые остаются в теле зверя. Собственно говоря, именно такой гарпун и применяется до сих пор в китобойном промысле, только теперь пушка выстреливает не гарпуном, а его наконечником…
Так вот, на мысе Востра мы находим жальца поворотных костяных гарпунов, которые относятся, по моим подсчетам, где-то ко второму, а может, восходят и к третьему тысячелетию до нашей эры. Судя по всему, они одновременны с наскальными изображениями в Карелии, в районе реки Выг. Там очень много рисунков, связанных с охотой на морского зверя. Можно видеть изображения нерп, белух, в которых сидящие или стоящие в лодках охотники метают гарпуны.
На всех без исключения «каменных полотнах» один и тот же определенный тип судна с высоко поднятым форштевнем, с выступающим снизу наподобие тарана килем, предохраняющим судно от внезапного удара о камень. Суда легкие, широкие, маневренные, с высокими бортами, не боящимися морской волны. И представлены они двумя видами. Первый – большие суда, предназначенные, как можно думать, для дальних морских путешествий или охотничьих экспедиций. На них можно насчитать от 16 до 24 человек команды, и в этой повторяемости уже чувствуется определенная стандартизация. Второй вид – собственно промысловые суда, которые, как правило, несут на себе экипаж из трех, реже из двух или одного человека. И это особенно интересно, потому что на память сразу же приходят каменные очаги на мысе Востра, вокруг которых мы неизменно находим один, два, но, как правило, именно три жальца от наконечников гарпунов!
Кстати, открытие поворотного гарпуна приписывалось беринговоморским эскимосам и относилось где-то к концу первого тысячелетия до нашей эры. Теперь же можно сказать, что на Белом море подобный гарпун был известен по крайней мере на две тысячи лет раньше.
Итак, каждый из очагов стоянки Востра можно достаточно надежно связать с экипажем одной промысловой байдары, изображенной на скалах Выга. А это позволяет уже прямо отождествлять обитателей сезонного стойбища морских охотников на Терском берегу с художниками, изображавшими их морской быт на скалах Карелии.
Сезонный поселок на мысе Востра существовал долго, только так могло накопиться вокруг очагов столь большое количество потерянных или выброшенных предметов. А вот погиб он в одночасье и скорее всего от какой-то эпидемии или стихийного бедствия. Ведь у очагов остались лежать гарпуны и прочие предметы – ножи, топоры, шлифовальные плиты, на которые никто из современников не покусился. Поодаль от этого было еще одно подобное стойбище, значительно менее разрушенное, что дает возможность в будущем заняться его исследованием. На востоке Терского берега обитатели этих двух крупных стойбищ были явно пришлыми людьми, их родину следует искать восточнее и южнее – там, где были известны лабиринты и где находятся надежные свидетельства именно морских охотников.
– Андрей Леонидович, но где все же доказательства, что владельцы поворотных гарпунов, создатели наскальных изображений в Карелии были строителями лабиринтов? – задал я Никитину наивный вопрос. – Ведь среди тысяч рисунков не найдено ни одного, похожего на изображение каменной спирали!
– Да, на скалах Выга напрасно было бы искать изображения лабиринта, – продолжил рассказ Никитин. – Эти рисунки являют собой «зеркало живого», а лабиринты принадлежат миру трансцендентному, связывая собой мир живых и мир мертвых. Гораздо важнее увидеть то, что есть на самом деле. Всю ту морскую тематику, которая подтверждает догадку о существовании на Белом море высокоразвитой и, что особенно важно, единственной среди всех остальных культуры морских охотников и мореходов. Это ее создатели, отправляясь во все более далекие плавания, открывая для себя берега Северной Европы и осваивая их, приносили не только свое мореходное и кораблестроительное искусство, но также возводили лабиринты, магически связывавшие их через подземный мир с другими, уже построенными, и в первую очередь лабиринтами Соловецких островов…