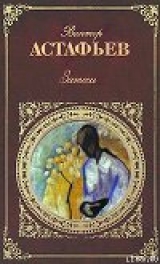
Текст книги "Затеси"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 56 страниц)
Аве Мария
Поет, страдая. А если б не было на земле страдания? Что стало бы с художником, певцом, сочинителем, композитором, да и просто с человеком? Страдание, ставши массовой болезнью, опростится, сделается привычным недугом, примет, да уже и принимает неожиданные формы, многие люди на земле ныне охотно страдают чужим страданием, как своим.
Но певец, небесами посланный, Богом нам дарованный, поет мою душу и моей душою, А я чем страдаю? Его страданием? Нет, страдать небесно, возвышенно я не научился, но сострадать, слава Богу, дорос…
Страдание – высшее проявление человеческой души, материя, раскаленная до последнего градуса – еще искорка, еще зга, еще чуть-чуть огня – и душа испепелится, сердце разорвет в клочья загадочная, странная и страшная сила. Песню же человек перенял у ветра, у птицы, у шумной волны.
Но мы привыкли думать: у певца и художника силы от небес, от высочайшего света, и страдание певца «не такое», как у нас, оно «красивше», оно целительно, свято, оно не земное и потому бессмертное.
В районную больницу, прямо от горячей домны привезли обожженного горнового. Больно ему было и жутко, как всякому попавшему в беду, израненному человеку. Он глушил боль в себе, терпел и по русской, по крестьянской еще привычке, извинялся, что вот грязен, закопчен, все «простыни и салфетки испатрал»…
«У нас работа тоже грязная», – сказал хирург, успокаивая больного.
«Что вы, доктор, у вас и грязь-то белая», – возразил горновой.
И страдание художника «белое», возвышенное. Отчего же тогда гениальные певцы и художники всех времен падали и падают в ранней поре? Рафаэль, Моцарт, Лермонтов, Пушкин – нет им числа, земным гениям, сгорают и сгорают они на ими же возженном огне.
Создатель «Аве Марии» покинул сей неласковый к нему мир, едва перевалив за тридцать. Он с детства работал, не замечая времени, творил, задохнувшись губительным даром. В угаре вдохновения, в ладанном чаду истекающей жизни успел еще встретить ту единственную, что была назначена ему судьбой, но соединиться с любимой ему не позволили. Сердце его, вздрогнувшее от счастья, покружилось нарядным листом, упало на клавиши инструмента и растворилось в музыке, в том чистом молении об утраченной любви, которое смиряет страсти, утешает в сердце все, что мучало и мучает его и нас. В последней, неоконченной симфонии звучит вечная печаль расставания, вечная мечта о несбыточной любви, которую все мы ощущаем каким-то вторым сознанием или неразгаданным еще чувством и стремимся, вечно стремимся дотронуться до небес, где и сокрыто все самое недосягаемое, все самое пресветлое, то, что зовется печалью, горькой сладостью, которой вознаградил нас Создатель.
Певец ближе к небесам, к великой очищающей тайне. Плененные высотой его полета, мы пытаемся вознесться вместе с ним, дотронуться до сияющих звезд, ощутить гибельное сияние, готовы сгореть вместе с ним, трепеща от прикосновения к ослепляюще-вечному, к тому, что всегда звало, манило, увлекало нас.
Благословен будь тяжкий и прекрасный труд певца! Благословен будь тот миг, когда, растворенный в пространстве, сам еще будучи частицей небесного пространства, капелькой света, дождинкой ли, мчащейся в облаке, семечком ли дикого цветка, отблеском луны, летящим над землей, ломким ли лучом солнца, он ощутил земной зов, откликнулся на него.
Слава Творцу за то еще, что Своего вестника послал Он к нам, чтобы возвысить нас, утешить нас, все далее и далее уводя от животного. Не его вина, что, забыв о заветах Творца, о гласе его вещем, мы сами, по дикой воле своей, по необузданной злобе, устремляемся к животному, мычим вместо того, чтобы петь, молиться, славить Господа за дарованное счастье жизни.
Иногда нам, благодарно внимающим певцу, кажется, что где-то, когда-то мы слышали и сами пели многое из того, что умиляет и потрясает нас в музыке. Может, там, где мы задуманы и сотворены до появления на свет, все общее: и страдание, и печаль, и звук, и слово, все слышат всех, все понимают всех, отмаливают сообща все наши грехи? Может, и я думал песней, звучал на ветру вместе со всеми будущими братьями, еще не ощущая их, несясь вместе с ними каплей дождя, белой снежинкой, диким семечком, проблеском света над землею?
Что за вечный зов в груди человека? Что за томление памяти? Почему так хочется отгадать неведомую тайну? Волшебство беспредельно сияющего света обратить в материальную пылинку? Стереть с лица жизни таинственный знак? Сдернуть певца с небес в нашу обыденность, погасить всевечную молитву о воскресении нашем.
О чем же плачем мы, слушая «Аве Марию»? О себе? О тех, кто никогда еще не слышал и не услышит эту дивную молитву во славу рождения Сына Божия? Может, оттого, что жить по заветам Божиим, быть честным и чистым очень трудно, так много нынче желающих смахнуть с небес избранного Богом Сына Божия? Вот и орут глухие для глухих, топает по земле стадо. Рев одичавшего исчадья, потерявшего себя и свой стыд.
Но истинный певец, посланец неба – все с нами, все парит и парит над землей, ангельские крыла его все белы, все чисты, несмотря на смрад масскультуры, на дым, на пыль, на копоть, поднятую самоубийцами, коих природа обделила не только голосом, но и умом.
Но уже не повторить песни Шуберта, не дотянуться до высших чувств создателя «Аве Марии». Познавший человеческую муку, он все убивается в тоске по рано угасшей жизни, по незавершенному делу, по несбывшейся любви, убивается, плачет и стонет о нас, грешных. Живи создатель «Аве Марии» сто лет, он бы сто лет и страдал, и чем далее, тем пронзительней страдал бы, убавляя горя в мире, беря его на себя, поднимая дух людей до своего духа, до прозрения, до своей мечты о прекрасном.
Верую, если бы люди не замучивали, не убивали своих гениев, мы были бы так высоки, что злобе нас было бы не достать.
«Аве Мария» – кто вдохнул эти звуки, эти слова в человека?! Если это дар небес, то пусть небеса и станут для творца тем местом, тем раем, о котором он мечтал на земле. И пусть единственной наградой за труды и муки земные будет ему та единственная, которой он достоин, все такая же юная, чистая, какую он знал на земле, какую любил он и воспел, превратившись в божество, пусть протянет ему руки у голубых небесных врат и пусть уведет его в пространство, лишь для них двоих наполненное несмолкаемой песней любви, уведет туда, где рай, где ждут их покой и свобода, где сокрыта тайна, всегда влекущая человека, туда, туда, где все вечно. Звучит молитва о прощении, о любви, и горит, все горит негасимой свечою «Аве Мария».
Афганец у ног президента
Среди депутатов Союза ССР был депутат, избранный от «афганцев», стало быть, от комитета ветеранов войны в Афганистане. Был он без одной руки, моложавый, изможденный, очень застенчивый парень – более я о нем ничего сказать не могу, более ничего не знаю.
…Шел многолюдный прием в советском посольстве в честь прибытия двух делегаций в Америку – делегации Верховного Совета, вторую назовем покороче, если получится – миротворческой, направляющейся в Питсбург, на многолюдное и представительное говорильное действо и задержавшейся на два дня в Вашингтоне.
Я припоздал на прием в посольство – был на встрече в каком-то университете, и в делегации нашей оказался депутат Паша – тезка «афганца». Когда Паша-депутат говорил – другим делать нечего. Переговорить его мог разве что Юрий Черниченко или депутатша одна, борец за правое дело. Но Черниченко с нами не было, депутатша же – в делегации Верховного Совета – говорила на другом приеме, и так говорила, что никому больше слова вставить в беседу не удавалось, да и незачем его было вставлять – она всегда говорила за всех и обо всем, исчерпывала тему до дна.
Пришли мы, значит, на прием, а там уж пир горой, гул, как на стадионе имени товарища Хрущева, когда там встречались в старые, дружбой овеянные времена, киевское «Динамо» и московский «Спартак». Гул, значит, в посольстве и дым, как на всех модных приемах, коромыслом. Какие-то крепко поддатые дамочки в декольте, с жемчугами и вообще в чем-то блескучем на тугих грудях, с красными от помады сигаретами громко говорили про политику, литературу и балет. Их снисходительно слушали подвыпившие, скорее, притворяющиеся подвыпившими и нешпионами работники посольства и руководители делегаций. Одна дама с совсем уж выразительно обнаженным бюстом, схватив за галстук зам. министра иностранных дел, упиралась настойчивыми выпуклостями в представительную грудь дипломата, горячо его в чем-то убеждала. Опытный, хорошо воспитанный, сдержанный на слова и выпивку дипломат, страдая и мучаясь, слушал дамочку, которая хотела немедленно высказать все сокровенное, наболевшее, грудь ее дроченую истерзавшее. При этом она все время норовила облить собеседника вином из фужера. Но видавший виды дипломат и не от таких бойцов отбивался: только дама наклонит фужер, чтобы вылить содержимое на бордовый галстук, как он поймает ее руку и выправит рюмку в вертикальное положение. Дама, глянув на руку дипломата, затем на свою, в кольцах, браслетах, схватившись за жемчужное ожерелье, чего-то хочет понять, а поняв, вернувшись на землю, шлепает размазанным ртом: «Извините!» И, отхлебнув из рюмки, снова громит империализм:
– Но эта стервоза Тэчир. Но этот сука Кисинжир!..
– А-а, Виктор Петрович! – будто ближайшего родственника увидев, вскричал дипломат и подхватил меня под руку. Я удивился такой его братской приветливости – мы лишь в пути познакомились.
– Где побывали? Чего повидали? – спросил он, хитро потирая руки. Я хотел сердито сообщить, что приехал в Америку не Пашу-депутата слушать несколько часов подряд, он мне еще в «эссэсэре» надоел, не слезая с трибуны съезда, как казак с боевого коня. Но сообщение сие совсем было не надобно дипломату. Он все так же хитровато потирал руки:
– Вы вовремя подоспели! Выручили! – и опасливо оглянулся на воинственную даму – не преследует ли? Дама в жемчугах разряжала политический заряд уже в другого, тоже солидного представителя нашей страны, кивающего головой и беспомощно оглядывающегося по сторонам. Спасенный мною дипломат, как человек деликатный, при всех переворотах и ветрах не колеблющийся, твердо стоявший на ногах, ныне вон представляет Россию аж в Организации Объединенных Наций – так вот, человек он не только деликатный, но и благодарный, просто так уйти в толпу не мог, узнав, что из-за неудержимого борца за нашу отечественную экономику остался я непитым и неетым, подвел меня ко глубокому корыту, сделанному из хрусталя, в глуби которого, в корытцах поменьше и продолговатей виднелась полуразобранная, полурастерзанная еда, розочки, изготовленные из моркови, свеклы, редиса, листьев зеленых салатов и съедобных трав – цветочки помяты, раздавлены, однако и добра еще много оставалось. Там и сям из разноцветных, бело вспененных водоворотов сплавными сваями торчали тупые концы обжаренных сосисок, ноздрясто дышали котлеты, может, бифштексы, рыба в крошеве моркови, и салаты, салаты из крабов, креветок, овощей.
Вина уже не разносили на подносах, как это бывает в начале приема, осмелевшие гости наливали всяк себе, держа бутылку, как застреленную птицу, за горло; кое-кто и пил по-иностранному, из горла.
Махнув рукой на корыто, более плоское, с синими цветами, изготовленное уже из фарфора, где грудились фрукты, ананасы, бананы, я нашел тарелку, вилку, нож и рюмку самостоятельно, принялся накладывать себе еду. Никто на меня, слава Богу, не обращал внимания. Дипломат, исполнив свой долг, вежливо удалился. Паша-депутат уже чокался с кем-то, гляжу – в рюмочке-то у него светленькая. Когда и успел?! Ну, ловкий парень! Я направился к Паше-депутату и, поскольку он своим красноречием истомил меня в университете, бесцеремонно его перебил.
– А-а! – воззрился на меня Паша-депутат близорукими глазами сквозь толстые стекла очков. – Это вы, Виктор Петрович? Чего вы хотите?
– Водки!
– Там, там, Виктор Петрович, в другой комнате.
И тут же Паша-депутат забыл обо мне, снова заговорил, заработал мозолистым языком. Тарелки у него в руке не было, из рюмки он не пригублял – голодом бился за прогресс, за политику и, судя по телевидению, по газетам, до се не выдохся, все бьется и бьется.
Водку я таки нашел, в богатой комнате, где в полутьме сдержанно беседовал с кем-то из представителей нашей делегации совершенно трезвый посол. Один мой свежезнакомый захотел непременно меня представить послу и представил. Заметив в моей руке тарелку с нетронутой едой, посол после трех-четырех дежурных фраз насчет моих впечатлений об Америке кивнул головой в сторону перламутрового стола с зажженными на нем свечами, сказал, что там есть все, чего душе угодно, даже водка.
«Умный какой человек!», – похвалил я посла и, пробившись к столу, подле и вокруг которого толклось многовато уже пьяненького народа, взял чуть испитую бутылку «Столичной».
– Мне сам посол разрешил.
Никто на мою шутку и на уносимую поллитровку не обратил внимания. Все гости говорили про все, и один громче другого.
Теперь мне предстояло самое важное: найти место, где можно было бы пристроиться поесть. Стоя я есть могу с грехом пополам, хотя и роняю еду на галстук и пиджак, но чтобы есть и одновременно пить – это уже выше моего умения. Хожу, причалу ищу в огромном зале, где дым от курева набрал такую плотность, что его можно было резать, как студень. Говор, смех, кое-где занимающиеся песни – весь этот бедлам был бы уже в зависть и одесскому базару. Ходил я, ходил по залу, на полу склизко от упавшей еды и пролитого вина, всюду грязные тарелки, недопитые фужеры и рюмки. Зал с зеркалами, люстрами, картинами, скульптурами напоминал уже конюшню, и в ней всюду чего-то доказывали друг другу потные люди, словно блатные в Игарке тридцатых годов из Нового города тырились на блатных из Старого города…
«Пропадешь тут нежрамши!» – подумал я. И только я так подумал, глядь, возле Вашингтона или Авраама Линкольна, в нишу вставленного, лепится народный депутат, однорукий «афганец», и невозмутимо потребляет пищу. Тарелка его стоит у ног мраморного президента, здесь же рюмочка синего немецкого стекла с винишком, здесь же груша, виноград и апельсин на другой тарелке. И все это по одну сторону ног президента, а по другую-то свободно.
– Я с тобой, неустрашимый наш воин! – воскликнул я и, чокнувшись с «афганцем», выпил, съел сосиску, хорохористо добавив:
– Мы, бывалые солдаты, нигде не пропадем. – На что воин-«афганец» согласно кивнул головой. Он и дальше ничего не говорил, все смотрел, смотрел издалека на человеческое коловращение, слушал гул большого зала, лицо его от вина зарумянилось, но в глазах стояла осевшая в глубь тоскливая мгла.
А по залу, запруженному народом, бегал с рюмочкой в руке воитель за демократическое переустройство страны, за экономическое и политическое усовершенствование и обновление ее, со всеми он чокался, как друг и брат, всем чего-то говорил, сверкая очками. Народу в непродыхаемом зале приемов посольства все прибавлялось, прибавлялось. Слух дошел – еще одна делегация из Союза прилетела, как потом оказалось, та самая делегация Верховного Совета СССР. Она уже отгостевала на каком-то важном приеме и торопилась в посольство, стараясь ничего не прозевать, почетно охватить все поильно-кормильные говорильные мероприятия.
Появились молчаливые люди в черном, укатили одни хрустальные корыта с растерзанной, смешанной пищей, убрали пустые бутылки, подмели пол щетками на длинных ручках и тут же вкатили чинно снаряженные, празднично сверкающие корыта с новой, не менее нарядной закусью, выставили кокетливо крашенные тележки с позвякивающими на них бутылками.
И, словно по сигналу, тут же возникла многолюдная делегация Верховного Совета. Громко говорящая, стремительная, умелая, опытная делегация по-хозяйски взлетела по мраморной лестнице в зал приемов. Впереди всех, о чем-то разгоряченно споря, следовал депутат от рабочего класса, довольно молодой мужик с непримиримым взглядом и яростным лицом, – большой борец за переустройство и честь России, готовый в любую минуту переломать ребра несогласным с ним. Обгоняя его, спешила, култыхая сдобными грудями вечной блудницы, не менее яростная борчиха за честь, за возрождение и процветание не только России, но и всего мира, в чем-то горячо убеждая, как ей казалось, на английском языке деликатно ее за локоток поддерживающего иностранца. Я увидел, как пугливо попятился за колонну и стриганул в глубь зала уже истерзанный зам. министра иностранных дел, боясь, видимо, попасть в руки этого унтера в юбке. Конопатое лицо пронырливой крестьянки пролетарского происхождения, ворующей яйца из-под чужих куриц и огурцы с общественного огорода, приставлено к могучим санкам выдающегося ирландского боксера, блудливые глазки желтоватого цвета и кошачьего разреза перебегали с одного мужика на другого, профессионально их отстреливая. Поднявшись по лестнице, она тут же бросила спутника-иностранца, вскрикнув, воздела руки к потолку и заключила в объятия какого-то лысеющего члена нашей делегации.
Обпившаяся, обкурившаяся, не переставая охотничьим, промысловым взглядом оценивать и обдирать шкуры с публики, это существо, которое еще в пионерах начало со всеми и за все бороться, во всем активно участвовать, все за всех говорить, набрало такой разгон, что не остановить – самое ей подходящее место в стране трепачей и пустобрехов. И за перламутровым главным столом, конечно же, она водрузилась не колеблясь рядом с усталым послом. Там, в Союзе, в зале съезда, куда меня тоже как депутата занесли черти, раздавались стон, уличная брань и хохот, когда эта бессменная ораторша снова и снова, порой никого не спрашивая, прорывалась на трибуну иль к микрофону, презрительно бросая оробевшему спикеру Лукьянову: «Слово не просят, слово берут!» – и что-то непреклонное, поучительное вышлепывала красно-размазанным, лягушачьим ртом.
За посольским столом неутомимая заступница за всех бедных и угнетенных братски перецеловала всех мужиков, перетискала их, избодала горячей большевистской грудью и взметнула вверх наполненную рюмку. Паша-депутат услужливо и громко стучал вилкой по полупустой бутылке с водкой, требуя внимания для приветственной речи невиданного трибуна, этой доморощенной Дуньки-активистки.
Боже милостивый! Даже за океаном не спрячешься от наших борцов за правое дело – везде достанут, начнут воспитывать. А уж дома-то, дома-то они так всем надоели, что ночами ведь снятся в виде рогатых блеющих козлов.
Напарник мой по трапезе, печальный «афганец», насытился, меланхолично ковырял зубочисткой во рту, без интереса наблюдая за все более густеющей, все громче гудящей толпой гостей, кое-где уж начинающей братание. Я тоже насытился, потяжелел от вина, спать мне захотелось. И предложил я собрату по советской армии идти домой, благо гостиница наша была неподалеку от посольства. Солдат солдата всегда поймет. «Афганец» молча мне кивнул, мы спустились вниз, получили в гардеробе куртки и вышли на улицу.
Над Вашингтоном простерлась темная американская ночь с едиными для всех земель и народов звездами, но только здесь оии были крупнее грузинских мандаринов, с алжирские, пожалуй что, апельсины они величиной были, которыми нас потчевали в посольстве. Такие к нам, в российскую провинцию, и не привозят. А воздух, воздух после жаркой, липкой тесноты прокуренного зала был так прохладен, так свеж, что грудь встрепенулась, сердце обрадовалось, и, казалось мне, никогда моему сердцу так легко и сладко не дышалось.
И все время, пока мы шли до гостиницы, пытался я воссоединить двух человек, двух народных слуг – однорукого «афганца», вкушавшего в ногах президента, и выдающуюся депутатку, затесавшуюся за посольский стол. Она хорошо бы вписалась в бурные российские «мероприятия» тридцатых годов, в президиумы того времени, в тройки, в комиссарские продотряды, и кожанка на ней сидела бы ладней, чем цветастое платье. Словом, ничего у меня не получалось – дети одной земли, одного государства никак не соединялись, не смотрелись вместе, хотя и вынуждены были заседать в одном помещении, вкушать бесплатные яства в одном зале.
Примечание
Увы мне, увы – все это кем-то придуманная неправда. Жил Евгений Евгеньевич с миниатюрной своей Катей в пристройке театра, которую милостиво уступил супругам Нестеренко директор Вена-опера, и никаких «мерседесов» перед подъездом не было, и заработанные певцом деньги забирало в свою казну любезное советское государство, оставляя работнику на чай с сахаром и на штаны, чтоб не мелькал певец по европам с «голым задом».







