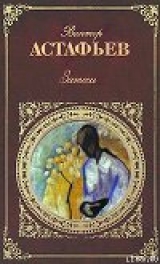
Текст книги "Затеси"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 56 страниц)
Первый комиссар
Было это еще в ту давнюю пору, когда люди еще жили в пещерах и кормились с помощью охоты.
Один глава семейства убил камнем оленя, зажарил его на костре и, разорвав на куски, поровну разделил между членами семейства.
А были в том большом семействе два братца – Иван и Карл. Иван любил работать и покушать тоже любил. Карл тоже покушать любил, но до работы земляной и охотничьей не был очень охоч. Быстрее всех сыновей съел кусок мяса Карл и, показывая обглоданной костью в небо, молвил:
– Смотри-ка, братец Иваша, пташка летит! – и пока Иваша глазел ввысь, отыскивая глазами пташку, Карл схватил его кусок мяса и съел.
В другой раз насчет пташки не прошло. Тогда Карл сказал Ивану, что самолет летит и его с собой возьмет. Однако на третий раз не прошло даже насчет самолета.
Не верит Иван братцу, и все тут. Тогда находчивый братец Карл отвлек братца Ивана от куска его тем, что стал рассказывать сказку о том, какая жизнь впереди будет счастливая, и как много будет пищи, что все будут сыты, сделаются братьями, станут жить в полном согласии и без обмана…
Тут уж не только Иван, но и все семейство первобытного добытчика рты пооткрывало, слушая сказочку Карла. А он тем временем у всех братьев и сестер, даже у мамы с папой пищу съел и начал оглядываться по сторонам, отыскивая вора. И нашел его поблизости и указал пальцем на полоротого простофилю – братца Ивана.
Так на земле появился первый комиссар.
Временное жилище
Не где-нибудь, а в новом сибирском городке увидел я прошибленную кулаком или железякой дверь, слепленную из какого-то заменителя, похожего на картон. От устья Ангары до Карских ворот лежит и преет первоклассная древесина, а тут – картончик на дверь!
И как это часто теперь получается, и не только со мною, вдруг остро резанула мысль: «Да уж не временное ли это жилище?!»
Историей еще не забыто: горстка цивилизованного человечества, ютившаяся в основном вокруг Средиземного моря, строила жилища из слабого туфового камня, ракушечника, песчаника, из глины, кизяка и плетеных ветвей. Они, те далекие люди, жили на исходе первого тысячелетия, ждали нового пришествия Христа, Страшного суда, кары и гибели.
Мы изживаем второе тысячелетие. Перевалим ли?
Страх
Загудел включенный пылесос, и мальчик, ползавший по ковру, вдруг забился, закричал, закрылся ладошками от страха.
И подумал я: «Разве это страх, мой милый мальчик, моя живая кровиночка? Самые добрые из добрых дяди-ученые и политики на каждую живую душу и на твое еще крохотное телишко заготовили тысячи тонн взрывчатки.
На этом они не успокоятся. Таким путем они берегут мир И планету. Очень заботливые дяди!»
Мальчик притих. Я открыл глаза и увидел: мальчик тычет в пылесос пальцем – «привыкает» побеждать в себе страх. Может быть, он приручает будущую жизнь к себе?
Заморское чудо
У высокого административного здания высадили ливанские ели, лапчатые, подернутые вроде бы искусственной сединой, и придумали хранить их в зимнюю пору нашими, российскими елушниками. Нарубят их, колючих, бедных, возами из лесу навезут и навалят плотно на холеные деревца. Те и млеют под зеленой теплой шубой.
Не так ли вот во все времена, во всю историю российскую спасают заморских «друзей» жизнями русских мужичонок, теплом их тел сберегают хлипкую заморскую красоту.
Смерть охотника
Дядя Саша, или Алексан Митрич, был самый знаменитый в нашем селе охотник, и оттого, что он был охотник настоящий, следопыт и истинный зверобой, ему не было надобности такового изображать, нагонять холоду и страху на людей, особенно на бабенок. Какой бы пьяный он ни был, за ружье никогда не хватался, не палил из него попусту, берег и его, и припас пуще глаза, про ремесло свое, охоту и тайгу рассказывать не любил и тихо улыбался, когда возле него в компании врали, хвалились охотничьей удалью.
А вот о нем ходили и ходят легенды по нашей округе до сих пор. Однажды, еще в молодости, белкуя, он столкнулся с медведем-шатуном. Заряды у охотника были только дробовые. Шатун пригнал его на скалу, подпятил к обрыву и бросился, оскалив мокрую пасть. Охотник подпустил медведя вплотную, упал под него, и, ослепленный яростью, в общем-то очень ловкий зверь не удержался на задних лапах, кувыркнулся через человека со скалы на лед реки и там из него получился мешок с костями.
Или как дядя Саша нес на себе трое суток раненого напарника, как выводил людей из лесных пожаров, как помогал мясом в голодный год деревенскому люду. И на войне не затерялся дядя Саша, около сотни фашистов положил из снайперской винтовки.
Не помню я другого человека на селе, которого в детстве мы так же почитали бы, хотя и был Алексан Митрич строг, малообщителен, ко всем относился одинаково, всех нас звал парнишшонками, гонял от лодки и от ружья и лишь изредка баловал кедровыми шишками, приплавляя их с загадочной, таежной реки Маны, ныне облысевшей от лесозаготовок и обмелевшей от безобразно ведущегося сплава леса.
В доме охотника не было никаких рогов, никаких шкур и таежных диковин – некоторые художники-профессионалы, замечал я, совсем не терпят в дому своих, а зачастую и чужих картин. Жена его была мягкодушна, приветлива, но тем не менее, как теперь я догадываюсь, имела над мужем большую власть, домашнюю, вела она дом на свой, крестьянский лад, чему таежный бродяга, как видно, не перечил и, полновластный хозяин тайги, здесь охотно, как бы понарошке, допускал над собою руководящую роль.
Ему было за шестьдесят, когда он тяжко заболел, и крепкий, крупнокостный, тайгой и ветрами каленый, дичиной кормленный, сделался, как метлячок, по выражению жены, – метляком у нас зовут бабочку. Долго не могли дознаться, что сосет и точит изнутри охотника, сплавили на лодке его в город, и там у него нашли ту болезнь, о которой врачи сказывают только родным, больного же держат в неведении и заблуждении.
Но тот, кто видел звериный глаз в предсмертной тоске, читал в нем непрощающий укор, обману не подвластен, – он знает тайну взгляда, знает, что кроется за ним, пусть и торопливым, брошенным вскользь. Словом, догадался Алексан Митрич, какие его дела, но родичам, даже сыну своему, догадки не выказал, ничем и не обеспокоил. Всем, кто его спрашивал про болезнь, говорил так, чтобы слышали и жена, и сын, и невестка: «Язва желудка привязалась, чтоб ее холера взяла! В тайге много бывал – всухомятку едал, да и мурцовку отведать не раз доводилось, вот и сгноил курсак-то…»
Старый охотник, хитрый следопыт неслышными шагами подкрался к своим близким, отвел им в сторону глаза и даже попрощаться со всеми сумел. Летним утром он поднялся, надел катанки и шубенку, вышел на крыльцо, сел и засмолил цигарку. Сидит, морщиня лицо, улыбается ссохшимся ртом солнцу, над Енисеем взошедшему, горам, качающимся в синеватой мари, огороду, росой облитому. Жену он накануне за лекарствами в город отправил. Сына до ворот проводил. Сын шофером работал, раньше всех на работу уходил. Потом невестку – «служашшу» – проводил тоже до ворот, потом внучат в школу снарядил, внука и внучку. Любушку, внучку, даже по голове погладил и сказал: «С Богом!»
Днем проезжал на машине мимо дома сын Алексан Митрича, и ровно бы кто давнул за него на педаль, тормознул он у ворот. Кинулся домой – дверь закрючена. И тогда вспомнил сын, как провожал его до ворот отец, как длинно и грустно поглядел на него, как шевельнул запавшими губами, и теперь только стало ясно, что шепнул он: «С Богом!»
Дико закричал сын и сорвал дверь с крючка.
Алексан Митрич лежал посреди пола и рядом с ним лежало его старое, со сношенной воронью курковое ружье, выданное ему как премия еще в двадцатых годах крайзаготпушниной.
Он признавал только собой литые, круглые пули и выстрелил такой пулей в то место, где болело, где впился в него, сосал кровь и силу этот проклятый рак, казавшийся Алсксану Митричу скользким, похожим на змею, на лягуху, на припадочного таежного клеща, на всех вредных и страшных тварей. Он убил эту тварь в себе, прикончил, чтоб ни на кого не переползла.
На столе охотник оставил записку.
Четвертушка бумаги, аккуратно вырванная из старой тетрадки внучки Любушки, и на ней дрожащие каракули: «Не хочу мучицца, гнить заживо да всех мучить. Простите меня, а я вас всех на веки вечные прощаю. Саша-охотник».
На кого беда падет
Пришло письмо от любимой певицы.
Где-то в пути оно попало в «переплет», измазанное, рваное, истолченное, моченое.
Еще было несколько писем в тот же день. Все они в полном порядке. И, зная, как тяжела жизнь певицы, сколько бед и страданий выпало на ее долю, я подумал: «На кого беда падет, того нужда не оставит…»
Положительный образ
Видел на Пермском конезаводе человека семидесяти шести лет, выглядел он чуть более чем на сорок. Был всю жизнь тренером коней, сначала на Чердынском, потом с тем конезаводом переехал в Пермь. Не пил спиртного, не ел мяса, каждый день зарядку и прогулку делал, не курил табаку, сосал конфеты.
– Какой железный человек! Так сохранился, да в такие времена. Уметь надо! – восхищались мы.
– А зачем? – спросил один пьяненький поэт, бывший на экскурсии на конезаводе. – Зачем это? Да я ни одного изношенного, изувеченного, «неправильно» жившего корешка из моего пулеметного взвода не променяю на этого себялюбца, – они, мои пулеметчики, все делали для других, себе уж что останется!..
Вопрос ребенка
Жадно растут нынешние ребятишки, рано, стремительно развиваются и, сдается мне, чувствуют трагичность времени, в которое они народились.
– Баба, а баба! Скажи, пожалуйста, когда на комбайн принимают работать? – спросил мой шестилетний внук у бабушки.
– А зачем тебе это?
– Я хочу работать на комбайне.
– Почему именно на комбайне?
– Чтобы никого не убивать.
Предел
Ночь. Темнота. Давно ветер не звучит за окном. Терпение кончилось. Предел. Надо помогать себе. Высыпаю горький порошок в рот. Половину мимо. Слезы застревают в ростках бороды, смывают перхоть порошка. Провал. Забытье.
Из далекого сна
Что же ты, девочка, из далекого детского сна более не приходишь ко мне и не зовешь меня?
Ты была в синеньком ситцевом платье.
Послание во Вселенную
Люди Земли послали в космос пластинку, надеясь завязать контакт с разумными существами, если они есть в небесном пространстве.
Все добрые сведения о нас, о нашей планете нанесены на пластинку, и только ничего там не сказано о войнах, о голоде, болезнях и братоубийстве.
Что это – «лакировка действительности»?
Нет. Разумные существа, если они воистину разумные, не могут творить такие позорные и черные дела, какие натворили и творим мы, земляне. Истинно разумные могут не понять нас и не принять нас за разумных, а дикарями кому хочется выглядеть, тем более что среди землян хоть изредка являлись Гомер и Леонардо да Винчи, Бетховен и Циолковский, Моцарт и Данте-божественный, Последователи их не всегда же хватались за меч, случалось – и за орало, а то и за кисть, за перо, за увеличительное стекло – чтоб заглянуть дальше во время и пространство.
Мне еще многое нравится
В Москве слушал оперу, сидючи рядом с музыкальным знатоком. Мне опера понравилась, хотя и шла в будни, будничным составом. Я хлопал и орал: «Браво!» Знаток сидел с кислой мордой, досадливо на меня косился.
– Я счастливей тебя! – сказал я знатоку. – Мне еще многое нравится.
Долбят гору
Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами ее стиснули. Электропроводами опутали. Дачами опятнали. Карьером изуродовали.
В юности, еще в войну, мы, фэзэушннки, слабые от долгой зимы, полуголодной житухи, карабкались на ту крутую гору за первыми подснежниками и затихали в теплом поднебесье.
Нам хотелось жить, любить, надеясь на лучшее.
Целые районы с готовой землей заброшены, порастают дурьем.
Неужели вам мало места, люди? Неужели ради огородного участка нужно сносить леса, горы, всю святую красоту?
Так ведь незаметно и себя под корень снесем.
Четыре плиточки жмыха
Анатолию Козлову
Мой сосед, вошедший в зрелые годы из тех, что росли в послевоенную голодную пору, часто рассказывает о том, как жили они, и удивляется – как выжили? Ведь, случись сейчас голод, первыми вымрут ребятишки, не умеющие питаться от земли, вялые в жизни, мало сообразительные, бойкие лишь на язык и гораздые на пакость.
А те, семи-, восьмилетние карапузы, полураздетые, босые, брошенные на произвол судьбы родителями, работающими в полях, сгорающими у мартеновских и доменных печей, глохнущими в шахтах, застывающими в лесах – ради светлого будущего, – были добытчиками и борцами за свое существование: они что-то тащили, меняли, подрабатывали сторожбой, в няньках, пели патриотические песни в госпиталях для раненых, ловили рыбешку, теребили шерсть, пряли куделю, вату, копали коренья рогоза, саранки, солодки, ели медуницу, первоцвет, черемуху, пучку, тащили из гнездовий яйца, выливали водой из нор сусликов.
О-о, какой сообразительности, изворотливости достигали эти жадные до жизни малые умельцы: находчивость их не знала пределов, полет мысли – расстояний.
Доведя народ и страну до полного обнищания, партия и правительство лихорадочно искали ходы и выходы из ахового положения. Опасаясь падения последнего скота в зауральских областях, бросили в колхозы и совхозы на армейском транспорте выметенный по сусекам и складам фураж, с южных маслоделательных заводов повезли соевый и подсолнечниковый жмых – самый лакомый ребячий продукт. А как его добыть, если живешь далеко от складов и баз, в деревушке, затерянной в бескрайней лесостепной полосе?
Нашлись молодцы, сообразили: выходили к дороге и палками, дощечками углубляли колею, чтобы машины с грузом сбавляли ход, и тогда парнишки, выскочившие из придорожных кустов и бурьяна, хватали из кузова кто сколько может кусочков жмыха. Солдаты-шофера часто гонялись за добытчиками, догнав, били в кровь, особенно свирепствовали молодые парни – они еще не понимали отчаянного положения деревенских детой или уж лютовали от усердной заскорузлости, развязности, зла и силы, обильно посеянных по Руси Великой в годы разных переломов, так ныне разгулявшихся.
Но помнятся не они. Помнится пожилой шофер, который хитрую канаву, покрытую ледком, ловко миновал, видать по фронтовым хлябям да разбитым дорогам езживал, но, проскочив «ловушку», остановился, запустил руку под брезент и, вынув оттуда четыре плиточки жмыха, покликал четырех мальчишекдобытчиков, отбежавших подальше от дороги:
– Нате, робяты! Возьмите!
Парнишки не подходили. Включив скорость, шофер медленно поехал. Нe веря своему счастью, добытчики схватили жмых, прижали плиточки к груди, с недоумением глядя вослед машине. Отъехав недалеко, шофер открыл дверцу, свесившись, оглядывался, широко улыбался ребятишкам и утирал рукавом грязной гимнастерки усталое, заросшее лицо.
Боженька, миленький, верни того шофера на русские дороги, в русские села, к русским ребятишкам.
Ярцево-Ерцево
Жил-был еврей по прозванию Юз. Как и полагается еврею, тем более питерскому, был он ученым в области русской словесности. Еще будучи студентом, изучал в университете древнерусские летописи и рукописи. Ну и изучал бы себе, добывал звание кандидата филологических наук неустанным застольным трудом. Так нет ведь, егозливая еврейская натура требовала, чтоб он делал свой труд честно, проницательно и принципиально. И нашел он, что летописи времен русского царя Ивана Грозного подправлены, подчищены, дописаны в пользу авторитета и во славу кровавого царя – деспота, о чем в своем труде, взыскующем ученой степени, и заявил еврей Юз во всеуслышание во время защиты кандидатского диплома, забыв или пренебрежительно отнесясь к тому, что на троне в ту пору царил не менее кровавый деспот и любимым духовным отцом естественно считал он Ивана Грозного.
Прямо из аудитории взяли умственного еврея, вещающего черт знает какую крамольную историю про русского царя, увели куда следует, и там он быстро признался, что оклеветал отечественную историю, хотел пролезть в славную советскую науку в качестве польско-японского шпиона, чтобы вредить стране и народу изнутри. И вместо кандидатской степени молодой человек получил десять лет исправительно-трудовых работ в лесах Сибири и, ударно проработав в ярцевском леспромхозе пять лет, здесь же, в достаточном поселке Ярцево, оставлен был отбывать пять лет ссылки.
У еврея Юза остался в Ленинграде с мамой мальчик Юзик, и этого мальчика с самого первого класса звали сыном врага народа, и это, конечно же, не нравилось Юзику. Помнил он папу молодого, кудрявого, еще в студентах начавшего лысеть, добрым, тихим, уткнувшимся в какие-то толстые, заношенные, от руки писанные книги, пахнущие пылью и воском свечей. Где, как, чему мог навредить его папа, Юзик не понимал, сомневался и, затаив сомнение в себе, решился он съездить в Ярцево, в Сибирь, чтобы спросить у папы: правда или нет, что он – враг народа?
Одно дело иметь желание и совсем другое дело осуществить его. Но он был в папу – упрямым и прилежным, старательно учился и тихо себя вел в школе, откуда его, случайно забыв или за прилежность эту, не исключили, как исключали и куда-то отправляли многих других враженят.
Мама Юзика с конторской должности была изгнана и кое-как устроилась контролером трамвая. Ее зарплаты едва хватало на хлеб и оплату квартиры да на школьный завтрак ребенку, завтрак тот стоил сперва тридцать, а затем и сорок копеек. Вот эти-то завтраковские деньги малый Юз откладывал в консервную банку, устроенную в виде копилки, а сам приладился помогать тете Гане – продавщице мороженого: собирал и относил во двор магазина ящички, в которых оставались раскрошенные хлебные вафельки из-под мороженого, иногда отвозил и тележку, за что тетя Ганя разрешала мальчику заскрести остатки мороженого из цилиндриков-бачков.
Юзик по географической карте нашел Сибирь и кружком означенное на берегу Енисея селение Ярцево. До него было далеко, и следовало иметь еще и крепкую силу, чтобы туда добраться.
Он учился в шестом классе, когда у него скопилось пятьдесят рублей. И тогда он заявил маме, что поедет в Сибирь – навестить папу, и попросил дать ему противогазную сумку – мать имела ее, как член кружка ПВО, запасную майку и трусы, а также сшить новые сатиновые штаны, которых хватило бы на путь туда и обратно.
Мать у Юзика была русская, в молодости еще приехавшая из Костромской деревни учиться конторскому делу, на вокзальную кассиршу. Звали маму Юзика Устиньей. Она еще по папе хорошо знала, что, если евреем, пусть и малым, овладела идея, перечить ему бесполезно, а возражения и уговоры только распаляют его.
Она сделала все, что просил Юзик. От своей скромной зарплаты добавила сыну десятку, настряпала подорожников и со слезами проводила его на поезд.
Ехал Юзик очень долго. Видел всего очень много. В дороге сделал три пересадки, даже поголодал, но добрые люди не дали пропасть ленинградскому мальчику, подкармливали его, кто чем мог, а он за это – кому вещи поднесет, пожилым спуститься с подножки поможет, случалось, и проводникам помогал – кипятил вагонные самовары.
До Красноярска Юзик доехал серединой лета, без копейки денег и, когда посмотрел на речном вокзале на освещенной лампочками карте, какое количество километров еще осталось до Ярцево водным путем, узнал, сколько стоит билет на пароход, то понял, что пропал: до Ярцево нe доехать и в Ленинград не вернуться – не на что.
Ночевал он на речном вокзале среди пестрого и шумного народа, устремившегося на север, на какую-то путину, называемую Карской, на новостройки, на рыбные промыслы. А днем шатался по городу, читал объявления с целью – где бы и кому пригодиться, чтоб заработать денег. Но отощавшего бродяжку-мальчика даже улицы подметать не брали. Попытался он пристроиться к базарной шпане, но шпана его презрела и отлупила за то, что ни по карманам, ни по огородам он лазить не горазд, даже курить не умеет.
Пришла пора пропадать Юзику совсем, но тут красноярские заплоты, витрины и улицы запестрели плакатами с нарисованными на них самолетами о перелете отважных советских летчиков из Ленинграда аж до заполярной Игарки. Перелет возглавлял уже и тогда известный полярный летчик Водопьянов.
Юзик спустился к Енисею, постирал штаны и рубаху, искупался и помыл песком лицо. Прибравшись, он пешком поднялся в гору, к аэропорту и долго кружился вокруг аэродрома, наблюдая, где, вокруг каких самолетов толкется народ и по плакатам, но скорее по велению Божию, проник на запасное летное поле, именно к той машине, на которой совершался легендарный полет, а здесь отыскать товарища Водопьянова смекалистому малому не составило труда.
Водопьянов, молодой, румяный, при ремнях и орденах, долго не мог понять, чего от него хочет кучерявый малый с тысячелетней печалью в глазах, тощий телом, костлявый лицом. А, понявши, уставился на него ошарашенно: еврейский мальчик, не являющийся даже пионером, просился, чтобы взяли его на самолет и высадили б в населенном пункте Ярцево. Водопьянов долго хохотал, хохотал и весь его героический экипаж, все техники да разные люди вокруг хохотали. Хохотал вместе с ними и Юзик. А что делать? Потом Водопьянов сделался совсем серьезным и спросил у своих коллег, где будет производиться дозаправка в пути. Ему ответили – в Ярцево и в Туруханске. Там же будут происходить и встречи с восторженно их ждущими трудящимися советского Севера.
«В самолет отважного ленинградца!» – скомандовал Водопьянов и прижал палец к губам, чтобы Юзик никому ни гу-гу.
И как в русской сказке, Юзик оказался там, куда стремился, в Ярцево, на Енисее, и даже помахал самолету Водопьянова рукой, когда тот, взнявшись в воздух, гудя могучими моторами, проносился низко над рекою.
А на Енисее Юзик оказался потому, что в поселке ему сказали, мол, все ссыльные живут по домам, но днем околачиваются на берегу, ловят рыбу, там же варят ее и едят. Иногда и на ночь остаются, возле костра, иные уж что-то подобное землянкам вырыли в яру.
Люди сидели на корточках возле закидушек, лежали на песке в одеже, будто ждали, что их вот-вот куда-то повезут. Никто не купался, не загорал. Эти люди явно не чувствовали себя здесь курортниками. Каким-то родственным наитием Юзик еще издали узнал папу, одетого в полубрезентовый дождевичок, и такая же брезентовая, мятая шляпа прикрывала его голову. Шитые тоже из брезента башмаки стояли возле прогоревшего костерка, над которым висела на проволоке консервная банка.
Папа не отрываясь смотрел на закидушки и нетерпеливо перебирал босыми ногами, кто-то теребил, потом резко задергал шнурок закидушки. Папа сделал подсечку и, споро перебирая руками, вытащил на песок суматошно бившуюся на крючке крупную белую рыбину.
– Здравствуй, папа! – сказал Юзик.
– Здравствуй, здравствуй, сынок! – отозвался папа, снимая рыбину с крючка, отозвался он таким будничным голосом, будто расстались они только вчера и вот сегодня опять увиделись. – Вот видишь, какой ты счастливый – только-только появился и тут же – на твою долю – поймался сиг! – Папа ногой, подальше от воды, швырнул рыбину, наживил из банки черными червями, жирными и бойкими, и, лихо размотав привязанную к закидушке крупную гайку, закинул ловушку далеко за приплесок, после чего вытер руки о штаны, поцеловал Юзика в щеку и спросил: – Кушать хочешь?
Он мог бы и не спрашивать об этом, было видно и так, что ребенок голоден, давно голоден. Сняв почерневшую от сажи банку с таганка, папа отломил краюху хлеба, хранящегося в самодельной холщовой торбочке, и кивнул на ложку, прислоненную к камню, где лежал и складной ножик, но папа почему-то не воспользовался им, он ломал хлеб, крошки с ладони ссыпал в рот.
Пока Юзик обедал, папа рассматривал его: лицо сморщенное, испитое, с провалившимися глазами, и грустно выдохнул:
– Какой ты большой стал!
«А ты какой старый сделался», – хотел сказать Юзик, но ничего не сказал, полагая, что папа и сам об этом догадывается.
Папа попросил Юзика рассказать все про жизнь в Ленинграде и про проделанный путь им сюда.
Собрались вокруг рыбаки, охали и ахали, хлопали себя руками по коленям, хохотали, вскрикивали и, наконец, дружно сказали: «Молодец парень!» – постелили на песок какое-то рванье, надели на него накомарник и велели ложиться спать после дороги, а сами продолжили свою работу – рыбалку.
Шел сиг, язь и окунь. Люди запасали рыбу на осеннезимнее пропитание.
Юзик прожил у папы в Ярцево почти два месяца, и еще бы жил, но подходила пора отправляться дитю в школу. Его приодели в полубрезентовую, как оказалось, зэковскую одежду – портной, тоже из ссыльных, подогнал брезентуху по росту мальчика. Работавшие на сплотках и выкатках леса, также занимавшиеся заготовкой дров, кедрового ореха и ягод, ссыльные пустили шапку по кругу и собрали денег на дорогу Юзику. Из тех денег папа купил сыну новую, теплую телогрейку, чтоб было в чем ходить мальчику в школу, маме послал давно им хранимый меховой воротник и теплые варежки, из заячьей шерсти вязанные.
Снабженный харчами, с небольшим бочонком вкуснейшей рыбешки-тогунка и связкой сушеных сигов, да гостинцами для мамы, Юзик пустился в обратный путь, и все ему слышались тихо и печально сказанные на прощанье слова отца: «Ну, сынок, Бог даст, еще увидимся на этом свете». И тогда-то, после этих слов Юзик и спросил папу, правда ли, что он – враг народа? На что папа также тихо и грустно, но выразительно ему молвил: «А как ты думаешь, сынок?» Юзик долго, считай, все лето, не решался спросить папу о главном, о том, чего ради тащился он в далекую Сибирь. И героический летчик Водопьянов, и многие добрые люди помогали ему. Так как же не спросить было, вот он и спросил. «Висунулся!» – как говорят евреи.
И они увиделись. И очень скоро. Война еще не началась, но они уже увиделись. Папа отбыл ссылку, и ему больше ничего не добавили, более того, ему позволили вернуться в тот же отдел древних рукописей, где он-таки снова всем доказывал, что рукописи русского царя Ивана Грозного подделаны.
Его обещали снова отправить – упрятать лет на десять в Сибирь. Но этому мероприятию помешала война. Усовершенствовав в ссылках знание языков – немецкого и французского, папа сразу же попал в какой-то блатной военный отдел, где занимался агитационной работой, разлагая той агитацией вражескую армию. Разложил он ее или нет – пойди, узнай, но дожил он до Дня Победы и даже получил за свою ответственную работу две медали, один орден. Семья еще до блокады была эвакуирована в глубь России, на родину мамы, где она работала на сельхозполях, добывая фронту хлеб и овощи. А Юзик под надзором бабушки учился в школе, летом тоже трудился на полях и у бабушки в огороде.
Бабушка сперва не любила Юзика. «У-у, жиденок!» – говорила она, но потом полюбила и, когда провожала дочь с внуком по вызову папы в Ленинград, плакала и наказывала, чтоб приезжали еще.
Папу после войны на прежнюю работу не приняли, к древним рукописям больше не допускали, так он, из упрямства – не иначе, начал натаскивать на опасную тропу своего щенка. И вот Юзик уже медалист школы! Вот он уже студент! Вот он уже защищает кандидатскую диссертацию, и, следуя по папиному крамольному пути, доказывает, что рукописи Ивана Грозного – поддельные! Теперь уж его берут под белы ручки и везут, куда надо, на этот раз недалеко, с небольшими тратами. Поручают ему рубить лес на Вологодчине, неподалеку от села под названием Ярцево.
Ярцево – Ярцево! И стоило ради этого получать золотую медаль, слеповать в читальных залах, не спать ночей, И стоило продолжать бороться за историческую правду!..
Сомнения, сомнения, сомнения. Сомнения и тревоги. Грустные размышления. А тут еще папа приехал в вологодское село Ярцево. А что ж не ехать? Это ж не в Сибирь далекую добираться! Это ж почти рядом с Ленинградом…
И старый же сибирский волк все знает, всех людей изучил, и военных, и гражданских, подходы ко всякому человеку имеет. Папа привез кое-что, подарил кое-кому – и отпустили лесоповалыцика Юзика в село Ярцево, на два дня. Первый день Юзик с папой только ели и пили, а на второй день – опохмелялись, и папа, во память так память у человека! – спросил: «Ну как, сынок, правда ли, что ты – враг народа?»
Ну что Юзик мог на это ответить? Ничего он не мог ответить, однако, вернувшись с лесоповала в Петербург-Ленинград, он-таки добился, чтоб с него сняли судимость и клеймо «враг народа», да чтоб и восстановили на прежней работе.
Времена пришли новые, да вот папа до них не дожил, зато Юзик долго заведовал рукописным отделом старейшей Петербургской библиотеки. Труд его о подделке летописей периода царя Ивана Грозного – давно напечатан и никакой сенсации не произошло, и никого за это не посадили в тюрьму, потому как много всего оказалось на Руси Великой поддельного, загаженного, утаенного, поклепами и наветами испоганенного.
Юзик ушел на почетную пенсию с ученой степенью доктора филологических наук, но ни в какой Израиль не поехал, хоть и приглашали, а вот в туристическую поездку по Енисею отправился. Высадившись в Ярцево, неделю жил одиноко на окраине села, на берегу под яром, ловил закидушками рыбу, варил уху в котелке, обнявши колени, сидел возле воды, смотрел вдаль, о чем-то думал и качал головой, вовсе не облысевшей, лишь от уха до уха, в скобку кучерявым венцом объятую, будто рыженьким роем пчел облепленную.
Меня он просил, если я вздумаю писать эту расчудесную историю, доподлинной его фамилии не называть.
Ну и что, что другие времена? Что гласность? В стихе одного здешнего ссыльного, израильским поэтом написанном еще в начале перестройки, говорится: «Товарищ, верь, пройдет она, эпоха этой горькой гласности. И органы госбезопасности запомнят наши имена…»
А у него внуки, два очаровательных внука: девочка Устя и мальчик Петя, и он за них боится больше, чем за себя и сильнее, чем за папу, боится.







