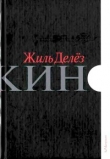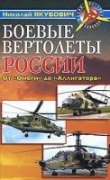Текст книги "Вертолёт 1999 03"
Автор книги: Вертолет Журнал
Жанры:
Транспорт и авиация
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Знать физику ВК – это значит знать и способы безопасных выходов из него. Только тогда можно не опасаться этого режима. Только после этого летчику можно заниматься операциями с грузами на внешней подвеске, а при случайных попаданиях в вихрь спокойно и расчетливо действовать. При этом груз можно и не сбрасывать, если позволяет высота или требуют обстоятельства.
Необходимо заметить, что на малых скоростях полета (от 35 до 80 км/ч) и при вертикальной скорости снижения более 8 м/с значительно ухудшается эффективность традиционного путевого управления. Этот недостаток легко компенсируется с помощью поперечного управления путем создания кренов (2–3?) в сторону желаемого (или против самопроизвольного) разворота. Учет этих моментов позволяет достаточно безопасно расширять зону ограничений на управление вертолетом Ка-32 при вертикальном маневрировании и оптимизировать действия летчика при непроизвольном попадании за пределы этих ограничений.
Нужно помнить, что, попав в критическую ситуацию, какой является и режим ВК, летчик вынужден действовать при остром дефиците времени. Для того, чтобы действия его были точными и эффективными, нужно не только изучение физики явления и наиболее вероятных причин летных происшествий, которые случаются «на исправной матчасти», но и предварительное доскональное изучение предстоящих полетных заданий с последующим анализом возможных «сценариев» его выполнения. В этом залог не только эффективности действий летчика вертолета, но и условие безопасности полетов.
15.02.1997 г.
ТЕХНОЛОГИЯ
МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОГО РЕМОНТА И ПРОИЗВОДСТВА
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.262М

В 40-е годы в число предприятий, определяющих промышленный потенциал Урала, полноправно вступают Свердловские авиаремонтные мастерские ГВФ, созданные 16 марта 1939 г. на базе линейных мастерских Уральского участка Управления воздушной магистрали «Москва-Иркутск».
Именно они положили начало заводу № 404 ГА, который в своем становлении прошел длинный путь от ремонта самолетов У-2/ПО-2 и авиадвигателей для СБ до производства деталей снарядов для ракетных установок «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Решая эти задачи, осваивая новые технологии, завод превратился в широкопрофильное предприятие, способное не только выполнять ремонтнопрофилактическое обслуживание авиационных двигателей, но и самостоятельно выпускать авиационную продукцию.
Надежность авиадвигателей всегда являлась важнейшим условием безопасности полетов. Особую остроту этот вопрос приобретает в нынешних сложных экономических условиях, когда большинство авиакомпаний, испытывая недостаток средств, вынуждено эксплуатировать далеко не новую технику. Решающее значение в этих условиях приобретают как своевременный ремонт, так и увеличение межремонтного ресурса двигателей. Специалистами Уральского завода разработан ряд технических мероприятий, обеспечивающих существенное улучшение эксплуатационных характеристик двигателей, что в некоторых случаях позволяет увеличить их межремонтный ресурс почти в 1,5 раза. При этом завод является не только разработчиком, но и единственным предприятием, где они могут быть реализованы. Так, например, нанесение износостойкого покрытия на лопатки компрессора двигателя ТВ2-117 повышает эрозионную стойкость лопаток не менее чем в 10 раз, а применение сотовых вставок взамен керамических в радиальных уплотнениях турбины обеспечивает повышение исходного КПД на 3–4% и снижение температуры газа на 25 0С. Эти и ряд других мероприятий позволяют увеличить межремонтный ресурс двигателей ТВ2-117 с 1500 до 2000 часов, что, согласитесь, весьма ощутимо.
Излишне говорить о том, что предприятие такого уровня, как Уральский завод гражданской авиации, располагает современнейшим оборудованием, способным обеспечить решение любых задач, связанных с ремонтом авиадвигателей. Специалисты завода осуществляют диффузионное и плазменное нанесение покрытий, предотвращающих высокотемпературную эрозию, детонационное и электроакустическое напыление сверхтвердых покрытий, электроннолучевую и вакуумную пайку, наплавку и сварку деталей из титановых сплавов и жаропрочных материалов в специальных вакуумных камерах. Работы осуществляются с использованием самых современных методов исследования и определения свойств материалов деталей авиадвигателей по состоянию эксплуатации. Это оптическая и электронная микроскопия жаропрочных сплавов и защитных покрытий, определение механических и физических характеристик, магнитные, ультразвуковые и люминесцентные методы контроля деталей – вот тот далеко не полный перечень технологий, который позволяет оценить уровень оснащенности предприятия.

Высокоточные методы контроля, применяемые при проведении работ, обеспечивают высочайшее качество ремонта. Речь идет не просто о восстановлении уровня надежности и технических характеристик ремонтируемых агрегатов, но о доведении этих показателей до значений, характерных для новой техники. При современной загруженности авиатехники и увеличении спроса на авиаперевозки немаловажную роль играет и оперативность ремонта. В среднем эта цифра составляет 30 дней и практически не зависит от сложности и объема выполняемых работ.
Проводя гибкую экономическую политику, завод приступил к выпуску оригинальной продукции. На базе двух турбовинтовых двигателей ТВ2-117А и модернизированного редуктора ВР-8А освоен выпуск энергетической установки ЭУ 1000/1000, предназначенной для выработки электроэнергии и нагрева воды. Отличительной особенностью установки является возможность использования в качестве топлива не только обычного керосина ТС-1, но и природного газа. Это делает установку привлекательной для нефтяников, газовиков и строителей, особенно в труднодоступных районах страны, где отсутствуют дороги.
Не меньший интерес представляет и еще одно изделие завода – легкий двухместный самолет «Авиатика-890У». Применение бипланной схемы обусловливает хорошую маневренность самолета и малый разбег, а простота обслуживания и технические возможности делают машину поистине универсальной. Этот многоцелевой самолет с успехом может использоваться не только для спортивных целей, тренировочных полетов, авиатуризма, но и для экологического мониторинга, картографических и сельскохозяйственных работ.
Кроме того, на заводе налажено производство яхт международного класса «Рикошет-550», «Рикошет-750», «Рикошет-901», «Рикошет-940». Яхты этих типов неоднократно принимали участие в международных регатах и зарекомендовали себя наилучшим образом. Пластиковые корпуса яхт изготавливаются по технологии немецкой фирмы LOEWE с применением высококачественных смол фирмы Norpol.

По результатам комплексного анализа деятельности авиапредприятий РФ и СНГ Уральский завод гражданской авиации занимает сегодня лидирующее положение в отрасли по стандарту качества и перечню ремонтно-инженерных услуг.
Таким образом, ОАО «Уральский завод гражданской авиации» представляет собой современное, стабильно развивающееся предприятие, открытое для сотрудничества и способное решать широчайший круг задач.
ИСПЫТАНИЯ
ПРОВЕРКА МОРЕМ

С.А. Мазо, бывший начальник бригады фюзеляжа
История Казанского филиала милевского ОКБ (ныне КНПП «Вертолеты «Ми») богата и разнообразна. Недавно была закончена книга, рассказывающая о людях и о работе филиала. Она написана одним из первых сотрудников ОКБ Симоном Ароновичем Мазо. О первой казанской машине Ми-4БТ рассказывается в журнале «Казань» 2/1999 г., а мы публикуем историю испытаний казанского вертолета Ми-14.
Первая опытная машина имела № 1028, вторая – № 1837 и третья – № 1945. У каждой – своя история, каждая осталась в памяти тех, кто создавал эти машины. Об испытаниях Ми-14, подготовивших их выпуск в серию, рассказал мне бывший борттехник машины Александр Хасанович Якубовский:
– Первые полеты производились на Ми-14 № 1028 со старой силовой установкой (двигатели ТВ-2-117, редуктор ВР-8). Перед нами стояла задача провести испытания по всему комплексу специального оборудования и получить заключение на испытаниях, проводимых совместно с заказчиком в г. Феодосии, на третьем филиале МВЗ.
До перелета в Феодосию планировалось совершить несколько посадок на воду в районе нашей опытной базы у деревни Атабаево на Камском Устье. Посадки в Атабаево прошли без больших осложнений, с поперечной остойчивостью все было благополучно. На первой машине вместо боковых надувных поплавков стояли пустотелые дюралевые баки-поплавки.
Выполнив небольшую программу испытаний и получив «добро», вертолет перебазировался в Феодосию, совершив промежуточные посадки в Горьком, Москве, Воронеже, Запорожье. Машину вел летчик– испытатель Николай Анатольевич Жен. Борттехником был А.Х. Якубовский.
В Феодосии началась программа испытаний при разных вариантах загрузки.
28 октября 1969 г. во второй половине дня, когда машина стояла на бетонной стоянке, нагрянул ураган необычной силы. Вертолет не был пришвартован из-за отсутствия швартовочных узлов на машине и якорных колец на стоянке. Мощный порыв ветра стронул машину с места. Я с трудом добрался до вертолета и, забравшись в кабину, решил прежде всего проверить, что случилось с тормозами колес, есть ли давление воздуха в системе. На это требовалось всего несколько секунд, но и их природа мне не дала: следующим порывом ветра вертолет перевернуло, и он, согнув лопасти, завалился на борт, опираясь на «жабры».
Я выключил сеть и стал снимать аккумуляторы, так как где-то тек керосин. Во время опрокидывания машины я не ушибся, но как вышел из вертолета, не помню.
Тут же на стоянке стояла и другая, московская машина, № 0512, которая осталась невредимой, так как находилась под защитой здания и двух габаритных спец. автомашин. К тому же ее удалось пришвартовать канатами за втулку ротора к арматуре стояночных плит.
Всю ночь бушевал шторм, и только к утру стихло. Надо было поднимать вертолет. На помощь пришли работники соседнего завода «Море», предоставив краны и тросы для подъема. Закрепив тросы за втулку и переднюю ногу шасси, стали равномерно поднимать машину. И вдруг, когда работа была практически закончена, лопнул трос. Вертолет снова упал, усугубив повреждения и усложнив ремонт.
Ремонтом фюзеляжа руководили опытные конструкторы-фюзеляжники А.И. Степанов, В.Я. Семаков, В.В. Солоухин, работы выполняли квалифицированные слесари– сборщики. Ремонт силовой установки проводился силами МВЗ.
В конце марта 1970 г. машина была восстановлена и облетана.
В дальнейшем большая часть программы госиспытаний пришлась именно на эту настрадавшуюся машину, и судьба ее была благополучной.
На испытаниях не обходилось без курьезов и неожиданностей. Так, однажды у мыса Меганом, где была зона, куда специально приходила подводная лодка, служившая объектом поисковых испытаний, целый день шла работа с поисковой аппаратурой. Закончили. Подводная лодка ушла. А мы еще раз прошли по курсу. Вдруг штурман потребовал лететь в сторону моря. Аппаратура выдавала явный сигнал объектацели, но теперь непонятно какой. Своя лодка ведь давно ушла! Полетели к цели, но, обнаружив, что горючего оставалось только на возврат, вернулись на Меганом. Доложили в штаб, куда нас срочно вызвали для доклада. Тем временем вертолет полностью заправили, и мы получили команду работать на поиск в течение всего дня. Но, увы, никого не обнаружили.
После тщательного разбора и исследования аппаратуры удалось устранить дефект, вызывавший ложно направленный на 180 0сигнал, и дать отбой тревоге, дошедшей даже до Москвы.
Позднее этот же вертолет участвовал в показе авиационной противолодочной техники вместе с самолетами Туполевского, Бериевского ОКБ и ОКБ Камова, проходившем в г. Николаеве, и пользовался особым вниманием со стороны представителей всех четырех флотов Союза.
Ми-14ПС – спасательный вертолет
Спасательные работы считались и считаются первой задачей каждого вертолета.
Для спасения людей на вертолете Ми-4 в проеме входной двери устанавливалась бортовая стрела с ручной лебедкой БЛ-47, рассчитанной на подъем одного человека. Вниз на стропе спускалось специальное сидение, в которое спасаемый мог сесть и закрепиться. При каждом вертолете имелась лестница-трап длиной 10 метров.
На вертолете Ми-8 применялись уже электролебедки ЛПГ-2, ЛПГ-150 и, кроме сидения, использовалась сетка-трал.
Опыт проведения спасательных работ был не всегда удачным. Были и огорчения, и трагедии. Дело в том, что спасаемый не всегда был в силах активно действовать, а с вертолета нужной помощи он получить не мог.
Построив вертолет Ми-14, можно было на его базе создать более совершенный комплекс спасательного оборудования и соответственно доработать сам вертолет для этих целей. Новая концепция спасательных работ была ориентирована на спасение пассивных, ослабленных, скованных пребыванием в холодной воде пострадавших, нуждающихся в помощи спасателя, т. е. на подъем двух человек.
У вертолета был доработан левый борт фюзеляжа. Вдвое расширены дверной проем и сама сдвижная дверь. Поставлена новая бортовая стрела с электролебедкой ЛПГ-300, способной поднимать на борт 300 кг.
В бригаде Александра Ивановича Марина разрабатывалось все спасательное оборудование, в том числе новый «черпак» с трубчатым каркасом, обтянутым снизу сеткой, который мог вместить двух человек, поднять их и переместить внутрь машины.
«Черпак» обладал дополнительной (на 10 кг веса) плавучестью. Он находился в полупогруженном состоянии, что позволяло спасателю легче завести пострадавшего в зону «черпака».
Для улучшения обзора было максимально расширено остекление кабины в нижней зоне.
Кроме того, на машине удалось наконец-то удачно разместить резиновую надувную спасательную лодку ЛАС-5М на случай спасения самого экипажа или срочных спасательных работ на воде. Лодка в сложенном виде размещается в контейнере при аварийном люке-окне на левом борту. Сброшенный наружу люк открывает выход быстро раздувающейся лодке, которая приводняется у аварийного выхода. Лодка связана с бортом специальным фалом. Через аварийный люк в нее могут перебраться члены экипажа.
Кроме фюзеляжных работ и нового спасательного оборудования, было усовершенствовано поисковое оборудование: применены более мощные фары освещения, система автоматизированного управления и др.
Ряд летно-конструкторских испытаний проводился на нашей новой летной базе, на протоке Волги у деревни Мари-Луговой в Марийской республике, которая заменила базу в Атабаево. Из Камского Устья нам пришлось уйти по причинам экологического характера: человеческая деятельность и вертолетный шум нарушали режим Прикамского заповедника. Новая база, расположенная в 15 км от города Волжска, была отстроена не так капитально, как атабаевская, но имела все необходимые помещения, связной узел, мастерскую, склады, домики для размещения участников наземных и водных испытаний.
Контрольные испытания проводились с участием представителей НИИ заказчика и их группы испытателей. Руководил испытаниями А.Ф. Женжурист. Пилотами вертолета Ми-14ПС были Владимир Тихонович Дворянкин и Николай Анатольевич Жен.
За борттехника работал ведущий инженер по летным испытаниям Александр Александрович Талов. Григорий Ильич Волынец проводил замеры напряжений в конструкции бортовой стрелы.
Роль спасателя и спасаемого выполняли аттестованные как спасатели В.В. Дедов и М.Е. Лукоянов. С ними были проведены основные летно-конструкторские испытания. На заключительном этапе к нашей команде присоединилась группа из трех испытателей заказчика из г. Феодосии, куда вертолет был позднее отправлен на Государственные испытания.
Стоя на берегу, с интересом и тревогой наблюдали мы ход испытаний, фиксируя его кинокамерой. Вертолет зависает над водной поверхностью на высоте 30 метров. У проема раскрытого борта бортоператор управляет лебедкой. В «черпаке» спасатель спускается вниз к воде. На воде находится другой человек, играющий роль ослабленного, малоподвижного потерпевшего (это был М.Е. Лукоянов). «Черпак» касается воды.
Ход операции зависит от взаимодействия трех человек – пилота, борттехника у двери и спасателя.
Вертолет подводится ближе к спасаемому, происходит затаскивание пострадавшего в сетку «черпака» и его фиксация. Когда все сделано, спасатель подает оговоренный сигнал на подъем троса. Идет намотка троса, и через несколько секунд спасатель и потерпевший попадают на борт. Конечно, возможны варианты, когда спасатель готовит следующего пострадавшего, оставаясь в воде и ожидая повторного спуска «черпака». Первая ситуация оценивается инструкцией как «предпочтительная».
В наших облегченных условиях (летом, в дневное время, на тихой воде) все испытания прошли благополучно, но и они казались нам достаточно рискованными, напоминавшими работу акробатов под куполом цирка, от которой у наблюдающих захватывает дух.

Слева направо: А.А. Талов, С.А. Мазо, Н.А. Жен, В.Т. Дворянкин, Л.Г. Персон
Вертолет-тральшик Ми-14БТ
По решению ВПК при Совете Министров СССР филиал приступил к разработке еще одной модификации Ми-14, вертолета – буксировщика минных тралов. Одно из требований к этому вертолету – максимальная унификация его со спасательным вертолетом Ми-14ПС. Ведущим конструктором вертолетов Ми-14БТ и Ми-14ПС был Алексей Иванович Степанов.
Макет Ми-14БТ был создан на базе вертолета Ми-14ПС № 61070. В хвостовой части фюзеляжа в районе люка размещалось все буксировочное оборудование, а также сидение и пульт оператора, контролирующего соединение вертолета с тралом и наблюдающего за его работой. В спецотсеке «лодки», свободном от вооружения, размещались буи и вехи, сбрасываемые по ходу разведывательного траления.
Экипаж вертолета Ми-14БТ состоит из четырех человек: летчика, летчика– штурмана, борттехника и оператора– буксировщика. Кроме основного предназначения, вертолет рассчитан на перевозку грузов на внешней подвеске, на спасение людей, терпящих бедствие на воде.
Весной 1974 г. вертолет Ми-14БТ проходил в г. Феодосии госиспытания, которые неожиданно прервались. Как рассказал А.И. Степанов, 30 апреля 1974 г. в Феодосию пришло распоряжение генерального конструктора ОКБ М.Н. Тищенко ведущим конструкторам вертолета Ми-14БТ Л.Н. Бабушкину и А.И. Степанову срочно демонтировать и доставить в Москву все буксировочное оборудование вертолета.
В Москве выяснилось, что получено правительственное решение о срочной подготовке шести вертолетов Ми-8 в качестве буксировщиков минных тралов для работы в Египте по расчистке от мин Суэцкого залива. На всю работу по подготовке вертолетов был определен очень короткий срок.
Работой руководил генеральный конструктор М.Н. Тищенко. Им был принят упрощенный вариант буксировочного оборудования. Вскоре на Московский вертолетный завод прибыли шесть вертолетов Ми-8 с разных флотов страны для переоборудования.
Вместо большого люка в хвостовой части фюзеляжа на этих вертолетах для проведения траловых работ было решено демонтировать грузостворки.
Ферму буксировочного оборудования сделали клепанной из сильных дюралевых профилей. Ее установили на полу фюзеляжа по силовым шпангоутам № 10 и № 13. Сцепной узел был закреплен на верхнем конце фермы. Тросовую проводку от наконечника сцепного узла вели к электролебедке.
Два вертолета Ми-8 дорабатывались со сцепным узлом Ми-14БТ, четыре других, по предложению московских конструкторов, – с замком ДГ-64М.
Работа велась так: чертеж конструктора, подписанный генеральным, шел к начальнику производства, затем к рабочему, все вопросы которого решал конструктор.
В течение одной недели мая шесть вертолетов были переоборудованы как вертолеты-тральщики Ми-8БТ. Они были испытаны на прочность нагружением сцепного узла и, принятые заказчиком, переправлены в г. Севастополь. Здесь были срочно проведены летные испытания вертолета-тральщика, составлен отчет и инструкция по эксплуатации для экипажа вертолета. Два вертолета, погруженные на военный корабль, в сопровождении ведущего конструктора А.И. Степанова были доставлены к месту работы в Египет, в Суэцкий залив.
Конструкция срочно изготовленных вертолетов Ми-8БТ оказалась удачной, и заказчик добился решения о запуске малой серии таких вертолетов. Работа была завершена выпуском серийных чертежей, по которым Казанский вертолетный завод изготовил двадцать вертолетов Ми-8БТ для ВМФ нашей страны.
Испытания аварийной посадки вертолета в открытом море.
Шел 1974 год. Наступил срок последних испытаний морского вертолета Ми-14. Предстояло на совместных с заказчиком летных испытаниях подтвердить выполнение самого ответственного требования: возможности аварийной посадки вертолета в открытом море в случае отказа двух двигателей.
У авторотационной посадки вертолета существует отработанная теория и летная практика, апробированная, главным образом, при посадках на землю. Поддерживая в режиме самовращения при крутом планировании обороты несущего винта, в конце спуска (примерно в десяти метрах от земли) летчик резко увеличивает общий шаг лопастей, совершает «подрыв», т. е., используя накопленную несущим винтом энергию вращения, затормаживает полет и снижает до минимума вертикальную скорость спуска при встрече с землей.
Точная оценка летчиком высоты совершения «подрыва» становится самой важной задачей для получения мягкой посадки вертолета. При посадке на землю летчик привычно определяет свое расстояние до земли и скорость полета, они воспринимаются и по ориентирам и по приборам. В открытом море, на водной глади отражение воды и отсутствие ориентиров сильно затрудняют определение высоты нахождения вертолета над поверхностью воды. Посадка еще более усложняется, если море неспокойно. Требования же к вертолету содержат и указания о необходимости работы в таких погодных условиях.
Испытания вело ОКБ им. М.Л. Миля. Руководил ими старейший работник, помощник М.Л. Миля по летным испытаниям вертолетов Герман Владимирович Ремезов вместе с ведущим конструктором этого вертолета Леонидом Натановичем Бабушкиным.
Выполнять испытательные полеты поручили экипажу летчика-испытателя Московского вертолетного завода Гургена Рубеновича Карапетяна при участии летчика-испытателя заказчика.
Испытания проводились на Черном море в районе Феодосии, на летной базе Феодосийского филиала МВЗ. Участвовать в испытаниях и наблюдать за их проведением приехали представители от МВЗ, НИИ заказчика, ЦАГИ. От нашего филиала были аэродинамик А.Ю. Лисс и я, от ЦАГИ присутствовал ведущий инженер Э.В. Токарев.
В Казани, во время водных испытаний на Волге, мы убедились в отличных результатах посадки вертолета с режима висения, хорошей плавучести, остойчивости, возможности буксировать его катером по воде. Было проверено и положительно оценено аварийное покидание вертолета на плаву в сбрасываемую надувную спасательную лодку ЛАС-5М.
Предстоящая посадка на море порождала тревогу, может быть, потому, что в памяти у многих была неудачная первая посадка на воду вертолета-амфибии Ми-4. Опасность виделась в превышении путевой или вертикальной скорости приводнения. Кроме того, посадка осложнялась высоким положением центра тяжести вертолета и объемным обтекателем РЛС, создающим при приводнении торможение внизу и этим усиливающим тенденцию к опусканию носа вертолета. Возможен был и резкий наклон вертолета вперед, удар лопастей о воду. Беспокоила и прочность крепления обтекателя РЛС, герметично закрывающего огромную полость «лодки» фюзеляжа.
Проблем было много. Наверно, поэтому Г.К. Ахмадеев поручил мне присутствовать на испытаниях в Феодосии.
Работы проходили последовательно, в несколько этапов. На грунтовом аэродроме шли тренировочные посадки на режиме авторотации. Присутствуя на них и наблюдая, мы, неспециалисты летного дела, изумлялись их результатам. Казалось, что вертолет так мягко приземляется, что вертикальная составляющая его скорости – нулевая, и, судя по короткому пробегу, путевая скорость мала, не больше 30–40 км/ч.
Летчик Г.Р. Карапетян, выполняя программу испытаний, впоследствии совершил десятки посадок на море по-самолетному с ограниченной скоростью приводнения (до 35 км/ч) и продемонстрировал мореходную способность машины. Посадки совершались при волнении моря до 2 баллов (h = 0,5–0,6 м) с работающими и выключенными двигателями.
Но вот настал день ответственной посадки на режиме самовращения несущего винта. На испытательном участке открытого моря встали корабли наблюдения и обслуживания испытаний, предусматривалась возможность работ спасательного характера. Стоял тихий осенний день, и море было сравнительно спокойное, с легкими барашками.
Мы в плотной группе наблюдателей недалеко от руководившего испытаниями Л.Н. Бабушкина. Вертолет совершает несколько пролетов с работающими двигателями, а затем уже с одним и с двумя выключенными двигателями.
И вот ведущий испытаний объявил: «Авторотация, вертолет идет на посадку!» Я впился взглядом в плавно летящий вниз вертолет. Он летит достаточно шумно, почти как обычно. Вот он уже почти у воды, пролетает мимо нас вперед, мы видим посадку сбоку, чуть сзади.
Высота метров 15–20. Вертолет снижается с торможением. Вот уже высота около 7-10 метров. Мы видим, как вертолет принимает посадочный угол. Еще мгновение… Посадка… Облако серебряной водяной пыли вокруг вращающихся лопастей. Носовая часть основательно погружается и омывается до стекол вспененной водой.
Проходят секунды, вертолет плавно покачивается на воде. Останавливаются лопасти несущего и рулевого винтов. Тишина. Все ждут результатов осмотра вертолета и доклада экипажа.
Результат оказался превосходным. Лопасти не повреждены. Герметизация фюзеляжа не нарушена. Пилоты получают «добро» на возврат. Перелет прошел без осложнений. Заключение четкое: посадка вертолета Ми-14 при волнении моря до 3 баллов возможна.
Генеральный заказчик согласился считать выполненным это наиболее сложное требование к вертолету и отказался от ранее планировавшегося повторного испытания с переменой местами пилотов.
Последнее испытание опытного вертолета завершилось, и на серийном заводе началось его производство.
В заключение добавлю, что описанные испытания можно считать уникальными. Нигде в мире вертолетостроительные фирмы их не проводят, ограничиваются упрощенными.
ИСТОРИЯ