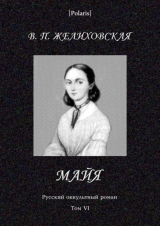
Текст книги "Майя
(фантастическая повесть)
Русский оккультный роман. Том VI"
Автор книги: Вера Желиховская
Жанры:
Социально-философская фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
XXIII
Накануне дня, назначенного для бракосочетания графа Кармы с дочерью его, профессор прислал за нею рано утром, едва она успела встать и одеться.
Майя, встревоженная, несмотря на разумное предположение Орнаевой, что отец просто желает с ней переговорить о делах без свидетелей, пока еще никто не выходил к завтраку, быстро спустилась вниз и, войдя в кабинет его, остановилась, пораженная.
– Папа! Ты болен?
– Нет, душа моя, нисколько! – спокойно отвечал он.
– Но ты ужасно изменился за эту ночь… Отчего же?
Ринарди протянул дочери руку, ласково улыбаясь, привлек ее к своему креслу и, обняв, заставил ее сесть на ручку кресла, как, бывало, она часто сиживала в задушевных беседах с ним. Туг она увидала, что в руке его открытый медальон, – лучшим портрет ее матери.
Профессор ей не дал времени выговорить нового вопроса:
– Оттого, моя душа, что, во-первых, в мои годы душевное беспокойство о счастии единственной дочери и о разлуке с ней – даром не проходит. А во-вторых…
– Но, папа! Еще вчера вечером ты смотрел совершенно здоровым, – перебила Майя, – а теперь…
– А во-вторых, – продолжал, не обращая внимания на перерыв, Ринарди, – я отвык за давностью лет, – он печально улыбнулся, – от таких радостных потрясений, в каких для меня прошла эта ночь…
– Что такое?.. Опять «белая женщина»? – тревожно осведомилась Майя.
Отец помедлил, любовно глядя на нее и загадочно улыбаясь. Наконец, он прошептал, крепче прижав ее к сердцу:
– Да, голубушка моя, Майинька: белая женщина! Но на этот раз я не буду тебя спрашивать, кто она?.. Мы ее хорошо знаем…
– Мама?!.. – закричала вне себя Майя, вскакивая и глядя на отца такими испуганными глазами, каких он никогда у ней не видел. – Мама была у тебя, отец!.. Зачем?..
Странный испуг и огорчение слышались в голосе ее. Они поразили профессора.
Он смотрел на Майю задумчивым взглядом, ожидая объяснений или сам размышляя.
– Зачем же она… явилась?.. – спросила опять Майя.
– Пришла!.. Сделалась видимой мне и говорила со мной! – поправил профессор.
– Ну да… Зачем?.. Зачем, накануне моей свадьбы!..
В голосе ее отцу послышалось небывалое раздражение.
Он посмотрел на нее вопросительно, долгим взглядом.
– Разве тебе и благословение матери так же теперь кажется излишним, как на днях ты заявила, что благословение Кассиния тебе более не нужно? – тихо спросил он.
Майя растерянно огляделась и вдруг, закрыв лицо руками, страстно заплакала.
Профессор совсем растревожился и напугался.
Он начал успокаивать дочь; объяснять ей, что не знал, не думал никак, что она так примет… Рассчитывал ее порадовать, напротив. Майя, с своей стороны, просила прощения; объясняла отцу, что это «от неожиданности, от маленького расстройства духа», весьма понятного в ее обстоятельствах, – накануне разлуки и с ним, и с любимыми ею от колыбели людьми и местами. Накануне бесповоротного решения всей ее участи.
– Так она сказала тебе, что меня благословляет? – наконец спросила она, успокоившись.
– Да, – согласился профессор. – Она сказала, что мы вместе будем молиться о твоем земном счастии и… и небесном спасении.
– Как вместе? – опять испугалась Майя.
– Конечно, вместе! Разве ты думаешь, что я о тебе не молюсь? – слабо улыбаясь, объяснил ей отец и тотчас заключил: – Но знаешь ли, милочка моя, я лучше не стану более с тобой говорить об этом… Ты так нервно настроена сегодня. Зачем же расстраивать тебя окончательно накануне свадьбы и путешествия?.. Поди с Богом… Поди к жениху, к гостям… Я тоже сей час выйду…
Он встал, довел, обняв ее, до порога, там горячо ее поцеловал и отпустил. Но, печально глядя на нее, удалявшуюся в раздумьи, он вдруг будто встрепенулся, пораженный каким-то соображением, и закричал:
– Майя!
Ей послышалось сдержанное рыдание в этом призыве.
Она быстро обернулась и, вся бледная от волнения, подбежала к порогу комнаты, где он еще стоял.
– Майя, милое дитя мое! Я вспомнил… видишь ли…
Он, видимо, соображал свои слова, искал их в жестоком волнении, борясь между боязнью испугать ее и необходимостью исполнить задуманное им.
– Я должен тебе сказать… Передать слова твоей матери… Послушай: что бы ни случилось…
– Боже мой!.. С кем?! – отчаянно перебила его дочь.
– С кем?.. Все равно!.. Я не знаю. Она не сказала мне… Но слушай, Майя, и не забывай моих слов: помни, что чрез меня тебе говорит твоя умершая мать… Майя! Что бы ни случилось с нами… со мною… с кем-либо из нас, – знай, Майя, что это случится к лучшему!.. «Время великой перемены – близко!» Не забывай слов этих, Майя, и да послужат они тебе всесильным облегчением в час испытания!.. Прости, что огорчаю тебя, дитя мое! Но я размыслил, что обязанность моя не медлить, – тотчас передать тебе этот завет твоей матери. Мало этого! Уж прости мне, Майинька, и еще одну просьбу…
Ринарди быстро запер дверь кабинета, и, увлекая дочь за собою в следующую комнату, докончил:
– Я хочу здесь, с тобой наедине, сейчас благословить тебя… Майя! Дитя мое милое! Пойдем ко мне, туда, в спальню… Я покажу тебе, где она, мать твоя, стояла, и там же за нее и за себя тебя благословлю!
Когда, через несколько минут, Майя, растроганная и заплаканная, встала с колен и вышла от отца, старик, проводив ее, заперся на ключ и долго в этот день не выходил из своих комнат. Все заметили, что он побледнел и осунулся, как после болезни; но все понимали, что он не может быть равнодушен к разлуке с дочерью и, уважая его горе, молчали, делая вид, что не замечают ни его расстройства, ни заплаканных глаз Майи.
Только после обеда, когда все разбрелись по парку, Ариан, увидав себя, наконец, вдвоем со своей невестой, привлек ее к себе и спросил, в чем дело?.. Неужели временная разлука с отцом так ужасно ее огорчает, что утешить ее не может даже его любовь и их будущее счастие?..
Майя рассказала ему все без утайки.
– Я боюсь, дорогой мой, чтоб это видение не знаменовало чего-нибудь печального! – прибавила она. – Какое несчастие нас может ожидать, что мать нашла необходимым предупредить нас о нем?
Но граф Ариан улыбнулся ее словам, как взрослый человек улыбается неосновательным печалям ребенка, и поспешил ее уверить, что сон ее отца лишь означает расстройство его духа и беспокойное состояние чувств.
– Да если и придавать какое-либо вещее значение предупреждению твоей матери, то и тогда чего ж тебе бояться, когда сама она просила тебя быть спокойной?.. Знать, что «это поведет к лучшему», к истинному благу! – успокаивал он ее.
Ему успокоить ее было нетрудно… Она скоро забывала с ним свои печали и сомнения; а против ее самых дорогих убеждений он один мог ратовать и заставлять ее их устранять, на веру перенимать его собственные… Уж такова всемогущественная сила любви.
Под влиянием его ласк Майя не только успокоилась, но и развеселилась до того, что и не заметила, как пролетел этот последний день ее девичьей жизни. Бухаров, вечный boute-en-train[24]24
…boute-en-train – заводила, душа общества (фр.).
[Закрыть] всякого общества, предложил вечером танцы на террасе, – в зале было бы, по общему мнению, жарко. Мигом рояль был прикачен поближе к дверям, и за него усажена жена Бухарова; а терраса освобождена от лишней мебели и освещена канделябрами, поставленными на все окна, цветными фонарями, развешанными в цветнике, и закипело веселье.
Стар и мал приняли участие в этом импровизированном бале. Майя и Бухаров объявили, что все, искренне желающие счастливой и радостной жизни будущим молодым, должны напутствовать их веселием, а по этому случаю и профессора, волей-неволей, поставили в пары.
Часа в два ночи едва успокоились и крепко заснули, после денной устали и добровольного вечернего беснования, хозяева и гости, переполнявшие дом профессора. Он бы и сам охотно лег, но, взглянув на барометр и выйдя вслед за тем на балкон, он весь встрепенулся, а сон и усталь мигом с него отлетели.
После жаркого июльского дня, очевидно, собиралась гроза, в это безгрозное лето всего седьмая по счету, давно им нетерпеливо ожидавшаяся гроза.
Профессор мигом распорядился, собрал свои пожитки, захватил глухой фонарь и, осторожно отпирая и запирая за собой тщательно двери, прокрался из дома в цветник и, тотчас свернув направо, углубился в чащу сада. Минуя дорожки, он прямиком спешил к павильону, в глухую часть парка, где им все было заранее заготовлено ради приближавшегося «великого события». В нем не было ни искры сомнения, что эта гроза – великое событие, и результаты ее не для него одного будут велики.
Весь дрожа от тревоги, от боязни не поспеть, пропустить желанное мгновение, Ринарди наконец, задыхаясь от быстрой ходьбы и волнения, достиг до маленькой избушки, крытой соломой. Это и был так называемый павильон, склад старых садовых орудий и глиняных цветочных горшков, который недавно был им изъят из ведения садовника и тщательно заперт на ключ. Это маленькое, никуда не годное строение профессор издавна решил предать возможности сгореть. Его пожара бояться было нечего, – оно от всего было удалено, стоя особняком на полянке у рва, окружавшего парк. Даже деревья не могли воспламениться его огнем, потому что их густая стена возвышалась в некотором расстоянии.
Дрожащей рукой отпер профессор замок низенькой двери, усердно прислушиваясь и приглядываясь. Едва он черкнул спичкой, собираясь зажечь фонарь, голубой отблеск молнии мгновенно осветил окрестности, и не успел он сосчитать до десяти, как глухой, внушительный гул разнесся по лесам и долинам.
«Ого! – подумал он. – Близка гроза! Надо спешить!»
И, совершив несколько «необходимых приготовлений», Ринарди вышел из павильона и стал вдали, под навесом деревьев, не обращая ни малейшего внимания на тяжелые капли дождя, начинавшие шлепать по листве. Он устремил пристальный взор на крышу павильона, стараясь сосредоточить на нем всю силу воли, весь магнетизм интенсивного желания, на которое был способен.
Он что-то шептал побелевшими, дрожавшими губами, считая молнии и высчитывая мысленно быстроту приближения грозы; мучаясь тем, что тучи, может быть, изменят направление, пронесутся мимо, он беспокойно следил за их ростом.
Теперь они черной грядой тянулись с запада на восток, откуда подымалась луна на ущербе. Ее осколок, как четвертушка гигантской жемчужины, заброшенной на горизонт, печально сиял, освещая фантастическим светом тянувшиеся к нему облака. Они живописно клубились в просветах молнии, то и дело вспыхивая ее перелетными изломами.
Эффект этих разнородных освещений, молочно-белого сияния луны и огненных вспышек электричества в недрах туч, был поразителен. Между ударами грома, потрясавшими воздух, шепот начинавшегося дождя и заунывные песни ветра в деревьях разносились подобно гулу дальнего водопада.
Поэт в душе, Ринарди, несмотря на крайнее возбуждение, не мог не любоваться этой величественной картиной. Вдруг хижина-павильон озарилась, в просветах деревьев, сторонним, красноватым светом. Что это значит?.. Профессор быстро оглянулся. Ничего не было видно… Ему, вероятно, показалось.
Яркая молния, разорвавшая тьму почти одновременно с рокотом грома, прервала его размышления и отвлекла от всего, кроме ожидания следующего удара, – роковой, седьмой вспышки электричества. Сбудутся его ожидания, расчеты, мечты?.. Сбудутся ль, нет ли?.. Он весь превратился в ожидание, в страстный порыв призыва, надежды и воли. Кровь стучала ему в виски, сердце то билось отчаянно, то замирало так, что ему дыхание спирало в груди до боли.
XXIV
Не сводя глаз с расстилавшегося по небу мохнатого, безобразного чудища, стояла в это время и Софья Павловна на балконе вышки, где она временно поселилась в Майиной комнате. В другом конце ее хозяйка, утомленная беспокойным днем и вечерним весельем, спала безмятежно, несмотря на раскаты грома; но Орнаеву они не допустили заснуть. Не боясь грозы, она вышла, осторожно притворив двери балкона, и стояла, любуясь живописным хаосом.
Крупный ливень приближался, быстро наполняя светлую ночь мглой и шипением. Черное чудовище на небе разрасталось, надвигаясь и развертываясь клубами; вот одна из широких лап его доползла до востока и набросила на месяц темный покров.
Все сразу потемнело, будто бы небо, как нахлобученная шапка, спустилось на землю, прикрыв лицо ее, и все слилось в бесформенный, завывающий, шипящий хаос, от времени до времени разрываемый молниями и потрясаемый раскатами грома.
Но что это за странные багровые вспышки порой пронизывают мглу непогоды?.. Они то вспыхивают совсем другим светом, чем молния, то полосами ложатся на туман, и сквозь дождевые потоки бросают на ближайшие предметы алые отблески… Откуда этот свет?..
Вдруг Орнаева ахнула, и, несмотря на ливень, решительно перевесилась за перила, заглядывая на лабораторию профессора и вышку над ней. Ей пришла мысль: не седьмая ли это, роковая гроза?.. Не профессор ли там, увлекаясь своими опытами и калиостровской магией, наделал какой-нибудь беды, зажег что-нибудь?.. Нет, слава Богу! Там все темно… Он, вероятно, тоже заснул крепко, утомленный…
«Проспит свою седьмую грозу, и магического огня не добудет!» – подумала, невольно улыбаясь над завтрашней досадой своего родственника, Орнаева.
В эту секунду послышался какой-то продолжительный треск, багровый свет вспыхнул ярче, а за ним, снизу, дом ярко осветился и огненная заря легла на цветник и ближайшие деревья.
«Пожар! – мелькнуло ей страшное соображение. – Загорелось в гостиной, – красный свет от обоев, от занавесей, пока они не загорелись».
– Майя! Дитя мое!.. Вставайте! – закричала она, пробегая мимо сладко спавшей девушки. – Скорей! Скорей, ради Господа Бога! Внизу, в гостиной и столовой, кажется, горит!..
Майя вскочила, протирая глаза, ничего еще не соображая.
– Скорей одевайтесь, Майя! Накиньте что-нибудь… Внизу пожар! – еще раз крикнула ей Софья Павловна и бросилась к дверям следующей, маленькой комнатки, откуда была дверь на лестницу.
Но едва она ее открыла, клубы дыма, пополам с пламенными языками, ворвались снизу. Коридор был полон огня и смрада.
Отчаянный, продолжительный крик обеих женщин окончательно перебудил всех спавших в доме. Внизу, впрочем, и без того уже просыпались от трескотни, дыма и жару. Из нижних комнат ходы были свободны; горели только смежные с помещением хозяина дома приемные, да та сторона коридора, откуда шла единственная лестница в покои Майи. По ней пройти нельзя было уже задолго до того, как вверху, в дверях, показалась Орнаева.
Едва успела она захлопнуть двери, что-то там внизу затрещало и с грохотом повалилось. В то же время отчаянные крики и шум поднялись по всему дому, во дворе раздался звон в колокол, беготня, чьи-то громкие, повелительные распоряжения.
Майя, поняв, наконец, в чем дело, бросилась было на лестницу с отчаянным воплем: «Ариан! Отец!» – но Орнаева ее перехватила и захлопнула перед ней и вторую дверь в ее комнату.
– Туда нельзя! Разве не видите вы?.. Лестница горит!.. Нам одно спасение – балкон! – кричала она, схватив за руку девушку, лишившуюся всякого соображения. – Поймите же, не медлите! Скорее туда, на балкон… Боже мой!
Но тут только она заметила, что Майя совсем раздета. Она сорвала с вешалки какой-то пеньюар, схватила одеяло с постели, и, закутав вырывавшуюся из рук ее Майю, напрасно тянула ее к выходу.
Наконец Орнаева поняла, что напрасно с ней теряет время, что надо действовать не убеждениями, а силой. С удивительным присутствием духа и быстротой она бросилась к дверям, заперла их, и выхватив ключ, подбежала к балкону.
Цветник был полон народа. Никого не узнавая, она отчаянно стала звать на помощь.
– Сюда! Сюда!.. Несите нам лестницу!..
Тут она увидела графа и Бухарова, метавшихся внизу; люди со двора уже тащили лестницы.
– Сюда! Скорее, Ариан!.. Спасите Майю!.. Скорее!.. Ей дурно… Я не могу одна…
И точно. Майя в эту минуту схватилась за голову и без чувств упала на пол. Черный дым и огненные струйки врывались в замочную скважину, ползли в щели из-под дверей. Еще минута, и упавшее с Майи одеяло задымилось и вспыхнуло… Она лежала в обмороке на полу, в двух шагах от огня.
Вне себя, Орнаева бросилась к ней.
Поднять ее, дотащить только до балкона, и она спасена. Но бедная женщина чувствовала, что у нее подкашиваются ноги, кружится голова, что она сама обессилела и готова упасть.
– О, Боже мой!.. О, Господи! Дай мне сил!.. Помоги мне ее спасти! – страстно вскричала она, забывая о себе самой.
В эту секунду в средине комнаты, между балконом и ими, раздался треск и пол вспыхнул синим пламенем. Но Софья Павловна смотрела не на огонь, а на внезапно восставшего пред ними человека в белой одежде.
Величественный, спокойный, печально улыбающийся ей, он простер руку свою над безжизненным телом девушки, и вдруг оно стало легко, как тело малого ребенка, на руках Софьи Павловны. Без усилия донесла она Майю до балкона, а сама смотрела, не спуская глаз с белого человека.
Он стоял у самого огня, не обращая на него внимания, глядя на нее глубоким, ласковым взглядом.
В эту минуту над перилами балкона показалась голова графа Кармы. Миг, и он перепрыгнул на балкон и, на пороге пылавшей комнаты, принял свою невесту.
– Вот она! Берите ее! Невредима – благодаря Белому брату! – прошептала Орнаева, с рук на руки передавая бесчувственную Майю.
Но Ариан не расслышал ее слов.
Он схватил в объятия девушку, перешагнул через перила со своей дорогой ношей и закричал ей:
– Сейчас! Я сейчас помогу вам сойти!
Но когда граф передал свою невесту на руки Бухарову, стоявшему на полпути к земле, и поспешно взбежал снова вверх, он не успел подать руки Софье Павловне, – она лишь мелькнула перед ним на пороге комнаты, падая внутрь ее, вся охваченная пламенем, и исчезла в дыме и грохоте провалившегося пола.
Через несколько часов, когда не столько усилия людские, как дождь, не перестававший идти до утра, прекратил пожар, обугленное тело Орнаевой было найдено среди дымившихся головней гостиной, откуда и занялся огонь по неизвестной и совершенно непонятной причине. Она и сам хозяин дома оказались единственными жертвами этой ужасной катастрофы.
Но профессор Ринарди погиб не от огня. Смерть его тоже оказалась фактом загадочным.
Остывшее тело его было найдено на другой день в некотором расстоянии от дома, в чаще парка. Фонарь, оброненный им по направлению к павильону, и отворенная дверь его указывали, что профессор зачем-то ходил туда ночью. Предполагать надо было, что он, занимаясь чем-то в хижине во время грозы, неожиданно заметил в стороне дома огонь, побежал к нему, но, увидав пожар, был сражен на месте. Вскрытие тела подтвердило эти предположения: профессор скончался мгновенно, от разрыва сердца.
Дом сгорел не совсем: только пустые ночью приемные комнаты и над ними все помещение Майи. Этим обстоятельством и объяснилось, что ни одна душа, кроме хозяина дома и его так несчастно погибшей родственницы, ничем не поплатилась, кроме разве испуга. Майя Ринарди не потерпела от огня ни единым ожогом; зато впоследствии едва не поплатилась жизнью или рассудком, – оба эти бедствия ей одинаково грозили во время ее продолжительной болезни. Тем не менее многие доктора нашли, что нервная горячка явилась благодетельным исходом и спасла ее от сумасшествия.
Бухаровы, с истинным самоотвержением приютившие и вынянчившие ее, не могли потом во всю жизнь достаточно надивиться последовательности болезненных видений Майи и ее удивительному бреду.
В полном забытьи, но с широко открытыми глазами, Майя вела целые разговоры с личностями, порожденными ее фантазией. Что ей представлялись умершие, – отец ее, мать и Софья Павловна, – тому не удивлялись окружавшие: это было в порядке вещей! Но она всего дольше и чаще беседовала с каким-то Кассинием, – личностью совершенно неведомой ее новым друзьям, – «вероятно, измышленной ее больным воображением», предполагали Бухаровы. Но граф Ариан, знавший более их, сердито хмурил брови, когда они ему рассказывали об этом бреде, хотя с намерением не желал ничего объяснять по этому предмету.
– Очень, очень странный вид бреда! – говорили доктора. – Он только и может объясниться тем, что субъект и вне болезненного состояния ненормален… Ведь эта девушка с рождения была подвержена галлюцинациям, – не так ли?.. Вероятно, этот друг ее, – этот Кассиний, к которому она питает также неограниченное доверие, – воплощение одного из ее пунктов. Отсюда и последовательность и quasi-осмысленность свиданий с ним и их бесед.
– Да, может быть! – задумчиво отзывались на такие определения Бухаровы. – Тем не менее, очень жаль, что мы осуждены слышать лишь одну сторону этих бесед.
Когда Майя, наконец, окончательно вернулась к действительной жизни и начала поправляться, она, казалось, утратила всякое воспоминание о своих видениях. Жестокое горе ее по отцу превратилось в тихую печаль, и та понемногу улеглась и забылась, как забывается все на свете, в особенности, если человек счастлив.
А Майя была, действительно, счастлива в супружестве и в семейной жизни. Муж ее, граф Ариан де Карма, сдержал все свои обещания: он горячо любил жену и всю жизнь свою посвящал семье.
Прошло лет десять. Старый дом профессора Ринарди стоял пустой, угрюмый, наполовину разрушенный, наполовину заколоченный. Никто не жил в нем. Имение сдавалось на аренду; со времени катастрофы молодая его хозяйка ни разу не возвращалась на родное пепелище, вероятно, и его предав забвению, как и все свое чудесное детство и юность. Графиня Мария де Карма жила то в столицах, то за границей, то в имениях своего мужа, в Малороссии. Последние годы они больше зимовали в Италии, а летом жили на берегах Днепра, где добрые знакомые любили проводить у них дни и недели, не скучая нимало в этой счастливой и богато одаренной семье. Бухаровы были, разумеется, их желанными гостями. Оба они, муж и жена, находили неисчерпаемые предметы интереса в беседах с ними. В графе Ариане развилась в последние годы страсть к искусствам, в особенности к живописи, а жена его была такая замечательная музыкантша, что истинному художнику, подобному Бухарову, с ними проводить время было настоящим наслаждением.
Дружба их возрастала с каждым годом, но как зорко ни следил Бухаров, – в котором с годами все сильнее развивалась склонность к мистицизму, – за образом жизни, занятиями и разговорами графини, он никогда не находил в них ни намека на былые проявления неведомых сил и таинственных явлений, ее окружавших.
Она даже не любила разговоров о чем-либо отвлеченном, выходящем из обыденного и вполне реального; но, что окончательно было странно и приводило всех, знавших прежде графиню, в изумление, это было непритворное, искреннее, полнейшее забвение ею того, что она так горячо прежде отстаивала. Она не только забыла свои «сны», все касавшееся ее волшебных путешествий, «Приют мира» или уроки Кассиния, – она утратила воспоминание о нем самом! Благо, не оставалось у нее ничего, существенно его напоминавшего; ее тетради, дневники, самый медальон, – талисман, данный ей Белым братом, – все было уничтожено пожаром, все исчезло в этом кризисе ее жизни. Она в общих чертах сохранила впечатление, что в детстве и ранней юности была большой фантазеркой и мечтательницей; чуть ли не ясновидящим, истерическим субъектом, подверженным всяким галлюцинациям. Она стыдилась этих, – «милостью Божией исчезнувших» – болезненных явлений; радовалась, что и памяти об этом ни у кого не осталось, что она порвала навсегда с той местностью и людьми, где могли еще помнить «об этих безумиях».
Муж ее, зная, как неприятны ей напоминания о прошлом, никогда ей не говорил о нем; он просил и Бухаровых, и всех, которые могли что-либо слышать о «болезненном детстве» Майи, не спрашивать ее и никогда не напоминать о нем, в особенности быть осторожными при детях их.
Раз только, оставшись наедине с графиней на балконе их деревенского дома, Бухаров, долго задумчиво глядя на ясное и красивое лицо ее, спросил:
– Скажите, Марья Францевна, вы не помните, что именно вам представлялось во время вашей болезни, – когда мы с вами приехали в Петербург после похорон вашего батюшки?.. Простите меня, что я вам напоминаю такое тяжкое время, но, право, ваш бред был так последователен, так интересен, что я давно хотел спросить вас… Не вспомните ли вы, – с кем вы вели такие продолжительные беседы?
Майя посмотрела на него большими глазами, вся вспыхнув от волнения, но взгляд ее был прям, без признаков смущения, и только слегка удивлен.
– Нет! – возразила она, отрицательно повертев головой. – А что же я говорила в бреду? Скажите!
– Вы много беседовали с кем-то… С каким-то Кассинием… Вы его упрашивали не оставлять вас в свете… Не лишать вас возможности снова увидеть какой-то «Приют мира»… Вы все просили «Белых братьев и сестер»… научить вас читать в какой-то «книге земного бытия»… Вы уверяли их, что не хотите земного счастия, а желаете себя обречь на служение миру, на ознакомление людей «с таинствами бытия»… Вы не вспоминаете?
Опять медленное, сознательное отрицание головой, – любопытствующий взгляд и вопрос:
– Ну?.. А мне что же отвечали эти белые люди?
Бухаров засмеялся.
– Ответов-то ваших таинственных собеседников я никак слышать не мог!.. Они, видно, для вас одной предназначались… Мы с женой только могли отчасти судить о них по вашим возражениям. Мы поняли, что ваш таинственный Кассиний указывал вам на невозможность «возвратить прошлое»… Кажется, он вам внушал, что теперь, когда вас любит жених, и вы его полюбили, – вы более не свободны, и обязанности ваши изменились… Он даже утешал вас, очевидно, потому что раз вы закричали в ужасном возбуждении: «Не утешай меня, Кассиний! Это не то! Не то!.. Не в мирской жизни хотела я найти счастие и спасение»… А в другой раз вы перепугали жену мою отчаянными рыданиями и возгласом: – «Так все потеряно?!. О! Карма! Карма! Карма!»
– Вот странно! – изумилась Майя. – Зачем же я звала Ариана?.. Неужели я его в чем-нибудь упрекала?
– А уж не знаю… Вы часто произносили его фамилию, без всякой видимой связи с другими словами! – подтвердил художник.
– Это-то понятно! – засмеялась Майя. – Какую же связь захотели вы найти в бреду?
– Так ничего в этом вы не понимаете, не помните и объяснить не можете? – в раздумьи переспросил Бухаров.
– Совершенно ничего! – подтвердила Майя. – И вообще, я должна вам признаться в этой странности, которой сама часто дивлюсь: моя детская и девичья жизнь будто стерта из моей памяти!.. Уверяю вас, что мне даже все труднее вспоминать отца и нашу с ним жизнь вдвоем, до самого знакомства с Арианом. Со времени моей с ним встречи – жизнь светлеет… А до того – будто один бланк!.. Ничего не осталось в моей памяти после той ужасной катастрофы и моей болезни.
Она глубоко, но не печально вздохнула, прибавив:
– Мне часто кажется, мой друг, что я родилась на свет Божий в девятнадцать лет, – в год моей свадьбы. Ну, право же, настоящая, сознательная и – слава Богу – счастливая жизнь для меня наступила лишь десять лет тому назад!








