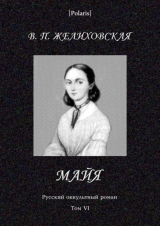
Текст книги "Майя
(фантастическая повесть)
Русский оккультный роман. Том VI"
Автор книги: Вера Желиховская
Жанры:
Социально-философская фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вера Желиховская
МАЙЯ
Фантастическая повесть
Русский оккультный роман. Том VI


От издательства
Начиная с данного тома, в подсерию «Русский оккультный роман» будут также включены некоторые произведения крупной формы, означенные авторами как «повести». Надеемся, что читатели не будут на нас в обиде за это нарушение чистоты жанровых определений – тем более что заглавие подсерии во многом мыслилось и понималось нами и как «роман с оккультизмом», то есть как отражение определенного культурного явления.
Salamandra P.V.V.
МАЙЯ[1]1
Майя – Имя героини связано с индийской религиозно-философской концепцией майи (иллюзии, видимости) как иллюзорности всего сущего.
[Закрыть]
Фантастическая повесть
I
Родители Франца Ринарди были космополиты, но сам он, как это часто бывает, родившись и служа в России, считал себя русским. До сорока лет он жил в Петербурге, где между товарищами-профессорами и немногими знакомыми приобрел репутацию чудака и мистика. Раз летом был он на Иматре, съездил к родственникам в имение да там и влюбился в красивую, болезненную девушку и совершенно неожиданно для самого себя возвратился женатым. Семейной жизнью, однако, профессор пользовался недолго; через год жена его родила дочь, а недель через шесть умерла без всякой определенной болезни. Ринарди чуть с ума не сошел. Он заперся, бросил службу, ударился в спиритизм, только что ввезенный в Россию Юмом[2]2
Юмом – Речь идет о Даниэле Д. Юме или Хьюме (Home, 1833–1886), шотландском медиуме, спиритуалисте, демонстрировавшем способности к ясновидению и левитации, одном из самых знаменитых медиумов викторианской эпохи. Неоднократно подозревался в шарлатанстве, был широко известен в России, дважды женился на русских аристократках (ради второго брака принял православие).
[Закрыть], иностранный продукт мистицизма; жизнь свою наполнил материалистическими проявлениями духовного мира.
Первые два-три года вдовства Ринарди жил лишь благодаря общениям с умершей женою. Не будь этих общений письменных, а порою и видимых ее явлений, укреплявших в нем убеждение в необходимости жить ради вечного единения душ их в будущей жизни, он с первых же дней наложил бы на себя руки. С течением времени он успокоился. Она успела внушить ему также убеждение в плодотворности занятий научных; вселить в него охоту вновь взяться за свое старое дело, обещавшее привесть его к величайшим результатам, к открытию сокровенной доныне, великой силы природы. Повинуясь ее воле, ее внушению, он предался изучениям и опытам и скоро забыл весь мир в своей лаборатории.
Раз ночью, когда он не спал, а лежал, думая о ней, ожидая ее появления, он услыхал возле себя движение, почувствовал дуновение воздуха на лице своем, – верный признак ее присутствия; но в полусумраке ясной ночи видение не появлялось… В тревоге поднялся Ринарди, сел и всматривался в тоске напрасного ожидания.
Вдруг словно долгий вздох пронесся по длинной анфиладе прадедовских покоев, и из залы, где стоял рояль покойной жены Ринарди, раздался тихий, созвучный аккорд…
Ринарди вскочил, простирая руки туда, к дверям, готовый броситься ей навстречу… В ушах его раздался знакомый шепот:
– Франц! Я здесь, я всегда возле вас, – говорил он. – Но больше ты меня не увидишь… Моя грубая оболочка все дальше от меня уходит!.. Мне все труднее, милый мой, даже для тебя, привлекать и соединять ее распадающиеся начала… Я не могу их долее удержать, а ты меня не можешь долее видеть своим человеческим зрением. Быть может, вскоре перестанешь и слышать, но не горюй! Не горюй, милый мой: между тобою и мною звено… Ты скоро убедишься, что мы неразлучны…
Голос замер, последние слова Ринарди едва уловил. И он почти без памяти упал на кровать.
Утром он встал, как опьянелый. Он сел за письменный стол, но не мог сосредоточить мыслей. К нему привели его трехлетнюю дочь, бледного белокурого ребенка с задумчивыми, широко открытыми, черными глазами, как у ее покойной матери. Девочка уж порядочно лепетала на двух языках, но отец мало ею занимался. В это утро он едва на нее взглянул. Ему тяжело было ее видеть!
Няня увела ребенка в сад.
Дом, где жили они теперь, в родовом имении покойной жены профессора, был старинный, каменный. Ринарди безвыездно поселился в этой деревне.
Время было летнее, окна и широкие стеклянные двери в смежной гостиной были открыты в сад; из цветника веяло резедой и левкоем, доносилось чириканье птиц, порою жужжание пчел, подлетавших к окнам, увитым зеленью; не слышалось только людских голосов, ребячьего смеха и лепета. Няня-швейцарка была погружена в чтение; маленькая русская служанка, приставленная к барышне для забавы, болтала в стороне, у калитки, с горничной. Девочка сидела одна на нижней ступеньке крыльца, смотрела кругом вдумчивым взглядом, иногда улыбалась сама себе, бормотала что-то неслышное и снова задумывалась, будто к чему-то прислушиваясь… Вдруг она встала и побрела к пестрым грядкам.
А Ринарди по-прежнему сидел у своего стола, не зная, что делать и за что приняться. Он сам не знал, сколько времени прошло так. Вдруг он встрепенулся. Милый детский голосок заставил его обернуться к двери. Там стояла его маленькая дочь и, улыбаясь, глядя вверх, как смотрят дети в лица возле них стоящих взрослых людей, говорила:
– Ему?.. Пaпà?.. Хорошо! Я дам.
Она быстро засеменила ножками и, поравнявшись с его креслом, сказала, подавая ему крепко зажатый в ручонке белый нарцисс:
– Бери!.. Мама дала…
Ринарди вскочил.
– Мама дала!.. Мама?!.. Где мама? – шептал он побелевшими губами.
– Вот мама! – просто отвечала девочка и, смеясь, указывала ему на дверь.
Секунду профессор колебался, шатаясь, едва держась на ногах: потом сделал два-три шага к дверям, потом вернулся, весь дрожа, схватил ребенка на руки и, как безумный, прижимая его к груди своей, повторял:
– Мама! Твоя?.. Наша мама!.. Ты ее видишь?
– Маму? Да!.. Вот она… Она всегда с Майей!.. Майя ее любит!
Она устранилась от плеча его и будто прилегла рядом к другой родной груди, соединяя их обоих в одной ласке.
Испуг и недоумение растаяли в блаженную улыбку на лице ее отца; радостные слезы полились из глаз его, устремленных благодарно на нее, – на это видимое и ему звено, соединявшее его с невидимой, с единственной любовью, ненадолго озарившей жизнь его счастием.
С тех пор Ринарди стал почти неразлучен с своей маленькой девочкой. Он занимался в лаборатории, когда она спала; работал целые ночи напролет, чтоб иметь днем время быть с нею. Он уносил свою Майю в сад, в лес, в поле, чтобы не выдать их тайны, чтоб свободно прислушиваться к лепету дочери, к тому, что дочь, в блаженном неведении, передавала ему о ней и от нее…
Но долго так продолжаться не могло. Необычайные способности ребенка не могли оставаться тайной для других, – они слишком искренне, слишком часто и явно проявлялись во всем и со всеми; а общее неведение, слепота и глухота всех к тому, что ее духовному слуху и зрению было открыто, не могли ей, наконец, не открыться… Марья или Майя, как называли ее близкие, с тех пор как первый детский лепет ее окрестил ее этим именем, скоро поняла, что есть в ней что-то особое, что дивит и пугает людей. Она стала их сторониться, скрывать свои мысли, полюбила одиночество и в пять-шесть лет сделалась совсем дикаркой. Даже с отцом она не любила говорить обо всем, что ее занимало. Даже он часто не понимал ее, не всегда мог сдержать удивление, скрыть невольное недоверие к ее рассказам.
Позже Майя хоть свыклась с необходимостью осторожно разговаривать с людьми, но перестала их бояться. Она только смотрела на них с недоумением, печально удивляясь их слепоте, лишь усмехаясь в ответ на соболезнования о ненормальности ее жизни в этой глухой деревне, о ее полном одиночестве… Одиночестве!.. Ей было смешно слышать это бессмысленное слово! Ей жаль было обездоленных людей, слепцов, не понимавших, что нет в переполненной жизнью природе одиночества, как нет и смерти у Живого Бога живых!
II
Майя никогда правильно не училась, потому что учителя, а в особенности наставницы редко уживались более нескольких месяцев «при этой безумной девочке, в этом заколдованном доме». Так аттестовало все соседство имение, где жили Ринарди, и его будущую владелицу. Напоследок никто туда и ехать не хотел; да по правде сказать, с четырнадцатилетнего возраста Майи об ее образовании и думать перестали. Кому оно было нужно?.. Отец находил и без учения в ней бездну премудрости; сама она не видела никакой нужды учиться для общества, для света, которых она не знала и не хотела узнавать; для самой же себя она много и неутомимо училась с учителями, ей одной ведомыми… Кто бы они ни были, эти учителя, но ученица их преуспевала в науках, о существовании которых не подозревают обыкновенно девушки. Впрочем, она и сама вряд ли подозревала, что их знает, а уж об именах их положительно не имела понятий. Так, как-то, знания сами собой приходили; точно так же, как и таланты: музыка, живопись, – все ей далось; но не так, как другим, не по правилам, а как-то сразу, неожиданными наплывами, словно с неба валилось или кто-либо умелый ловко и смело водил ее руками по клавишам, по рисунку. Нот она почти не знала и редко играла вещи, которые кто-либо мог признать за музыку, положенную кем-либо на ноты или когда-либо слышанную; а между тем, ей не было еще шестнадцати лет, когда ее игрой заслушивались знатоки.
Точно то же было и с ее живописью. Она никогда рисовать не училась, а никто не мог бы этому верить, глядя на мастерские эскизы ее цветов, видов, необыкновенных растений и еще более необыкновенных созданий. С десяти лет Майя начала испещрять альбомы рисунками идеальных или чудовищных форм, напоминавших мифологии всех стран, верования и сказания всех народов.
– Откуда у вас берутся такие дикие фантазии? – спросила ее раз вновь поступившая гувернантка.
– Как откуда? – засмеялась Майя. – Да я таких всюду вижу: я списываю с натуры!.. Вот эта прелестная девочка-мотылек – с тех пор, как я себя помню, каждый день прилетает ко мне… Мы и сегодня, пока вы заперлись в своей комнате, летали с нею по всему парку, высоко! Выше деревьев и через речку… А вот эту змею с высунутым жалом, с козлиными рогами на лбу, я видела вчера обвитой вокруг вас… Право!.. Да вы не бойтесь. Они везде живут, эти чудовища и разные уродцы, полузвери, полудухи, полулюди, – кто их знает?.. Я и сама иногда не разберу! Но зло они только тем могут сделать, кто их приголубит, – кто сам полюбит их и с ними нянчится…
Гувернантка смотрела на нее в недоумении и ужасе.
– Вы бредите! Или сочиняете сказки? – бормотала она.
– Не брежу и не сочиняю, – спокойно возразила девочка. – Я вам скажу, что такое эти гады и смешные уродцы, которые толпятся между людьми: это наши пороки! наши дурные чувства и желания!.. Ничто не проходит бесследно в природе: все наши мысли даже летают вокруг нас; но не все видят их, как я, – я знаю!.. Прежде я думала, что другие нарочно скрывают это…
– Несчастная девочка! – испуганно прервала ее гувернантка. – Лучше бы вы скрывали свои галлюцинации! Вы больны! вам надо лечиться!
– Нет, я здорова, но все остальные люди ненормальны. Они не сохранили духовного зрения, которое прежде было у всех, а теперь редко кому достается… Я с ним родилась! – вздохнула Майя.
– Боже милостивый! Да откуда вы все это берете?.. Эти фантазии! Эти слова… Кто научил вас всему этому?
– Кассиний! – просто отвечала девочка.
– Кассиний?.. Кто такой Кассиний? – изумилась наставница. – Я не видала его. Кто он? Учитель?
– Учитель! Великий учитель, – не такой, как другие. Но и его никто не увидит, кроме меня, пока он сам того не захочет. Вот он, возле меня… Что?
Майя вдруг подняла голову, будто вслушиваясь, и рассмеялась. Гувернантка отступила в страхе.
– Да не бойтесь же!.. – вскричала Майя. – Я смеюсь от того, что он сказал мне сейчас… Он увидал, что вы о нем подумали: «Надо его удалить! Надо сказать отцу ее, чтоб он его прогнал!» А его нельзя прогнать! Скорее все меня оставят, все уйдут, но не он!
«Да! уж я-то непременно уйду!» – подумала гувернантка и в ту же секунду еще решительней утвердилась в этом намерении, потому что Майя, не отрываясь от рисования, за которое вновь принялась, опять рассмеялась и сказала:
– Ну и Бог с вами! Я знаю, что возле меня жить долго учителя и гувернантки не могут. Кассиний говорит, что они мне не нужны, что сам он всему меня научит.
И точно, не с руки было наставникам учить такую ученицу. Отец ее, наконец, сам убедился в том и предоставил ей полную свободу. Вскоре он даже уверился, что не ее надо учить, а у нее учиться многому: необычайные духовные силы и дарования дочери часто указывали ему пути и средства, когда собственных знаний ему недоставало… Когда он начинал сбиваться в пониманьи на том скользком рубеже, где кончается область положительных наук и ученый волей-неволей должен переступить грань, отделяющую мир материальный от тех духовных, высших сфер, где созревают мировые законы природы, – переступить ее или малодушно отступить и отказаться от предприятия, – тогда Ринарди прибегал к ее помощи. Ясновидящая или сама определяла ему суть вещей, определяла пассивно, с помощью описаний картин, которые «видела», чертежей, которых значения сама не понимала, вычислений, – которые опять-таки «списывала», видя их перед собою, а сама иногда и прочесть не умела! Или же просила времени для ответа и приносила его от лица своего «Белого брата», своего «учителя», – устно или письменно, смотря по сложности вопроса.
Кто был этот таинственный учитель?
Наверное никто, ни даже профессор, ни даже сама Майя того не знали. Но все в доме давно привыкли к его имени, к его влиянию.
Майе было семь лет, когда она тяжело заболела. Болезнь, по определению выписанных из столицы лучших врачей, была смертельна; о выздоровлении не могло быть и помысла: жизнь ребенка была лишь вопросом времени…
Когда приговор этот состоялся, Ринарди почувствовал, что почва вырвана из-под ног его; что он падает, летит в какую-то бездонную, беспросветную бездну… Последней сознательной мыслью его было: «Только бы не сумасшествие! О, если б умереть!» Затем он ничего ясно не помнил: что он делал, где был несколько времени? Часы прошли или минуты? он не знал. Он очнулся среди глубокой ночи, в своем кресле у письменного стола. Часы, стучавшие перед ним в ярком свете лампы, прикрытой от него темным абажуром, показали ему час… Он ли, другой ли зажег лампу и перед ним поставил, – он не знал. Очнувшись, Ринарди бесцельно смотрел перед собою на знакомые предметы, на стол, на свои бумаги, на светлый круг, отбрасываемый лампой, ничего еще определенного не сознавая, кроме тупой боли, сжимавшей сердце его, как в тисках.
«Да! – вспомнил он, – надо идти! Майя умирает!»
И он поднялся. Но в эту минуту глаза его упали на две строки, крупным, четким почерком написанные вкось на белом листе бумаги, в районе яркого света под лампой:
«Не верь. Она будет жива!.. Ее жизнь нужна не одному тебе… На радость иль на горе – но жить она должна».
Весь дрожа от волнения, профессор пригнулся к этим странным, сулившим ему спасение строкам и перечитывал их с биением сердца, с все возраставшим восторгом, пока слезы счастия не затуманили его зрения. Тогда он оторвал этот уголок бумаги с надписью, спрятал его на груди своей и неверными шагами, опьяненный радостью, не смея еще ей вполне верить, прокрался в комнату дочери.
Майя спала, спокойно дыша; возле нее дремала няня.
Ринарди отослал няню спать, сказав, что сам посидит возле больной, и сел с намерением не смыкать глаз, но не успел опомниться, как уже крепко заснул.
Он проснулся утром от луча солнца, блеснувшего ему из-за шторы окна, вздрогнул и устремил испуганный взгляд на дочь. Она сидела в своей кроватке, играя свежими, только что нарванными цветами, переглядываясь с кем-то, кому-то улыбаясь.
– Папа! Иди сюда! – смеясь, позвала Майя. – Вот Белый брат говорит, что ты ленивый! Проспал такое славное утро… А он давно принес мне цветов и говорит, что я скоро буду здорова и сама буду рвать их.
С той поры Белый брат, «учитель» стал неразлучным спутником дочери профессора. Она рассказывала о нем отцу, описывала его; говорила, что он «такой же человек, как и все, только очень добрый и очень умный».
– Спроси его, дитя мое, – сказал ей раз отец, когда Майя была уж совсем здорова, – он ли утешил меня, сказав, что ты будешь жива, написав вот это?
И профессор вынул из записной книжки никогда не покидавший его обрывок бумаги. Но прямого ответа не получил.
– Кассиний говорит, что тебе это должно быть все равно, кто бы ни написал! – отвечала девочка.
III
Под влиянием своего таинственного друга и благодаря чудесам природы, ей доступным, Майя стала развиваться не по дням, а по часам. Вскоре поняла она вещи гораздо более сложные. Кассиний сумел внушить ей убеждение, что незачем рассказывать без нужды о необыкновенных ее дарованиях; нехорошо, даже опасно величаться ими и хвастаться ради забавы; но также нет причины ей унывать, смущаться своим ясновидением, задумываться над собой, как над загадкой.
«В мире ничего нет сверхъестественного! – внушал он ей. – Это пустое, бессмысленное слово… Все естественно, – но не всем все доступно. Не всем дано знать, тем менее овладевать тайнами природы. Мало видящих и слышащих, но блаженны одаренные духовным оком и слухом, если они не злоупотребляют своими великими дарами».
Вскоре после выздоровления маленькой барышни, няня ее вбежала раз к профессору бледная, перепуганная, крича, что барышня ее пропала.
Ринарди вышел к ней встревоженный. Хоть он и привык ко всевозможным чудесам, случавшимся с его дочерью, но няня была слишком уж взволнована… Оказывалось из слов ее, что они гуляли в роще, что Майя рвала цветы, собирала еловые шишки и вдруг скрылась с глаз. Няня звала ее, искала, кричала, расспрашивала всех встречных, – но все напрасно: Майи нигде не было!
– Да где ж это случилось? И давно ли? Веди меня туда! – сказал профессор.
– Да на березовой полянке, барин, – отвечала няня. – С час времени будет.
– Однако! Целый час? – встревожился отец. – Пойдем!
И он схватил шляпу… Но далеко ходить ему не пришлось, не миновали они цветника, как Майя, веселая, румяная, стукнула калиткой сада и бежала им навстречу.
– Девочка моя! Куда ты пропадала? – закричал ей обрадованный отец.
– Ах! Папа! – бросилась она ему на шею, – как было весело! чудесно!.. Я…
Она вдруг смолкла, взяла отца за руку и потянула его в сторону.
– Лучше я одному тебе скажу, папочка, а то няня всегда говорит, что я лгу, а лгать, ты знаешь, очень стыдно! – надув губки, говорила Майя. – Послушай!
Она заставила отца нагнуться к себе и прошептала ему на ухо:
– Мы летали!
– Что?!.. – изумленно воскликнул Ринарди.
Майя повторила еще более явственным шепотом:
– Мы ле-та-ли!
– Кто?!. Неужели Кассиний?..
Девочка расхохоталась громко.
– Что ты, папа, Бог с тобой!.. Такой большой! Серьезный! Важный!.. Нет. Он только смотрел на нас и, правда, когда надо было мне с Селией подниматься, он немножко прикрыл меня собою, чтоб няня не увидала меня на воздухе и не испугалась… Только сначала! как только мы очутились между ветвями деревьев, няня уж не могла догадаться, что надо поднять голову, а не искать меня в кустах! – смеясь, рассказывала девочка, увлекая отца в его кабинет, подальше от чужого слуха.
Там она взгромоздилась, по обыкновению, ему на колена, в его прадедовское кресло и с увлечением продолжала рассказывать, как хорошо летать! Носиться в воздухе легко и свободно по ветру, рядом с облаками, парить над землей, глядя вниз на деревушки, города и бедных людей, таких черных, маленьких, как муравьи…
Ринарди слушал, как во сне.
– Дитя мое! – наконец очнулся он. – Уверена ли ты в том, что говоришь? Не уснула ли ты в лесу и не приснилось ли тебе все это?
– Ну, вот и ты, папа, не веришь мне! – горестно вскричала Майя. – Ах! Что же мне делать?.. Неужели и тебе нельзя рассказывать!..
– О, нет! Нет, дитя мое. Рассказывай мне все, все, что с тобою случается. Я верю тебе! Прости меня, милочка. Ты понимаешь, что трудно привыкнуть…
– Да! Я знаю, что люди – рабы своих духовно неразвитых чувств! – вздохнула Майя.
– Рабы – чего? – изумился профессор.
– Своих неразвитых чувств! – повторил ребенок совершенно сознательно. – Так всегда говорит Кассиний.
«О, Господи! Что выйдет из этой девочки через десять лет?» – с невольным страхом подумал отец.
– Няня никогда не видала Селии? – спросил он.
– Н-нет! – обиженным голосом решительно отвечала Майя. – Ни Селии, ни Кассиния! Как она может?.. Ведь у нее нет всех глаз, она, как все другие люди, ничего не видит. Ни их, ни того, кого они за собой спрячут, – вот, как меня сегодня закрыл Кассиний! Ничего, ничего решительно такого… Кроме вот простых, твердых вещей, которые можно взять в руки…
И Майя презрительно тыкала пальчиком в стол, в стулья.
– Ты, папочка, гораздо больше видишь! – убежденно прибавила она. – Кассиний говорит, что это у нас в семье: что мама была такая же, как я, и что ты сам, когда был маленький, много мог видеть… только забыл!..
– В самом деле?., быть может! – задумчиво проговорил Ринарди.
– Да, да! Наверное! – подтвердила Майя. – И знаешь…
Она подошла к нему ближе и таинственно прошептала:
– Если ты будешь работать, по-прежнему слушаясь его, – он говорит, что твои глаза и уши могут снова открыться…
– Кассиний сказал это? – вскричал Ринарди.
Майя утвердительно кивнула головой.
Отец поднял и прижал ее к своей груди:
– О! Дай Бог, чтобы это была правда!
И точно: с течением лет обещанию Майи суждено было сбываться все шире и определенней. По мере того, как научные занятия профессора Ринарди шли вперед, медленно, но постоянно преуспевая, духовные способности его развивались сильней, и ему открывались дотоле неведомые, необъятные горизонты… Средства и силы его умножались и крепли по мере того, как задача его расширялась; но зато и достижение желанных целей уходило все дальше, со всяким днем, казалось, становилось неуловимей. Беспрерывно увлекаемый удачей то в одной, то в другой подробности, он то и дело отвлекался от главной задачи; заинтересованный, как истинный идеалист, влюбленный в силу знания, а не в успех его практических приложений, он гнался за частными явлениями, а их было столько, что целого он никак не успевал охватить. А время между тем убегало; другие, более практичные изыскатели не дремали: Эдисон с многочисленной плеядой своих предшественников и последователей то и дело предвосхищали его замыслы. Судьба словно дразнила его надеждой, в самую минуту ее исполнения вдруг вырывая у него конечный успех, чтобы им потешить других. Но это не отымало у него бодрости, напротив: частные и, как ему казалось, неудовлетворительные успехи сил электричества, применений телефона, фонографа и прочих изобретений нашего плодовитого века еще сильнее разжигали его стремления полнее приложить их ко благу человечества, упрочить применение их, развить их действия до возможного совершенства.
Ему все хотелось довести каждый открывавшийся ему проблеск до полного, яркого, всестороннего света, а не тратить искр по мелочам.
– Все это добрые лучи! – говорил он. – Они ослепят каждого работника во мраке нашего неведения, именуемого наукой, но не облагодетельствуют мира, как облагодетельствовало бы его открытие источника всемирной силы, света неугасимого, – великой души вселенной, коей все движется, и все держится, и все живет!..
– Ринарди разыскивает начало начал! Animus mundi[3]3
Animus mundi – мировой, вселенский дух (лат.). Вероятно, имелось в виду более часто встречающееся понятие Anima mundi (Мировая душа).
[Закрыть], – великую причину бытия – не только постичь, но и полонить желает! – смеялись немногие, сохранившие сношения с чудаком или память о нем.
Другие решили проще:
– Да, бедняга рехнулся!.. Ум за разум зашел! Но всего печальнее, что он и дочь свою с ума свел!
– Ну, с этим можно и не согласиться! – протестовали знавшие дело ближе. – Скорее она отца с ума сводит. Эта несчастная девушка окончательно безумная!.. Она вечно окружена какими-то духами, оборотнями, кикиморами… Воспитана каким-то невидимкой-колдуном или домовым! Летает на какие-то шабаши… Совсем самодурка юродивая!
– Просто бедная, больная девочка! – заключали наиболее милосердные.
Поистине, Майя была окружена чудесами, которые не могли не возбудить недоверия и подозрения или в искренности ее, или в здравости ее ума. До пятнадцати-шестнадцати лет не было границ волшебным проявлениям ее существования и, казалось, не было им определенной цели, кроме ее потехи. К чему были эти общения с загадочными существами не нашего, плотского мира? Русалки, дриады, саламандры и сильфы, ей одной видимые и слышные, не давали никаких указаний по этим предметами да и, вообще, никаких полезных сведений никогда не сообщали, если не считать таковым убеждение в их собственном существовании.
Кассиний – другое дело! Майя имела полное право его называть своим учителем. Чем старше становилась она, тем серьезнее становились и их занятия. Те долгие часы, которые, по всеобщему убеждению, она отдавала уединенным прогулкам, были посвящены беседам с Белым братом; а с десятилетнего возраста ее он начал требовать, чтоб его ученица не только записывала то, что он ей рассказывал, но и свои сновидения, те из них, которые ей покажутся занимательны. И, странное дело! Майя скоро начала замечать удивительное согласование между теми и другими. Будто сны ее служили дополнениями, иллюстрациями к его рассказам. Она спросила его: «Почему это?..» Кассиний на вопрос отвечал вопросом: «Разве это ей не нравится?» – «Почему же! Напротив, очень нравится! Но… странно. Почему это?» – настаивала Майя.
Но на все свои вопросы она только получила в ответ просьбу воздерживаться от праздного любопытства и раз навсегда забыть такие слова, лишенные значения, как странность, чудеса, сверхъестественность и им подобные доказательства людской несостоятельности.








