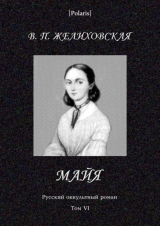
Текст книги "Майя
(фантастическая повесть)
Русский оккультный роман. Том VI"
Автор книги: Вера Желиховская
Жанры:
Социально-философская фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
XVI
Вернувшись домой, профессор оживленно рассказывал за обедом об интересном обществе, собравшемся в Рейхштейне; о том, что завтра они непременно должны ехать обедать к Орнаевой; она особенно просила об этом, потому что завтра окончательно нужно решить выбор живых картин… Бухаров, – преинтересный и премилый человек! – остается с неделю, и при нем надо все устроить… Но больше и восторженнее всего профессор рассказывал об удивительной библиографической редкости, подаренной ему Софьей Павловной.
– Это, помимо исторической и научной ее ценности, просто капитал, – повторял он. – Просто целый капитал. Любая академия за него несколько тысяч заплатит, уж не говоря о частных любителях.
– Ты и сам любитель не хуже других знатоков! – улыбаясь, заметила Майя. – Тебе не зачем искать охотников!
– Да я и не думаю! И не думаю!.. Помилуй, вот придет весна, начнутся грозы, – это завещание величайшего оккультиста последних веков еще может мне принесть услугу неоценимую!
И он принялся излагать содержание «рукописи Калиостро». Как только он дошел до средства добывания магического огня, Майя пожала плечами и с уверенностью возразила, чтоб он лучше оставил такие неосуществимые надежды; что все эти советы и наставления мистиков и чародеев редко дают удовлетворительные результаты, а очень часто навлекают на их последователей большие опасности и беды…
Но она скоро умолкла, однако, не желая раздражать отца противоречием. Наступило молчание. Ринарди давно уж приглядывался к дочери.
– Ты ничего не ешь, Майя? – сказал он. – Тебе нездоровится?.. Ты не больна?
– Не больна… Но расстроена, ты прав! – вздохнула Майя.
– Что случилось? – встревожился отец.
– Ничего особенно страшного… Я сама этого давно ожидала, но все же очень тяжело! Сегодня ночью я простилась… Нет – не я! Он, – Кассиний – простился со мною.
– Как – простился? Почему? Надолго?
– Да… Вероятно, надолго. Может быть, и навеки!.. Если я не сумею заслужить свидания! – горько добавила девушка.
Ринарди помолчал, потом тихо спросил:
– Как ты знаешь об этом, дитя мое?
– Знаю. Кассиний сам мне сказал… Он просил меня не огорчаться, быть спокойной. Я постараюсь для него… и для тебя! Что ж делать, – вздохнула она глубоко, – если необходимо прожить, в разлуке с ним, долгую, скучную жизнь для того, чтоб вступить в Белое братство. А тогда уж я с ним останусь на всю жизнь!.. Но этого не может случиться, говорит Кассиний, – раньше, чем не окончатся мои прямые обязанности в жизни…
– Понимаю. Это значит, пока я жив… Но разве твой всеведущий Кассиний не предвидит, что с течением времени у тебя могут явиться другие обязанности? Узы, еще несравненно сильнейшие, чем привязанность дочерняя?
– Разумеется, он все предвидит. Но я надеюсь, что Бог поможет мне себя ничем не связывать… Я никогда не выйду замуж! – сказала Майя.
– Не выйдешь замуж?.. Не будешь знать любви?.. Бог сохрани тебя от такой печальной жизни, дитя мое!
– Бог сохрани меня от тягот, забот и горестей брачной и семейной жизни!
– Неужели твой Белый брат внушал тебе такие ненормальные помыслы?
Майя отрицательно повертела головой, прямо, с улыбкой, глядя в лицо отца.
– Он, напротив, говорил мне, что это было бы естественно, что греха в любви и браке нет. Но я сама надеюсь и молю Бога помочь мне не ведать любви к кому-либо одному, чтоб полнее и безграничнее любить всех… На что мне эгоистические, сомнительные радости этой обыденной жизни?..
– Ах, Майя, девочка моя дорогая! – невольно воскликнул Ринарди. – Уверена ли ты, что это не сон? Не обман воображения?..
Звук колес и щелканье бича у подъезда прервали беседу отца с дочерью. Оба поднялись удивленные: вечерние, нежданные визиты в деревне редкость. В передней с шумом отворились двери, раздались голоса, веселый смех, и разрумяненное морозом, смеющееся лицо Орнаевой, еще закутанной в меха, опорошенные снегом, заглянуло в столовую.
– Вот и мы за вами – к вам же! – закричала она. – Пообедали? Прекрасно! И мы от обеда… Мы решили не терять золотого времени с Дмитрием Андреичем: он сгорает нетерпением познакомиться со своей Антигоной… То есть, pardon, cousin! С вашей Антигоной, а своим оригиналом. Бухаров! Что ж вы стоите? Раздевайтесь же! Не бойтесь! В этом доме живут не медведи и не педанты, помешанные на формальных церемониях, а добрые, милые, гостеприимные люди, которые нас отогреют лаской и горячим чаем.
Софья Павловна была необычайно мила и весела.
Спутник ее, уже знакомый профессору художник Бухаров, нелюдимостью тоже не отличался. Это был человек средних лет, красивый брюнет с подвижным, выразительным лицом и глазами, изобличавшими сильные страсти, не успокоенные еще бурной жизнью. Бухаров был давно женат на красавице, на женщине замечательной, вообще, не одной красотой, но умом и талантами. Он, вообще, был удачник, что доказывало и его счастливейшее супружество.
Благодаря большому состоянию жены и громадным заработкам мужа, Бухаровы жили роскошно и гостеприимно. Их приемы, кроме того, отличались артистической оригинальностью обстановки, разнообразием развлечений и смешанными элементами общества, которого столпотворение для многих составляло самую привлекательную черту их вечеров и обедов. Бухаровы знали и любили весь свет; и весь свет, за немногими исключениями, знал и любил их.
Оригинальная репутация профессора Ринарди и его дочери давно, по слухам, интересовала Дмитрия Андреича как художника, поэта и, кроме того, мистика по влечению. Он обрадовался, когда Орнаева написала ему, что в ней, «в очарованной и очаровательной Майе Ринарди», она нашла ему чудный тип. Он знал развитый вкус и художественное понимание Софьи Павловны. Кроме того, не прочь был посмотреть на живописные берега Финляндии зимою; а познакомиться с чудодеем-оккультистом и его «зачарованной дочерью» тем более… У него оказалось свободное время, он и воспользовался приглашением, сопутствуемый наказом жены: «Хорошенько все разузнать и постараться уговорить этих интересных людей оставить свою берлогу – показаться в столице!»
С первого взгляда Бухаров увидал, что недаром приехал. Его утром прельстила «патриаршая» осанка и разговор профессора; теперь же «мистическая красота» Майи привела его в восторг неподдельный.
Но Бухаров был человек хотя увлекающийся, но воспитанный и светский. Он не подал на первый раз и вида о том, что думал; но твердо решил, что не упустит такого клада, не передав его, по крайней мере, своему полотну, если окажется совершенно невозможным увезти ее с собой на украшение и любование той художественно-артистической среде, в которой проходила его жизнь.
В оживленных разговорах, в музыке и веселых предположениях Орнаевой насчет затевавшихся ею живых картин вечер, до поздней ночи, прошел незаметно. Даже Майя была развлечена и охотно поддалась всем затеям Софьи Павловны. Решено было весь следующий день провесть в Рейхштейне и, к великому удовольствию Бухарова, ни профессор, ни дочь его нисколько не противились его желанию написать их портреты. Первый сеанс был назначен на завтра же.
Садясь в сани, чтоб ехать домой, художник воскликнул в непритворном восторге:
– Софья Павловна! Как мне благодарить вас?.. Я сам не смею: поручу жене обнять и расцеловать вас при первом свидании.
– Qu’à cela ne tienne![19]19
Qu’à cela ne tienne – Это не проблема (фр.).
[Закрыть] Позволяю вам себе это позволить самому, если только жена вам это позволит! – рассмеялась Орнаева. – Что, ведь не преувеличивала я, когда писала, что эта девушка находка для поэта и живописца?
– Какое преувеличивали! Да я и ожидать не мог такого изящества! Такого ума, знания, талантов и полного неведения своих преимуществ и красоты! Помилуй Бог! Да это какой-то премудрый доктор Фауст в образе прелестнейшей из Гретхен! А этот старик – тоже оригинал удивительный! Древний пророк! Волхв, по наружности и по знаниям!
– Ну, она гораздо выше отца по всему.
– Согласен! Она какая-то свыше одаренная и просветленная пифия!.. Удивительные, загадочные люди! Я страшно вам благодарен, Софья Павловна.
– Я так и знала. Но теперь я передам вам свои планы касательно этой прелестной девочки. Вы должны мне помочь ее отшлифовать для света! Лишать общество такой самобытной жемчужины и ее предавать увяданию в этом диком захолустьи, вы понимаете, грешно! Надо уговорить их переехать в Петербург, поехать за границу летом. Вывести их, в особенности, ее, на свет Божий!
Нечего и говорить, с какой готовностью ухватился за эту мысль художник. Они до поздней ночи строили на эту тему планы совместных действий.
В то же время Майя думала, засыпая:
«Ну, что ж! Кассиний говорил, чтоб я не чуждалась людей, не сторонилась общества. Лучше начать жизнь, – мою новую, обыденную, скучную жизнь, – со сближения с такими интересными людьми, как Орнаева и Бухаров, чем ездить в город или к другим соседям на вечеринки с танцами!»
И заснула Майя безмятежно; а на другой день поехала в Рейхштейн. На третий же, впервые в жизни, осталась ночевать вне родного дома и прогостила две недели у Софьи Павловны Орнаевой, лишь навещая отца, который, впрочем, и сам целые дни проводил в замке.
Одуряющая атмосфера вечной суетни, вечного веселья, окружавшая ее новую и пока единственную приятельницу, мало-помалу, исподволь и незаметно втягивала ее в свою трясину.
XVII
Майя очень изумилась, опомнившись через месяц. Проснувшись в одно зимнее утро, она увидала себя в незнакомой обстановке, вдали от родного гнезда, в шумном городе, среди шумного общества, где все почему-то интересовались ею, восхищались каждым словом ее, каждым движением. Ее, впрочем, не смущало и даже не удивляло общее поклонение; ее постепенно приучили в Рейхштейне к восторженным хвалам. Она принимала их, как ласку, а не как лесть, и сама искренне воздавала приязнью своим новым знакомым.
В Петербурге, в многолюдном обществе, которое она нашла у Орнаевой и Бухаровых, друзей нашлось ей множество… Театры, опера, выставки, даже презираемые ею заглазно балы произвели на Майю блестящее впечатление. Она охотно осталась бы дольше гостить у Бухаровых, которые ее усердно о том просили; но отец, пробывший только с неделю в столице, писал грустные письма, по которым Майя предположила, что он болен, испугалась и решила тотчас ехать домой.
Тогда и Орнаева собралась, уверяя ее, что только для нее и жила здесь.
На первой неделе поста они возвратились: Майя, как в чаду от множества новых впечатлений; Орнаева, сильно озабоченная… Из данного ей срока оставалось менее четырех месяцев, а она не видела никаких признаков у Майи сердечных движений.
– Легко ему приказывать: «Вы так должны устроить, чтобы ее сердце заговорило!..» А если оно не может, не умеет говорить?.. Ведь бывают немые от природы! – досадливо иронизировала она сама с собою. – Эта девочка, как истое создание не от мира сего, – русалка или эльф, – не поддается никаким человеческим чувствам. Уж я ль с ней не бьюсь? – и ничего! Ни кокетства, ни тщеславия, – о любви даже не поминая!.. Это не живой человек, а поэтическая кукла, набитая мистицизмом.
Так рассуждала Орнаева, но, в сущности, в Майе произошла большая перемена. Она не влюбилась ни в кого, это правда, но вошла во вкус развлечений, полюбила блеск и удовольствия, которых суетность осудили бы те, чье одобрение в прежнее время доставляло Майе величайшее счастие. Месяц в городе, среди вечной суеты и спеха, свел ее с колеи, приучил упускать из виду, что сказал бы Кассиний о ее препровождении времени? Она, среди массы развлечений, о которых прежде не имела понятия, не то чтобы забывала Кассиния, но уж не так много и часто о нем думала. Однако, как только она вернулась домой, ее охватили воспоминания, и она сама себе ужаснулась, сообразив, как мало она во все это время думала о прежнем, как редко вспоминала наставления своего друга.
Прошедшее нахлынуло и охватило ее с новой силой, как только она вошла в дом, где протекло ее детство. С непривычки ей казалось, что она целый век в нем не бывала… Ее охватили воспоминания!.. Ей так захотелось полнее окунуться в прошедшее, что она рада была остаться одна с отцом, когда уехала Орнаева.
Того же нельзя было сказать о профессоре.
Целуя и сжимая в объятиях дочь, он смотрел на улыбавшуюся ему кузину и припал к руке ее с горячностью не меньшей. Ринарди едва ли не одинаково скучал по обеим отсутствовавшим, пока они были в Петербурге, и не раз ловил себя на размышлениях: как хорошо бы пожить ему на свете в последние годы жизни, если б «так или иначе» Софья Павловна навсегда поселилась бы с ними. Пожалуй бы, даже одна с ним, предполагая возможность выхода замуж дочери его… Он легче примирялся с последней необходимостью, чем с мыслью о разлуке с соседкой, о ее отъезде навсегда. Он горячо желал, и даже имел некоторое право надеяться, что не будет осужден на такое горе… Ответы Орнаевой на письма его, где он сетовал на свое старческое одиночество, давали ему это право.
Оставшись с Майей один, он бил на то, чтоб все в подробностях разузнать о их препровождении времени в столице; а она, напротив, все возвращалась к тому, что было прежде; вспоминала то, что для него утратило интерес со времени знакомства с «кузиной». В своих стремлениях они теперь совершенно, в корень расходились. Старика занимали лишь мысли об Орнаевой и нетерпеливое ожидание весны – весенних гроз, которые могли, которые должны были, помощью строгого исполнения им всего, что предписывалось в наставлении Калиостро, – дать ему ключ к великому могуществу. А дочь его находилась на каком-то и жизненном, и нравственном перепутьи, между влечением сердца к заветам чудодейного прошлого и разнообразием новых впечатлений. Теперь, когда они миновали, она сильнее была одурманена их богатством и новизной, чем когда они были действительностью настоящего, и в чаду их она сразу не умела разобраться.
И в деревенском их затишьи Майя не была ограждена от влияния этих новых в жизни ее сил. Ни Орнаева, ни ее столичные приятели не оставляли ее без известий. Первая то и дело, привозила читать ей вслух письма их общих знакомых с восторженными панегириками Майе, сожалениями об отъезде ее, чуть ли не с объяснениями ей в любви; вторые и сами не дремали: не только писали ей, но писали о ней и усердно присылали им все нумера газет и журналов, где о ней говорилось. Хотя ее в них и не называли прямо по имени, но несомненно говорили о ней, превознося ее до небес. Поводом к этим печатным восхвалениям послужила выставка картин Бухарова, где то и дело попадались ее портреты в разных видах: «Эдип и Антигона», «Вдохновенная», «Лесная фея» и т. д. без конца.
По наружности, однако, никто не угадал бы в ней поворота к суетности; напротив, она по виду стала величава, спокойна и уверенна в себе, как женщина, много испытавшая в жизни. Попав снова в прежнюю обстановку, охваченная вновь прежней атмосферой, воспоминаниями всей жизни, Майя Ринарди сразу стала серьезней, сосредоточенней, и с жаром вернулась к продолжению занятий, начертанных для нее Кассинием. Под влиянием их, к ней отчасти вернулось внешнее, величавое спокойствие, заставлявшее многих предполагать, что она невозмутимее и недоступней, нежели то было в действительности.
Наступала весна, дружная, яркая, смеющаяся.
В прежние годы Майя Ринарди целыми днями пропадала бы в лесах и рощах; теперь она не выходила почти ни в парк, ни в сад, а в Рейхштейн упорно отказывалась ездить. Она почти безвыходно сидела у себя, на своей «вышке», переписывала все прежнее, все нравственные и научные уроки, записанные ею со слов «учителя», или продолжала свое одинокое учение по книгам, им указанным. С отцом она теперь редко проводила время. Он все был занят в своей лаборатории или кабинете опытами, которые ее не интересовали. Майя считала себя вправе так поступать, потому что он сам явно ее сторонился, даже скрытничал с нею по поводу своих занятий, о которых Орнаева теперь знала гораздо больше, чем она. Эта добрая родственница, впрочем, сама почти переселилась к ним… Дурные дороги не допускали к ней гостей, а она ничего так не боялась, как одиночества. К тому же близость к отцу и дочери, постоянное наблюдение за ними, именно в настоящее время, для нее были очень важны, потому что ей приходилось пустить в ход всю свою изобретательность, хитрость и влияние.
Половина срока, ей данного, истекла… Сюда, в их захолустье, никого нельзя было ожидать в такую распутицу; а профессор, под влиянием каких-то особых расчетов, решительно заявил, что не двинется из деревни ранее окончания своих опытов, – ранее, чем пронесется над ними седьмая весенняя гроза…
Поди, – жди ее!.. Она, быть может, не прогремит в их небесах и до июля, а в июне роковой срок!.. Орнаева теряла голову. От беспокойства и страха она даже похудела и писала отчаянные письма своему принципалу.
В начале мая, в одну совсем белую ночь, войдя в свою комнату, Орнаева бросилась утомленная, измученная неудачами, в кресло… Что ж это будет, наконец?.. Чем виновата она, что ей ничто не удается?.. Книги, которые она дает Майе, – та не читает; советов ее не слушает, даже к самым речам ее невнимательна. Она так рассчитывала на влияние этой поездки – и что же вышло?.. Ничего!.. Она теперь и не вспоминает ни о ком из своих поклонников… Да и их, дураков, ни одного не заманишь сюда никакими просьбами. Ухаживать, пока на глазах, восторгаться – это их дело! А на что-нибудь решительное пойти – не хватает силенки… О! Если б Майя была богата!.. Если б за поэтической красотой ее стояла прозаическая, но внушительная цифра ее приданого, которой можно было бы ослеплять нерешительных претендентов. Тогда они не побоялись бы распутицы! Много бы охотников нашлось, очертя голову, вступать в конкурсное соискание ее взаимности, ее руки… Ее задача тогда была бы несравненно легче; но этот старый дурак, не стесняясь, вправо и влево успел ославить, что разорился на свои аппараты и опыты; а бесприданница-невеста у нас, известно, будь она одарена красами и талантами не одной крестной матерью-колдуньей, а целым сонмом ведьм и волшебниц, в матримониальной игре банка не сорвет. Она, Орнаева, пыталась было распространять молву о богатстве Ринарди; она прекрасно знала, что если дело на то пойдет, они не постоят за цифрой приданого… Недаром в том письме было сказано: «на средства – carte blanche!» Но какими средствами заставить отца или дочь взять деньги?.. Они ни за что не согласятся принять подарка даже от нее… «Хоть бы устроили те, чтоб на их выигрышный билет выпал славный куш!»
При этой мысли, ей блеснувшей, Орнаева вскочила, ударив себя по лбу.
Это была счастливая идея… Но… есть ли у них билеты выигрышных займов?.. Это еще вопрос. С такими людьми, не от мира сего – все вопрос! Все практические дела им по принципу и на практике чужды… Но это можно поправить – заставить купить… Упросить Майю принять в подарок…
Или еще вернее – попросить старика разменять ей. Сказать, что давно хотела продать… Как-нибудь устроить можно, а тогда, – их дело устроить так, чтоб на этот билет пал выигрыш… Разумеется, первый выигрыш!.. Они это сделают без затруднения, если это для их целей нужно… Разумеется, двести тысяч не Голконда, но…
Орнаева вдруг остановилась, как вкопанная, пораженная не звуком голоса, а скорее сознанием чужого голоса возле или внутри себя.
– Нет! – говорил он: – это не нужно!
И в ту же минуту ей блеснул на камине зеленовато-синий огонек.
Как виноватая, вся холодея внутренне, она подошла, взяла светившееся письмо и прочла его с тяжелым замиранием сердца. Но ничего страшного в нем не оказалось. В нем было всего две строчки:
«Сами пришлем того, кого нужно. Примите гостя, как родного, как неожиданно навестившего вас сына вашего лучшего друга. Имя ему – Карма».
Улыбка успокоения, даже торжества вернулась на лицо ее и, со вздохом облегчения, она прошептала:
– Карма?.. Символическое имя! На их языке – воздаяние… Непреложный закон возмездия!.. Наконец-то!.. Авось теперь наше дело выгорит!
И вновь – эхо ли собственного ее голоса, или, действительно, кто прошептал вслед за нею, но она явственно слышала свое последнее слово, повторенное тоном насмешки:
– Выгорит!
XVIII
Раз утром, встретясь за завтраком, профессор, необыкновенно оживленный, сказал своей дочери:
– Ну, милочка, приснился и мне необычайно яркий сон.
Майя посмотрела внимательней на отца и спросила:
– Что ж за сон тебя так порадовал, папа?
– Да уж и не знаю, право, сном или светлым видением назвать мне свою ночную грезу? – начал рассказывать Ринарди. – Меня посетила богиня!.. Уверяю тебя, милочка, что ко мне нынче спустилась сама Юнона или премудрая Изида. Представь себе… Я даже не сумею точно сказать тебе, как я ее увидел и какой у ней был вид. Знаю только, что я вдруг ощутил возле себя чье-то светлое, желанное присутствие. Я открыл глаза и увидел образ женщины, которую вначале принял за тебя, Майинька. Она стояла на пороге дверей на лестницу в обсерваторию и манила меня вверх, за собою.
– И ты пошел за ней? Послушал ее?
– Без сомнения! Во мне даже ни секунды не было колебания. Столько привета было во взгляде ее, столько повелительности в призыве, что я последовал за ней, как за магнитом…
– Напрасно. Никогда не поддавайся таким видениям… О! эти красавицы-женщины, являющиеся ученым, часто завлекают их в беду… Разве ты не читал…
Добродушный смех отца прервал ее речь.
– О! Девочка моя! Ты меня смешишь. Разве я волен в своих снах?
– Да, если это был только сон. Простой сон?
– Друг мой! Простой иль не простой – разве могу я знать? Ведь я не одарен, как ты… Во всяком случае, выбор действий мне не был дан. Я не мог не идти, пошел и не раскаялся! Ты помнишь зрелище, которое мы с тобою видели осенью, что показывал нам барон Велиар?
– Тсс! Бога ради, не произноси этого имени! Не напоминай мне об этом ужасном человеке! – болезненно-раздражительно отвечала Майя.
– Хорошо, хорошо, дитя мое! Успокойся… Я хотел только объяснить, что то, что мы видели с тобою тогда на одной планете, то самое я увидал, без всякого аппарата, в своем волшебном сне, на всех светилах, покрывавших небо. Вообрази это чудное зрелище!.. Едва я взошел на вышку, я увидал, что весь небосклон горел чудными разноцветными звездами; а едва я устремлял глаза на которую-либо из них, как она мгновенно словно приближалась ко мне, так что я мог свободно отличать ее географические очертания и даже населенные на ней пункты. А моя чудно-величественная женщина-богиня стояла возле и рассказывала мне этнографию и историю каждой из них. Я, помню, во сне подумал: уж не София ли это твоя, о которой рассказывала ты, навестила меня?
Майя отрицательно покачала головой.
– Нет, отец, оставь эти мысли: Белые сестры на такие бесцельные проявления не тратят сил. Не сердись, папа!.. В их глазах, – я говорила тебе, – занятия твои бесцельны, потому что прямого приложения им нет: все те открытия, к которым ты стремишься, были бы преждевременны.
Майя крепче обняла отца и, любовно прижавшись к нему, продолжала:
– Ты лучше послушай, что я тебе расскажу: помнишь ты свое раннее детство?
Профессор задумался и отвечал нерешительно:
– Раннее детство? Нет. Я тебе скажу, почему…
– Постой! Я сама тебе скажу: потому, что по седьмому году ты заболел мозговой болезнью, после которой потерял память обо всем, что до этого было.
– Да! Я говорил тебе?
– Нет, папа, не ты мне это говорил, а Кассиний. Он мне сказал, прощаясь со мною, что надеется, что я не забуду ни уроков его, ни тем более его самого потому, что со мною он пробыл необыкновенно долго. С другими Белые братья и сестры не могут быть долее их отрочества, лет до десяти, до двенадцати. Им, видишь ли, очень мешают окружающие избранных ими детей; особенно тех, что живут в людных, больших городах. Большей частью, они удаляются, как только первое отрочество сменяет детские годы; со мною же ему посчастливилось потому, что я жила в чистой, здоровой атмосфере и в тихой среде, почти в одиночестве. А главное потому, что почва, на которой я росла, была необыкновенно благоприятна…
Майя склонилась близко-близко к отцу и чуть слышно шептала ему на ухо, будто боясь, что у самих дверей и окон бывают уши.
– Он говорил, что мои способности с двух сторон наследственны! Что вы сами, – ты и мама – были такие же, как я. Ты – до семи лет, а мама дольше, – до пятнадцати.
– Как? И я?.. Твоя мать – быть может! Она часто проговаривалась в таких воспоминаниях и таких странных понятиях, что, соображая впоследствии, я сам догадывался, что она передала тебе отчасти свои способности и свойства. Но я?!
– Да, ты, папа. Ты сам… Только ты совершенно все забыл после болезни, а она кое-что вспоминала…
– Но, дружочек мой! Как могло это статься? Забыл бы я, – помнили бы старшие, меня окружавшие, – протестовал Ринарди.
– Э, милый мой, полно! Мало ли детей рассказывают старшим, что они видят и слышат? Какие с ними случаются дива, – но что делают взрослые? Разве помнят они или обращают внимание на эту «болтовню и вздорные бредни»?.. Так и ты. Кассиний знал и тебя, и маму с рождения, и любил вас обоих. Он оттого и пришел ко мне, что сначала надеялся на ее помощь, но она умерла и, умирая, ему меня поручила.
– Так она его видела? Узнала? Вспомнила? – дивился профессор.
Он задумчиво слушал рассказы дочери, как слушают старые люди давно знакомую, с детства милую сказку, которую ум отвергает, но признает душа.
– Да, когда она заболела, к ней снова вернулись ее способности. Она тогда увидала и признала его. И, видно, ему доверяла, если просила его меня не оставлять.
– Она просила? А между тем он все же, говоришь ты, тебя оставил!
– Оставил, но не совсем! – горячо возразила Майя, в увлечении возвышая голос и не замечая, что на пороге столовой, за спиной их кто-то появился и неслышно замер, прислушиваясь. – Во-первых, он вооружил меня на бой житейский всем тем, чему меня учил: ведь у меня томы дневников, где записаны, под его диктовку, все уроки его, все, что я слышала и видела. С таким оружием мне мудрено, хоть он и говорил, что забвение приходит всегда незаметно и скоро, забыть его наставления, его обещания!.. Да и кроме того…
– В такие юные, неопытные годы самые премудрые наставления бессильны без руководящего, живого участия! – сказал Ринарди.
– За неимением руководящего участия Кассиния, у меня есть еще от него память…
И она выдернула цепочку, на которой всегда висел на груди ее талисман, данный ей Белым братом.
– Посмотри, отец: вот что он мне дал!.. Я во всю жизнь не расстанусь с этим медальоном и надеюсь, что он охранит меня от всех житейских бед.
Шорох, раздавшийся за ними, заставил их оглянуться, а Майю скрыть поспешно талисман свой на груди.
За дверями раздался голос еще невидимой Орнаевой. Она, лишь мельком увидав талисман и услышав предпоследние слова молодой девушки, быстро отступила назад в глубь комнаты и оттуда спрашивала:
– Можно войти? Или, быть может, вход запрещен?
Ринарди быстро поднялся и пошел навстречу кузине с протянутыми ей дружественно обеими руками.
– Для вас – никогда!.. Милости просим.
Софья Павловна вошла, как всегда оживленная и приветливая; только тревожный огонек в глазах и маленькая временная бледность могла дать заметить, что она только что чего-то испугалась или чем-то поразилась до того, что кровь отхлынула ей к сердцу.
Между веселой болтовней, которой Орнаева привыкла часто прикрывать свои чувства и размышления, она то и дело украдкой бросала тревожные, почти боязливые взгляды на Майю и думала:
«Вот оно что!.. Вот причина и разгадка ее неуязвимости!.. Почему же он меня не предупредил?.. Неужели сами они того не знали?.. Неужели тот настолько сильнее их?!»
Но Майя, утратившая свои ясновидящие способности, не прозревала мыслей Орнаевой и никак не подозревала, что она слышала что-либо или видела ее заветный талисман.








