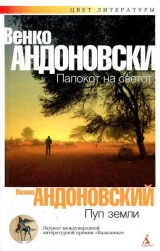
Текст книги "Пуп земли"
Автор книги: Венко Андоновский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
7
От удара, который Бог решил нанести отцу Стефану руками Философа, тот уже не мог оправиться и более не поднимал головы. Логофет запретил ему появляться перед очами, ибо зол был, лжи не любя, а ложь Буквоносца была огромна: не было никакого видения и никакого ангела, а вместо того только хула на всех ангелов, и буквы были не новые, а старые, переписанные, буквы украденные, а не рожденные, сладкая гроздь, в чужом винограднике срезанная. А когда я вернулся назад из Дамаска, узнал о новых несчастьях: в день моего отъезда логофет царским указом с печатью царской сменил имя Стефану, и он больше не был Буквоносцем, а стал Лествичником! Но малым показалось ему наказание такое по гневу его, и отнял логофет у отца Стефана первенство в совете двенадцати и назначил его простым ключником в семинарию к Юлиану Грамматику. На великое осмеяние был выставлен отец Стефан Буквоносец (отныне и присно Лествичник), и я, хоть и не мог любить его (ибо лукав он был, и такая наука, как потом видно станет, подобала не только уму, но и сердцу его), все же пожалел его, ибо с высот высочайших пал он, как ангел черный с небес, и в пепел обратился. Ибо не равно падение высокого падению низкого; с вершины мира падающему может кончина прийти, а с низкого падающему лишь боль малая и минучая приключится. Даже голос поменялся у Лествичника, стал будто из-под земли идущим, и второй глаз у него, как кажется, помрачился; сгорбился Лествичник, воздалось ему по делам его. Всегда белый глаз отца Стефана казался мне луной, светилом ночным, ибо белым был и пеленой белой был затянут; другой же походил на светило дневное, желтое, им же он видел. Теперь и этот глаз замутился, стал солнцем черным, могильным.
А Философ на следующий день опять был у логофета. Здесь же, за логофетом, стояли и мы: я, отец Пелазгий Асикрит и, вместо Стефана Лествичника, Марк Постник, принявший первенство в совете. Мы там были, чтобы слышать, чтобы видеть, чтобы узнать и чтобы иным временам свидетельствовать.
Философ выступил перед логофетом, поклонился, пал на колени и сказал:
– Добротворная надпись на кольце твоем и на добро тебе вырезана.
– А что там написано? – спросил логофет.
– Написано: ну ниндаан езатени вадар ма екутени.
– А на каком языке написано сие, Философ? – спросил логофет.
– Жил некогда род людской, который звался хеттским, господин. Писал он этим письмом. Род этот вымер, но все еще живы люди, понимающие язык его и читающие слова его.
– Что это означает, Философ? – спросил логофет.
– Ты сам сможешь узнать это, господин, и сам сможешь превзойти науку чтения иных надписей и оком и духом. Все, что нужно знать, – слово одно или букву одну, и после того чтение неведомого не будет для тебя невозможным.
– Чем поможет тебе один знакомец среди тысячи незнакомцев, если все, кроме него, к тебе не расположены? – спросил логофет уместной притчей, ибо воистину: чем поможет слово известное единое между сотен неизвестных, как и воин твой единый против тысячи неприятельских?
Но и Философ ответил подобно, чудной притчей.
– И Господь наш, Иисус человеколюбивый, един был, но, пришед, спас нас всех, – сказал Философ, и продолжил мед течь устами его. – Если один желудь имеешь, а леса не имеешь и если посадишь его, не вырастет ли из него дуб? А от дуба единого не получишь ли опять желудей множество? А от них разве не взойдет роща целая? Если зерно имеешь, не произрастет ли из него колос, а от зерен колоса первородного не произрастет ли нива целая, а от нее другая? И потому, когда умирает некоторый язык и письменность некоторая угасает, не обязательно сохранять все; если горит храм и книги в нем, только одну надо спасти, да хоть и страницу единую, даже строки одной довольно. И тогда потом все книги можно будет заново воссоздать от той, что спасена, от зерна письма и слова. И Бог из Слова единого мир создал, а теперь слов несметно есть и языков несметно по родам человеческим на лице земли. Да и Ной, спасая мир, не по одному ли, мужскому и женскому, от всех тварей живых в ковчег свой взял, дабы потом умножилась жизнь на земле после потопа? Посему погляди хорошенько на надпись, тебе чуждой кажущуюся, и скажи: если слово, читающееся «нинда», означает «хлеб», можешь ли догадаться, о чем тут говорится?
Логофет смотрел на странное письмо на перстне и чесал в затылке. А Философ продолжал:
– Подумай, если в надписи говорится о хлебе, то следующее за ним слово, кое наибольшую сродность с этим словом имеет в твоем языке, да и во всех языках всех родов человеческих на лице земли, – какое это слово могло быть? Что с хлебом делают? – спрашивал Философ.
– Хлеб едят, им насыщаются? – неуверенно отвечал логофет, как дитя пред взрослым, как христианин, слуга пред господином своим, Господом Вседержителем, умоляюще и просительно глядя в ясные очи Философа.
– Именно так, пресветлый. Следующее слово означает «есть». А слово «ну» на что похоже, если мы знаем, что на всех языках этого света сначала говорится ктосделал, а потом чтосделал?
– Слово «ну» похоже на слово «нас, нам», то есть «мы», о Философ-златоуст, – сказал логофет, и его объяла радость понимающего, с которой не сравнится ниже радость властителей, завоевывающих и грабящих.
– И это верно, – сказал Философ. – Но если так, что означают первые три слова? Разве не означают они «мы хлебом насытимся»? И посмотри теперь, пресветлый: значения трех слов мы знаем, а для написания этих трех слов употреблены семь знаков, так что, разгадав три слова, семь букв мы разгадали. Ибо письмо это таково, как и все от Господа в этом мире: все большее из малого строится, и, познавая большее, мы незаметно для себя многое из меньшего познаем. Господь премудрый такую науку нам оставил, дабы не впадали мы в отчаяние оттого, что ничего не знаем; и потому, неведомое встретив, не следует отчаиваться, ибо эта сущность из других, более мелких сущностей составлена, и обычно они оказываются известными. Есть ли, господин, некоторые из тех, тебе уже известных семи знаков, во второй, неразгаданной части надписи?
Логофет посмотрел на вторую часть надписи, прочитал вслух:
– «Вадар ма екутени», – и сказал: – Есть. В слове «екутени» есть два слога, два знака, таких же как в «езатени».
– А что значит «езатени»? – спросил Философ.
– «Езатени» значит «насытимся», – ответил логофет.
– А разве тело этого слова, состоящего из звуков, не напоминает тело первого слова? – вопрошал далее Философ. – Разве два этих слова, «езатени» и «екутени», не находятся в согласии, сродстве и подобии телесном? Разве не похожи эти два слова одно на другое, как если бы близнецами были? – спрашивал Философ.
– Подобны почти полностью, – отвечал логофет.
– А если у двух людей тела подобны, разве не будут души их также подобны? – спрашивал Философ.
– Верно, – сказал логофет. – Эти два слова похожи, как родственники, ибо тела их подобны, а раз тела их подобны, одного рода и души их.
– Значит, – продолжал Философ, – какое слово братом могло быть слову «насытимся»?
Логофет взволнованно посмотрел на Философа, облизал сухие от возбуждения губы и сказал:
– «Напьемся».
– Именно, – сказал Философ. – Посмотрим, что у нас получилось: «Мы хлебом насытимся и… напьемся». Осталось всего одно слово, в котором все знаки нам неведомы, ибо не встречались доселе. Но взгляни на это слово, логофет. И скажи мне: какие слова имеют сильное сродство со словом «пить»?
Логофет казался все бодрее и воодушевленнее от чудесной науки Философа, и было заметно, что он все сильнее углублялся в надпись.
– Слова вроде «вино», «молоко» или «вода», – сказал он и прибавил: – Эти слова любовь показывают к слову «пить».
– Прекрасно, – сказал Философ. – А какое из этих трех наибольшее сродство имеет со словом «пить», если сравнить тело слова «вадар» с телом некоего слова твоего языка?
Логофет совершенно углубился в надпись, и вдруг будто тень сошла с нахмуренного лба и озарение разлилось по всему лицу.
– «Вадар» значит «вода», – выпалил он, сам не сознавая, что сказал. – Слово незнакомое показалось мне в один миг знакомым, – добавил он в волнении, будто вдруг устав от долгого пути.
– Это потому, что всякое незнакомое содержит следы знакомого, – сказал Философ. – Господь Вседержитель, создавая мир, думал о нас и в непознанном оставлял зерна познанного, чтобы мы смогли это непознанное поименовать, – сказал он, и мед продолжал изливаться из уст его. – Разве, когда повстречаем незнакомца, не кажется нам, что он напоминает нам походкой, частью тела своего или голосом кого-то, кого мы раньше знали? И разве, кроме всего прочего, разве человек не похож на всякого другого человека? И разве всякий род не содержит части, известные по всем предыдущим, хотя и кажется полностью другим и неведомым? Разве человек не стоит в середине между ангелами и животными; разве не отличается он от ангелов страстью, коей походит на животных, и разве не походит на ангелов разумом, духом и Словом, коими отличается от животных?
– Верно, о премудрый и златоустый Философ, – сказал логофет, еще полностью не понимая, что произошло.
Затем Философ возвратил ему кольцо и сказал:
– Прочитай теперь, пречестный, что говорится в Слове на перстне твоем.
И логофет посмотрел на кольцо и сказал:
– «Хлебом мы насытимся и водой напьемся».
– Истинно так, логофет, – сказал Философ.
Логофет взволнованно посмотрел на Философа, встал и проговорил:
– Сие есть пророчество доброе для всякого, чей перст кольцом сим украшен, ибо царство его и подданные его в состоянии благом будут жить с правителем этим, и хлеба и воды в изобильстве иметь будут, пока тот, кто носит перстень сей, будет управлять ими. И теперь я знаю, что не кольцо, а только надпись неведомая в комнате восточной есть причина поражений и несчастий царства нашего!
Философ поклонился, пал на колени с руками, молитвенно сложенными, и обратился к Господу:
– Благодарю Тебя, Отец мой Небесный, что логофету мудрости и силы душевной дал прочитать надпись; отныне он ближе к Тебе, Господи, чем душа его к телу его!
А логофет затем пал на колени перед Философом и со слезами радостными начал молить его научить и другим мудростям подобным и богоугодным, всем наукам и тайным откровениям, которые в себе хранят буквы и слова разных родов человеческих, мертвых или иных. Посадил его навсегда справа от себя, на место отца Стефана Буквоносца, и я понял, что беда и грех у нас у двенадцати на шее, как камень тяжкий на шее утопленника-самоубийцы; понял, что тот, Философ, в глазах логофетовых стал похож на Сидящего одесную Отца,как Богочеловек Боголюбивый возле Отца Своего, Вседержителя. Как и следует быть: мудрый рядом с сильным, грамматик рядом с властителем да стоят во главе царства.
Но что оставило тлеть в душе моей слабую искру надежды, что все еще не прервалась связь с Ним, было то, что, пока слушал я, как Философ с логофетом переводят надпись, я заметил, что умение сие совершенно подобно моему умению создавать целое из множества частей, будь то выкладывать камушки, составляя мозаику, или плести словеса, подобно тому, как плетет сеть паук: все На своем месте, все в свое время, ибо у всего есть свое место и свое время на лице земли.
Но об этом когда время придет, о блаженные и нищие духом!
8
Слово, на воде писанное. Вот жизнь моя. От него ни памяти, ни воспоминания не останется, ибо на воде письма никто не может учинить, кроме Господа Бога Вседержителя и тех, кого Он возлюбил и чьи дела благоугодны Ему, как дела отца Константина-Кирилла Философа. Даже если достигнешь небесных высот, человеку недостижимыми кажущихся, как отец Стефан Буквоносец, то все равно жизнь твоя будет словом, на песке начертанным, словом земляным, из глины сырой сделанным. Ветер дунет, дождь пройдет – и исчезнет слово, вся жизнь твоя и все дела твои, на песке начертанные, в прах претворятся. Разве знает кто-нибудь имена горлиц упокоившихся, голубей с тихим полетом крыльев, да даже и орлов безыменных, кои восхищают нас, дерзостно в небо устремляясь? Жизнь правителей, властолюбцев, логофетов и мудрецов, их подвиги и деяния – нечто другое, как Слово на дощечке из кедрового дерева. Возгорится огонь – и нет его, как и не было никогда. Даже жизнь великих царей, на камне высеченная, ничего не значит. Отец Константин-Кирилл Философ впоследствии, когда я стал асикритом его, мне рассказывал о некоем древнем царе, восхотевшем оставить о себе знак навечно и приказавшем из камня изваять статую, подобную телу его, и на статуе буквами каменными высечь надпись с именем его. Истукан сей поставить у моря на веки вечные. И много веков после того, как от тела царского уже и праха не осталось, статуя с именем царским все стояла. И много веков после стояла. Но ветер и волны ударяли в нее дольше, чем длится время, веками меряемое, и годами, и днями, и часами. Ибо только миг, а не великое время несет перемены, хоть и неощутимые для наших чувств слабых. И вот теперь никто уже не помнит ничего о роде того царя, камень истерся, и памятник превратился в наказание Божье: малый карлик без глаз, с короткими руками и ногами. Вот что осталось от великого и славного царя. И наказание – безымянное. Да и лучше, что безымянное, ибо Бог милосерд и к властолюбцам и стирает имена их, когда идолы их в наказания превращает. Самих себя карающих Бог не карает.
Время – наш главный враг: как главное качество воды – мягкость, а камня – твердость, так и суета наша тверда как камень, а время Божье и Слово Его мягко, как вода, и все равно ударяет Слово Божье и время Божье о камень, пока не разрушит его. И так, пока не разобьет суету твердокаменную силой мягкой. Тем самым Бог учит нас: мягкое тверже твердого и слабое сильнее сильного, если есть вера в Него, Спасителя, и в Отца Его, Вседержителя.
Зачем пишу я это, я, все это знающий, но душой слишком слабый, чтобы уверовать?
Затем, что страшный грех на душе моей, и не знаю, сколько времени должно пройти (ибо и оно имеет начало, середину и конец), чтобы искупился мой грех; сколько времени воде мягкой, молитве скорбной нужно, чтобы разрушить камень греха моего, который давит мне душу, мелет ее, словно зерно пшеничное, вниз ее влечет, в пространства подземные и мрачные?!
В недобром деле я участвовал. Я могу сказать, что я толькопомогал в недобром деле, которое отец Стефан измыслил и учинил. Но грех мой этого греха больше: знающий Святое Евангелие, но не поступающий по нему, согрешил сильнее, чем не знающий и поэтому не поступающий по нему. А я участвовал. В сожжении на костре Слова. Слова – Сына Божьего!
У отца Стефана после унижений, которые нанес ему Философ (по правде сказать, их ему нанесли его лживая душа, алчность к почестям и первостарейшинству, грозное властолюбие, которому безразлично, по праву или не по праву его славят!), в голове оставалась только одна мысль: раздавить, уничтожить, сжечь, превратить в прах и пепел говорящую дощечку, древо, глаголящее истину, которое предъявил Философ как печать Божью, как главное доказательство того, что видение отца Стефана, в котором явились ему новые буквы, было ложным, измышлением его грешной и к обману склонной души – души, ведомой грехом, славолюбием и властолюбием.
И все произошло той ночью, когда луна была полной, как и душа Буквоносца, теперь уже Лествичника, была полна злобы и суеты. Как только я принес паука в ковчежце с крышкой в отверстиях, как небо в звездах, я посетил отца Стефана в его келье. Он был болен, немощен, бледен, как моль, пожравшая ясли свои, ткань, в которой родился (паук никогда, как бы ни был голоден, не ест от сетей своих, от дела утробы своей); в ту ночь, когда показал я ему паука грозного в ковчежце, силу неведомую, силу дьявольскую, он поднялся на ноги и пошел со мной к своему греху, из-за которого я записан теперь в книге должников Божьих. Ибо я купил паука (пусть и расплатившись чужими золотыми), я принес его с базара Дамаска, ввез и внес в Византию, в царство, о котором царь говорил, что это рай на земле, а все мы знали, что рай только на небесах; и вот, он пошел со мной, бледный, безутешный, со смертной синевой под глазами и под ногтями; пошел и спустился Лествичник, который должен был по лествицам небесным подниматься. Пошел и шел со мной, пока не достигли мы места, где оканчиваются пути грешных, в могильном подземелье, перед комнатой западной, зловещей. А когда мы подошли туда, с трясущимися от страха коленями, с дрожащими руками, то перед замочной скважиной комнаты со списком злотворной надписи он сказал: «Открой ковчежец и пусти тварь ядовитую в комнату ядовитую». И я только тогда понял, увидел, узнал: паук будет сторожем. Ибо сказал Лествичник: «Пусть войдет сюда это отродье дьявольское, пусть прочитает то, что свело в могилу отца моего». И я поднес ковчежец к замочной скважине, широкой, черной, зияющей, и впустил туда тварь грозную, и паук, будто договорились с ним, пополз прямо на свет, вырывавшийся из замочной скважины, втиснулся в нее и влез. Вовнутрь, в тайну.
Никогда, о блаженные и нищие духом, не слышал я такого страшного хохота. Кто смеялся – тварь ли волосатая, грозная, влезшая в комнату через замочную скважину, или смеялся Буквоносец, до Лествичника падший в милости царской, я и до сего дня не знаю. Но знаю, что Буквоносец был впервые в жизни счастлив и что меня не бил. Его исхудавшее лицо озарилось странным светом, и он даже поцеловал меня в щеку. И я понял: его поцелуй – это тот же кулак, меня до того бивший; ибо в страсти властвовать над другими побои легко переходят в любовь, как будто цель одна у избивающего и у избиваемого; знал, что между ним и мной существует некоторая неразгаданная связь – связь потаенной близости. Ибо избивающий любит, только когда избиваемый к той же цели стремится.
Так и было.
В ту ночь, после того как пустили мы тварь грозную сквозь замочную скважину в комнату тайн, я, по повелению и желанию отца Стефана, украл говорящую дощечку из кельи пречестного Философа, бывшего в то время на святой молитве. Все двенадцать, имена их перечислю, дабы не потерялись, дабы время не забыло их в себе, сохранило их в утробе своей: Стефан Буквоносец, Пелазгий Асикрит, Марк Постник, Маргарит Духовник, Филарет Херсонесец, Юлиан Грамматик, Матфей Богослов, Феофилакт Златоуст, Августин Блаженный, Кирилл Богомолец, Григорий Богумил и я, Илларион Сказитель, или Мозаичник, – мы все пошли тайно, как тати ночные, в лес, и мы, бедные, были убеждены, что избегнем очей Того, Кто все видит и все слышит. И зажгли мы огонь невиданный, костер огромный, до неба, и когда увидел отец Стефан Лествичник, что огонь хорош, то сказал: «Огонь хорош, и время пришло бросить в него нечестивого». И так и было.
О небеса, о святые, о ангелы и архангелы, серафимы и херувимы, какое чудо пред нами сотворилось! Вместо того чтобы огонь поглотил дерево, дерево поглотило огонь и осталось посреди костра, будто водой, а не огнем его одарили. И вмиг в лесу настала черная темнота, и только буквы Слова неведомого на дощечке засияли светом во сто раз, во много раз ярче огня нашего. Сияли, как звезды на дощечке, и все это видели, и доказательство чуда – это то, что все видели одно и то же, все двенадцать душ. И когда свет разлился как от звезд сияющих, с неба сошел глас сильный и рек: «О бедные! Демон, дух зла вошел в вас, но разве огнем уничтожить вам Сына Божьего? Разве вы веры своей не помните? До начала времен Слово было в Боге; в начале времен Слово создало мир, посреди времен Слово воплотилось ради спасения вашего, а в конце времен воплощенное Слово, Богочеловек Иисус Христос, судить вас будет по делам и поступкам вашим и сущим будет, как до Сотворения мира – вечность. Потому сжечь Слово – значит сжечь на костре Господа, Отца своего; сжечь Слово – значит сжечь время, век Его; сжечь Слово – значит сжечь себя самого, ибо плод ты Отца и времени, ибо никто не жив вне Его, как никто не жив вне времени, ибо тогда он ничто».
И потом голос пропал, а мы, трясясь от сильного страха, павши наземь, видели, как опять вспыхнул огонь, как поглотил дощечку, как она затрещала; но в то же время слышали и голоса многочисленные, вопли и завывания, как будто людей живых, человеков малых жгли на костре. Это каждая буква чудесного сочинения, Философом принесенного, плакала, стенала и кричала, будто живой человек; и сильный запах горелого мяса начал разноситься в лесном воздухе и запах костей обгоревших; чад и смрад невыносимый, хула ужасная, запах мяса человеческого горелого поднимался до небес; и вдруг все мы двенадцать увидели зрелище ужасающее и страшное: твердые буквы собрались в одном месте в огне и стали скелетом человеческим, а мягкие буквы в плоть обратились, и в огне показался горящий человек; тело его горело, волосы его горели, кости и плоть его горели, и он стонал и плакал и пытался выбраться из огненной стихии. И в следующий миг это пламенем объятое чудище понеслось к нам, понеслось чудище несчастное, корчась от боли, прямо к Стефану Буквоносцу, которого теперь зовут Лествичником, и прокричало: «Сын, сын мой, зачем огню меня предал?!» – а мы все в огнем объятом теле узнали отца Миду, покойного с той ночи, когда он превратился в буквы и письмена, мир и покой его душе, когда тело его после сотворения списка превратилось в слова: кости – в твердые буквы, а плоть – в мягкие и звучные. Огненное тело промчалось около нас, прошло сквозь тело отца Стефана, как сквозь пустоту, и отлетело к небесам, над лесом, над горою.
Так было, ибо по-иному не было, о смиренные и бедные.
А отец Стефан слег, и охватила его лихорадка сильная, и разболелся он, так что было у меня время понять: Лествичник той ночью в злобе своей отца своего сжег, ибо Отец всегда в разных обличьях является, но отец твой один, как один и брат твой, и их надо беречь, как икону пречистую.








