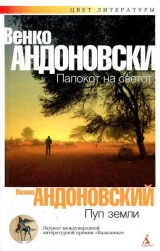
Текст книги "Пуп земли"
Автор книги: Венко Андоновский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Когда море отверзлось, кто это сделал – человек или Бог?
Пелазгий сказал:
– Бог.
– А когда некто не верит, что море отверзлось, но верит, что только Бог может отверзнуть море, то что это значит – что он не верит в Бога или не верит в человека?
– Не верит в Бога, – сказал Пелазгий и вспотел.
– А чтобы некто мог не верить в Бога и мог сказать, что Бога нет, разве не следует ему самому быть всеведущим и самому быть всемогущим, то есть самому быть Богом? Чтобы сказать: «На свете нет Бога», разве не следует сначала познать весь свет, постичь всю Вселенную со всеми ее солнцами и звездами, историю всех времен, пройти все пространство и все время?
– Да, – нехотя и недовольно сказал Пелазгий и скривил рот, будто съел пригоршню кислых ягод.
– И как же так, пречестный асикрит: Пелазгий – Бог, а в Бога не верит? Разве Пелазгий не верит сам в себя?
Только я понимал, что происходит с Пелазгием. Душа Пелазгия была воистину слаба и не верила в саму себя, а еще менее в Бога. Потому была и горделива, и раздражительна, ибо гордыня проистекает из слабости, из недостатка веры в себя. И потому не может уподобиться Христу, хоть что читай днями и ночами. И поэтому в моих сказаниях я представлял его совой, которая в темноте видит совершенно ясно, а при солнце, при свете Божьем, становится слепой птицей. Так и Пелазгий: он был необыкновенно остроумен и смышлен в беседах в семинарии о подробностях событий в Евангелии и деяниях подвижников, но не видел ничего, когда возгорался свет истинный, облако света, дождь света, какой сиял сейчас вокруг слабой, почти бестелесной плотской оболочки Философа. Был у отца Пелазгия один недостаток: когда одолевали его в спорах с притчами, начинал он заикаться, а на глазах его проступали слезы. Но это были не слезы слабости, а слезы гнева, что, может быть, и одно и то же, ибо слабый гневлив и злопамятен; он помнит все, пока не отомстит. Ибо сказано же: легче победить царства, чем гнев свой. И многие герои, победив царства, становились слугами своего гнева. Так и Пелазгий: начал креститься (а в самом буря бушует), промямлил, что все не так, что Бог ему свет. Но Философ точное слово сказал о Пелазгии, и я, хоть в этот миг и ненавидел его, а ненавидел, ибо смотрел он в нас и в сердца наши и утробы, будто мы из стекла, – я знал, что Пелазгий не верил в себя и что потому не мог и в Бога верить. Знал, что как невозможно видеть солнце, если солнца нет, так невозможно Бога познать, если Бога в тебе нет, если веры в себя нет. Ибо Бог в нас; кто в себя не верит, не верит и в Бога, который в нем.
Логофет между тем заплескал в ладоши в знак одобрения Философа. Смотрел на него как на откровение. Очевидно, весело ему было слушать Философа, но нас, чьими мудростями он был пресыщен, он не высмеивал.
В ту минуту отец Стефан совершил самую большую ошибку, ибо вмешался и встал на защиту отца Пелазгия.
– Сколько книг прочел ты, Философ, что говоришь столь мудро? – спросил он с лицемерной благостью, но мы знали, что душу его снедает суетный огонь. Возжелал отец Стефан доказать свою мудрость, а ведь сказано: «Доказывай мудрость свою, будто доказываешь, что солнце светит!»
– Не знаю, – ответствовал Философ.
– Наверняка знаешь, хотя бы приблизительно, – сказал ему тот, подводя его к ловушке, как охотник, что загоняет оленя к капкану.
– Может быть, сто, – сказал Философ.
– В нашей библиотеке их пять тысяч, – торжествующе сказал отец Стефан. – А асикрит Пелазгий прочитал четыре тысячи. – И жилка победоносно заиграла у него на шее.
Философ улыбнулся и спросил искренне:
– Разве нужно выпить все море, чтобы понять, что вода в нем соленая?
Логофет громко рассмеялся, и смех этот поразил отца Стефана прямо в сердце, жилка на шее у него билась так, что я в какое-то мгновение испугался, что она может лопнуть и кровь начнет брызгать во все стороны.
Логофет по-прежнему смеялся, все чувствовали себя не в своей тарелке, и Философ это понял и продолжил:
– Отец Стефан, если каждый день читать с утра до ночи в течение шестидесяти лет, сколько шагов книг можно прочитать? Не больше одного или двух шагов. А в вашей библиотеке будет наверняка больше тысячи шагов, если обойти все стены. Но это не означает незнания, ибо знание не измеряется в шагах; а если бы было так, то тот, кто целыми днями шагает и у кого нет другого дела, кроме как вводить нас в искушение, тот был бы умнее всех, асикрит из асикритов!
Стефан неистовствовал, претворялся в ящера богомерзкого, в моль, поедающую собственные ясли; Пелазгий уже совсем побледнел, и только я видел, что Буквоносец под ризой сжимает пальцы десницы в кулак. А Философ все так же продолжал говорить, спокойно, кротко, размеренно, но строго и праведно, словами, бьющими больно и метко. Ведь сказано же: «Враг твой – лучший врачеватель недостатков твоих, ибо он пристальнее следит за тобой, чем друг, который по учтивости или ласкательности своей никогда откровенно не изольется!» И ты вразумляйся от него, ибо то, что глаголет, не есть яд; да и разве ядов малые меры, капли чуточные, как и мое поучение в сказаниях, не суть ли лекарства от боли? Неприятель твой, о отец Пелазгий, есть врачеватель души твоей, но тогда ты этого не увидел, не понял. А Философ продолжал:
– Кроме того, сердце так же ведет к Богу, как и книги. Как никому не вдохнуть в себя всего воздуха, так никакому уму не впитать в себя всего знания. И конечно, если человек читает до последнего вздоха своего, он, несомненно, будет знать много, но не будет у него времени другому передать науку эту в последний свой, предсмертный миг, ибо миг короче часа, час – года, а год – жизни; и вот, если ждать смертного часа, чтобы передать знаемое, оно вместе с мудрецом перейдет в мир иной, и никто не узнает, что тот знал.
В лице отца Стефана не было ни кровинки; вся кровь собралась у него в той жилке на шее. А отец Пелазгий все облизывал сухие губы и в крайнем напряжении, стараясь не заикаться, проговорил:
– А сколько раз в день ты читаешь эту свою книгу моря, земли и неба, Философ? И почему ты читаешь ее сегодня, раз вчера ты ее уже прочитал?
А тот мягко улыбнулся и спросил:
– А почему ты, отец Пелазгий, сегодня есть захотел? Ты ведь вчера отужинал?
Логофет уже с восторгом смотрел на Философа. Указал на стулец подле себя и сказал:
– Садись. Сядь здесь, Философ!
Никто из нас не помнил, когда последний раз логофет позволил кому-нибудь сесть в его присутствии, тем паче сесть рядом с ним. Такой чести до этого удостоился только отец Стефан, когда придумал новые буквы, ибо логофет прежние никак не мог выучить и жаловался, что они слишком сложные. Мы все знали, что душа логофетова ленива, и что тяжело входит учение в душу его, и что власть Бога не просит, и что лучше выдумать новые буквы, попроще, чтобы и тот мог сочинять Слова и писать заповеди своей рукой, своим почерком. Много труда положил отец Стефан, чтобы научить логофета старым, прежним буквам, но ничего у него не выходило. В конце концов получил он указание придумать новые. А когда тот выполнил задание и принес буквы, изукрашенные на бумаге, пригожие, как девы, хранящие свою невинность, логофет превозвысил его и удостоил его чести сесть рядом с ним. Он выучил новые буквы в три дня и был весьма доволен, ибо они были просты и специально сложены для властителя. В новом письме каждая буква была картинкой, которую было легко написать, легко запомнить и легко вычленить ее значение, ибо картинка самым понятным образом передает ее душу, то есть значение: одинакие суть по значению сами с собою, с тем, что нарисовано на картинке. И Буквоносец измыслил точно тридцать и две буквы, тридцать и две картинки для тридцати и двух слов, без которых не может обойтись ни один правитель и которые необходимы ему в науке управительства над другими людьми, а меж ними важнее всех: «я», «власть», «ухо» (что означает «наушник», ухо государево, человек, слушающий, что говорят о власти, и услышанное передающий потом царю) и другие, а все письмо выглядело так:

Когда увидел отец Стефан, что хорошо Слово, которое своей рукой и с помощью новорожденного письма составляет логофет, он предложил ему издать закон: во всем царстве все должны изучить новые буквы; писари, священники, управители и все грамотные должны заменить старые буквы на новые, чтобы они были понятны властителю. Я знал, что это будет нелегко сделать и вызовет волнения в народе, ибо теперь с новым письмом мир стал выглядеть маленьким, стеснившимся и слишком упрощенным: ничего из тех сущностей, для которых не было картинки в письме Стефана Буквоносца, более не существовало, ибо сущности наличествуют, только пока имеют названия, которыми их можно именовать. Выходило, что Буквоносец отгородил часть света, созданного Господом, и сказал: вот, с этим вы будете жить отныне и ничего другого, для чего не родил я буквы, более не существует. В том письме, например, не было знака «любовь», даже для любви телесной, с женщиной; когда я сказал о том Буквоносцу, он заскрежетал зубами, засверкал белым оком и ответствовал: «Это не твоя забота. Когда прикажет тебе логофет измыслить письмо лучше моего, тогда и будешь вставлять в него, что тебе потребно». И выгнал меня из семинарии. Но я много размышлял об этом письме и пришел к выводу странному, но спасительному: может быть, сказал я себе, народ станет тайно, без ведома логофета (который наверняка не дозволит умножать число букв в этом письме), использовать один знак для обозначения двух, а то и трех сущностей; так, знак «власть» станет и знаком «любовь», хотя мне не была ясна тайная взаимосвязь между двумя этими понятиями, если вообще существует связь между «овладеть» и «любить». Также мне было неясно, как распознать, когда этот знак (человек с поднятой рукой) значит «Я владею тобой», а когда «Я люблю тебя», и я уже представлял себе, какие могут от того произойти недоразумения. И мне было неясно, почему правитель всегда хочет выучить буквы и знать их число и не позволяет выдумывать новые имена для сущностей. И почему народ должен под одним и тем же знаком скрывать разные значения. От кого их скрывать? И зачем такие тайные письмена в письменах, тайные слова в словах, тайные буквы в буквах, какие открыл отец Кирилл Философ, как мы увидим в дальнейшем, ибо сейчас время рассказать об этом еще не приспело. Но я не хотел во все это вмешиваться, потому что мучил меня страх навлечь на себя гнев Буквоносца, ибо не дано мне было быть Буквоносцем, а всего лишь Сказителем.
Так и было: устранился я на время с пути Буквоносца и старался ничем его не прогневить; а когда Философ воссел на стулец подле логофета, я представил, что сейчас происходит в суетной, гневной душе Буквоносца, и у меня мурашки побежали по коже от того, что я увидел в ней (я говорил вам, что вижу то, чего другие не видят, но пока об этом умолчу, ибо еще не пора), и я подумал, что, может быть, время и мне сказать что-нибудь в нашу защиту. Не потому, что хотел, а потому, что нужно было, поскольку я знал, что после призовет меня Буквоносец в свою келью, как часто делал, когда не был доволен моим поведением, ибо желал он, чтобы я походил только на него, а на себя – нет. Ибо сказано: кто своих недостатков не видит, тот начинает искоренять недостатки ближнего своего. А если призовет, то спросит, почему я сказал то, что я сказал, или почему я не сказал того, чего я не сказал, и, не выслушав, станет честить меня словами отвратными и богомерзкими; а если промолчал, если не встал без рассуждений на его сторону в споре, значит, был на стороне Сатаны. Всегда так: когда с ним кто-нибудь спорил, он каждый раз требовал, чтобы я его защищал, не спрашивая, что я думаю и кто, по моему мнению, прав, он или его противник. В келье, где он мучил меня попреками, льющимися из его ядовитых клеветнических уст, моя кротость претворялась в слабость, моя благоразумность – в трусость, а моя открытость (как когда я сказал, что в его письме не хватает букв) претворялась в нескромность и дерзость. К тому же он нередко меня бивал, но об этом я никому не смел сказать, хотя часто спрашивал сам себя: как может быть, что один священник безбоязненно бьет другого? Воистину ли Бог все видит, даже черного муравья на черном мраморе? И не была ли та безбоязненность плодом некой странной, неясной, нераскрытой и неощутимой близости между нами двумя? И если это близость, то какова ее природа? Эти вопросы страшно меня мучили, но ответа на них я не находил.
– Философу следует знать, что на этот стулец, пресветлый властитель, до него садился лишь отец Стефан, – проговорил я, воображая, что тем самым удовлетворю страсть Стефана к похвалам и исполню свой долг быть всегда на его стороне, следовать путем, которым он идет, позади него, в его тени. Но я ошибся: лицо Буквоносца прояснилось лишь на миг, но ясность исчезла, когда он понял, что я сказал только одно речение, а душа его суетная алкала большего, но не получила, и тут же нахмурилось лицо его. Ибо сказано ведь: когда почитаешь гордыню, она к тебе свирепа и сурова, а как только соберешься с силами презреть ее, она укротится. Но у меня силы противостоять ему не было. Сверкнуло его белое око молнией, в меня направленной. Знал я, что ждет меня потом в келье попреков, но было поздно что-либо говорить, ибо логофет уже раскрыл уста, а у него была привычка открыть рот на миг или два и лишь потом заговорить, будто размышлял он тяжело и мучительно над тем, что хотел сказать.
Лицо логофета сияло; это мое замечание ему понравилось, и он начал рассказывать Философу, что отец Стефан сумел измыслить письмо простое, которым вскоре будет писать все царство.
– Богоугодное дело совершил отец Стефан, – сказал логофет и посмотрел на него. – Господь Бог ниспослал нам Слово через видение отца Стефана.
Отец Стефан понемногу успокаивался; жилка на шее уже не билась как молния, и его потихоньку стало охватывать блаженство, ибо речь пошла о его заслугах. Философ совершенно спокойно посмотрел на отца Стефана и сказал:
– Един Господь, и всемогущ Господь Бог Вседержитель. Слава Господу, что ниспослал вам письмо, коим вы пишете. А каково было то видение, отец Стефан?
Отец Стефан вышел на шаг вперед, посмотрел на Философа с нескрываемым довольством в очах, ибо падок был он на славу и похвалу, и промолвил:
– Ночью, после того как логофет огласил свое повеление и отошел ко сну, я направил стопы в храм и с собой взял калам, и книгу, и чернила, и до полуночи я тщился измыслить письмо новое, с буквами, угодными властителю нашему. Но писала только рука, но не сердце, ибо Бога не было во мне. В полночь подул в церкви ветер, все светильники погасли, а я в темноте увидел ангела, сошедшего с небес, с каламом в руке. «Не бойся, и пусть не трепещут колени твои; ты тот, кому возвещу я в откровении письмо новое для рода твоего, ибо Тот, Кто послал меня, сказал, что ты с Ним грядешь, ни перед Ним, ни позади Него» – так рек он. И потом в пышном сиянии, в музыке сфер он спустился и, паря над моей головой, взял меня за руку, отринул мой грубый калам из железа, вложил мне в руку калам из солнечных лучей, и се, калам сам стал писать в руке моей, и до исхода первого часа пополуночи, когда поет первый петух, письмо для господина моего было готово, и я знал, какая буква какое понятие обозначает.
Философ совершенно спокойно смотрел на отца Стефана и повторил:
– Един Господь и велик, и Слово в Нем, и Он есть Слово.
Потом попросил дать ему Слово, записанное этими буквами, и сказал, что завтра утром прочитает его вслух пред всеми нами и изъяснит, о каком событии говорит это Слово.
Логофет внимательно посмотрел на него.
– Но эти буквы знаю только я и отец Стефан, – изрек он. – Приказания ознакомиться с буквами еще не дано.
– Для Господа нет ничего невозможного, кроме того, чего Он не хочет, – возразил Философ и встал. – Чего Господь хочет, то и возможно; но Он не хочет всего, что возможно. Господь может водой жечь, а огнем тушить. А тот, кто верит в себя, и в Бога верует; и может то, что Бог может. Это отец Стефан лучше всех знает и о том искусно нам рассказал: написанное ангелом Господним с помощью калама из лучей небесных человеческое око может прочесть и понять, если верует в Бога и в луч небесный. Ибо Господь, Слово ниспосылая, для людей его сотворил и сделал так, чтобы оно людьми могло быть прочитано.
И с тем попросил дозволения уйти, взял Слово, записанное новыми буквами Буквоносца Стефана, поклонился логофету, перекрестился перед нами и вышел.
Мы в изумлении остались, а жилка на шее отца Стефана надулась так, что мы думали, что она лопнет с громоподобным треском. Логофет мановением руки отпустил нас, и мы, сокрушенные сердцем и душою, полные низкой злобы, отошли один за другим в наши кельи. И все думали одно и то же: вечером нас наверняка созовет Буквоносец на тайное совещание, чтобы учинить сговор и найти выход.
Я был безутешен более остальных, ибо в ту минуту, когда Философ выходил из палат, осознал, что больше не вижу того, чего другие не видят: облака света вокруг отца Кирилла Философа не было. Я потерял внутреннее ви́дение, не был более его достоин и окончательно встал на сторону униженных и нищих духом в борьбе с Ним, что закончилось, как закончилось: я теперь муравей на черном мраморе в самую черную ночь, а Бог не только меня видит, но и слышит звук шагов моих.
4
Теперь пришло время рассказать еще кое-что, о несчастные, которые приходят. Я уже поведал вам, что меня нарекли сперва Лествичником, а потом Сказителем и что вижу я, что другим невидимо. Меня нарекли, то есть нарек меня властитель, логофет, указом царским, с приложением печати, ибо в царстве нашем есть обычай называть человека так, как именуют его логофет и священники, между которыми первенство у Стефана Буквоносца. Указы об именах идут потом к царю для приложения печати, и царь не проверяет исправность имени, а только прилагает свой перстень к именному свидетельству в знак того, что он это свидетельство одобряет и что такой-то и такой-то отныне должен именоваться так-то и так-то. Я уже возвестил вам, что власть дает имена вещам, соотносит буквы с предметами. Но умолчал о том, что сам себя я нарек именем для меня самым подходящим: Мозаичник. И что об этом имени никто не знает, кроме Бога всеведущего. Я вам сейчас открою тайну, поведаю вам откровение о том, как впал в прегрешение против власти и сам себя нарек Мозаичником.
А было это так, ибо по-иному не было.
С тех пор как известно стало в царстве нашем о зловещей комнате (о которой глоток знания я вам уже передал, о алчущие) с иным и неведомым писанием в ней, с тех пор эту комнату и Слово начали связывать с проклятием, которое тяготеет над царством и лучшими коленами его, и болезнями, и другими несчастьями: саранчой на полях, язвами дурными на коже простого люда, землетрясениями небывалыми и наводнениями неслыханными, военными поражениями бесчисленными. В роду у царей и логофетов явились болезни неведомые и диковинные: за много поколений до нынешних царей (ибо никто не помнит то время, когда Слово появилось в комнате) родилась у царя дочь с телом настолько легким, что она парила над землей, над своей царской колыбелью и в конце концов превратилась в перышко и улетела на небеса; один царский сын родился с двумя головами, как теленок двуглавый; другой же родился со свиным рылом и хвостом свиным. И все время так: на одного, родившегося нормальным, уродятся двое или трое – наказания Божьи для родов и колен преславных. И все эти бедствия и страшные события связывались с неразгаданным Словом, старинной книгой, написанной в незапамятные времена и хранившейся в комнате проклятия, в глубине глубин храма нашего. И прорицалось: пока не уразумеем, о чем говорится в Слове, какое поучение оно нам несет, не будет мира и спокойствия и проклятие будет висеть над градом и царством нашим. До трех раз можно было отворить эту комнату, гласило предание, и, если с трех раз не постигнут будет смысл писания, солнце померкнет, земля погибнет – разверзнется и поглотит всех лазающих, ползающих, плавающих и летающих по лицу ее.
Но про комнату позже, о блаженные, ибо время еще не приспело, а поспешить впереди него и обогнать его не может никто, даже само время. Другую историю хочу вам сегодня поведать: о старшей дочери царя. И она страдала от странной и неизвестной болезни, иссушившей ее прекрасное тело и светлозрачное личико. А когда она умирала и никто из нас не мог ей помочь, спасти ее от беды, царь позвал нас всех – советников, асикритов и грамматиков – в ее покои. Она лежала на смертном одре и стонала, а царь рвал на себе волосы. Мы крестились и молились Богу, а плач слуг и служанок поднимался из черного от скорби дворца до неба. И вдруг она привстала с постели, села на ней, посмотрелась в царское зеркало, висевшее на стене напротив одра ее. Посмотрелась, улыбнулась и – умерла. Пала на постель с широко распахнутыми глазами, и отошла к Господу ангельская душа царской дочери.
И плач вознесся до небесных чертогов, до райских врат, и Господь услышал его. То ли поэтому, то ли согласно старому преданию, которое говорит, что зеркало обращается в камень, когда умирающий смотрит в него в последний раз, и навсегда сохраняет образ его, так что никто не может более смотреться в такое окаменевшее зеркало, так вот, право предание или нет, не знаю, но вдруг это зеркало само по себе выгнулось и в следующий момент треснуло. Брызнуло осколками, как душа человеческая, из стекла отлитая. Разбилось, раскололось на бесчисленные кусочки, разлетевшиеся по комнате. Наступила тишина страшная, и все мы знали, что это некий знак, который Господь посылает нам, и что связано это со смертью царской дочери. Но никто не промолвил ни слова. Царь приказал подготовить тело покойницы, позвать изографа, чтобы написал он последний портрет любимого чада, и смести стекла. Но я попросил не звать изографа, потому что даже лучший изограф хуже самого неказистого зеркала; сказал, чтобы не выбрасывали осколки, а собрали в ковчежец и дали мне. Царь спросил, для какой нужды мне все это. Я ответствовал, что вижу в осколках то, что никто другой, похоже, не видит. А я различаю в них разбитый предсмертный портрет, последнюю улыбку его дочери, ушедшей и почившей в Бозе. Буквоносец посмотрел на меня, и будто молния ударила из его глаза, помутневшего от белой пелены, но царь велел:
– Дайте ему эти стеклышки. А если он со мной в такой час шутки шутить вздумал, то слетит голова его.
– Государь, – сказал я, – сам я вижу, но не понимаю, почему никто здесь этого не видит; но вот, на этом осколке запечатлелась прядь волос дочери твоей, что чернее эбенового дерева; вот часть уст, алее граната, здесь око ее голубиное. Я только выложу осколки по порядку и целым отдам тебе последний портрет дочери твоей; этот портрет украсит могилу ее на вечные времена.
Тогда впервые понял я, что вижу больше всех других, слепцов зрячих. Царь посмотрел на меня и сказал:
– До завтрашнего дня, когда будем хоронить ее, должна быть картина твоя готова. Если нет, голову с плеч сниму, и будет она лежать в мешке перед престолом моим.
И так и было: ночь напролет составлял я из многого – единое. Большое искусство для этого потребно, о бедные, и никто из вас не сможет уразуметь, какое возбуждение исполнило душу мою, с какой радостью начал я выкладывать осколки зеркала в порядке истинном. Как успокаивает, о блаженные, когда правильное место находишь тому, что лежит неправильно, неестественно, когда приводишь в порядок нечто находящееся в беспорядке. И тогда я уяснил себе, что между искусством выкладывания мозаики и искусством преподавания сказаний нет разницы, что для обоих действуют одинаковые правила, тот же самый закон: нельзя увидеть, понять, охватить целое, пока все не встанет на свое место, пока не придет время для целого, пока из малого не сделаешь большого, а из многого – единое. И что наслаждение, как я вам уже говорил, состоит в отлагательстве, выжидании.
И вот составлял я из многого единое и из малого большое весь вечер и всю ночь и только к утру собрал разбитое изображение царской дочери. Я клеил кусочки стекла один к другому, начав с краев картины и двигаясь к середине, потому что так мне казалось легче; я начал с волос, с локонов, и шел оттуда к середине, к глазам и носу, и в конце концов положил последний осколок, на котором были губы, в самый центр картины, в средоточие, середину из середин. И в тот миг понял, почему много лет меня преследовал образ паука и его паутины, почему бесчисленные часы провел я в размышлениях о смысле действий этого существа: сеть и создатель сети в ее середине. Мне всегда эта картина казалась подобной картине солнца и его лучей; как солнце рождает тепло, необходимое для растений и животных, из самого себя, так и паук из самого себя, из тела своего создает свою сеть, свою вселенную. Но эта сеть, ткань совершенная, есть только картина света Божьего; ведь и Бог создал небеса, походящие на сеть, а звезды на небе суть малые узелки сети той – сети, в которые уловляют нас с нашими судьбами, их же нам не избежать. И по этим причинам мне кажется, что презренного бога-паука наказали другие боги, уменьшили и сбросили на лицо земли, чтобы над ним вечно насмехаться, как над ничтожным творцом, создателем малых, ненужных и непостоянных вселенных, сотканных из паутинок, вселенных, которые не долговечнее мига. И в этих вселенных в рабстве обретаются мелкие маленькие твари, мушки, которыми питается паук-солнце. Так же и человек, крупинка, пылинка, мушка ненужная, уловлен в сети этой вселенной. Да и преподавать сказания, события и истории – разве это не то же самое, что ткать сеть совершенную, в коей всякая нить, всякая паутинка должна найти свое место, когда придет время, когда завяжутся узлы, и разве и они, сказания, не суть ненужные и непостоянные вселенные?
Пришло время, о блаженные, открыть вам и еще одну маловажную вещь: с рождения у меня есть знак на спине, метка от Господа, – маленький черный крест. И когда я составил мозаику, когда все стало единым и когда появился портрет царевой дочери под коленями моими (ибо на коленях ползал, из невидимого видимое собирая), я понял, что я паук в середине своего оконченного произведения, что поймало меня целое, свершенное, что я сам – центр творения рук моих, что я сам себя заключил, заточил в сем чудном здании, храме паутинном. Я – паук с крестом на спине, и я создал целую маленькую вселенную; контуры, по которым я составлял и клеил кусочки, действительно походили на сеть, на солнечные лучи, расходящиеся во все стороны от середины.
Наутро царь послал за мной палача и судью (и отец Стефан с ними был), ибо не веровал царь в чудеса, ибо слишком слаба была душа его властолюбивая, чтобы понять чудо и поверить, что и незримое существует, только его не видно, ибо не обязательно сущее должно быть видимым. Это ясно понимает каждый, кто прибегает к письму, буквами и словами пользуется, сочинения сочиняет. Потому что ты можешь видеть в мыслях своих слово «дверь», или слово «замо́к», или слово «окно». Но можешь ли увидеть слово «любовь»? Нет, не можешь. Но любовь все-таки существует, хотя и незримо, и принадлежит она тому свету, невидимому. Умно сказал Философ: «Все, что мы видим, свидетельствует о невидимом; о Том, Кто сотворил все видимое, а Сам невидим, Кто скрылся от очей наших, чтобы нас видеть, нас слышать, нас стеречь; а нам оставил искать и созерцать Его». Как паук, творец сети своей, видимой. Вы замечали ли, о блаженные и нищие духом, что паук – самая плохо видимая часть его сети, что и он, как и Создатель, невидим, а видим мир, им созданный? Ибо паук чаще всего сидит в точке, серединой называемой и менее всего видимой, ибо середина сокрыта внутри, почему и называется серединой; сидит там создатель, мирный, смирный, кроткий, как Бог, для которого время ничего не значит, и смотрит, и стережет, и слушает каждое трепетание струн своей вселенной, нитей сети своей, слушает их музыку вселенскую!
Вот опять я разговорился, а время настало рассказать о палаче и судье; они пришли, хлопнули дверью кельи и в ту же минуту застыли, будто молнией пораженные: перед их ногами, перед моей кроватью лежало склеенное зеркало с окаменевшим последним портретом на нем, с ликом прекрасной дочери царя, уже упокоившейся.
Забрали у меня картину, зато не забрали голову, и отнесли ее царю. А Буквоносец позеленел от злобы и желчи, появилась на устах его горькая пена, ибо царь много хвалебных и восторженных слов обо мне сказал, и портрет установил на двери в усыпальницу своей дочери, и приказал Буквоносцу и меня принять в высший совет царский, где умнейшие заседали во главе с Буквоносцем. А тот позвал меня вечером в келью попреков и сразу принялся избивать меня, без слов, без вопросов; он требовал открыть ему тайную науку видеть невидимое, ибо думал, что это наука, которой можно научиться, а я ее скрываю; и опять бил меня, а я говорил ему, что это благодать, дар Божий, который Бог дает смертным, а у горделивых отбирает, что дару нельзя обучиться, как учатся письму и каллиграфии, что и сочинению сказаний нельзя обучиться и что дар этот или есть, или его нет, как и человек – или родится, или не родится, но никогда не бывает, что человек родится наполовину: с одним телом или с одной душой. Но он все равно бил меня смертным боем, так что у меня кровь хлынула носом, но он все бил и повторял: «Говори, сатана, к какой волшбе растленной и нечестивой ты прибегаешь, чтобы видеть», а я уже ничего не говорил и только думал: «О Боже, молюсь о душе отца Стефана Буквоносца, ибо злобен и завистлив он к видящим, а злоба и есть нехватка зрения, и злому не прозреть, пока завидует он зрячему, как и слепому не прозреть, если он придет к грамматику, ибо зрение не есть наука, и тогда он прозреет, когда придет к исцелителю Богочеловеку, ведь зрение – это исцеление, чудо, диво дивное. А благодать есть талант, дар Божий, которым Он награждает Своего слугу верного и прилежного, а у неверного и нерадивого отнимает и его отвергает! Ибо сказано и о суровости: кто к себе строг, тот к другим мягок, а тот, кто, как Буквоносец, к себе мягок и потачлив, тот к ближнему своему суров». И се, молился я о душе Буквоносца, а тот бил меня, пока Бога во мне не убил, а потом сказал: «Руки тебе отрежу, если еще раз увижу, что из многого собираешь единое целое».
И с того дня я воистину ни одной мозаики не сделал, ни разу не ткал нитей своей собственной вселенной. Ни узла не связал до самой той ночи, когда согрешил.








