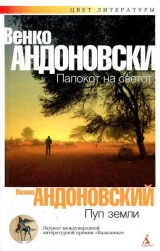
Текст книги "Пуп земли"
Автор книги: Венко Андоновский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Она продолжала рассказывать: когда он сообщил ей все это, она заплакала. Физкультурник испугался, как бы ей не стало плохо, как после мероприятия, и остановился, чтобы она успокоилась. Они встали в тени, под ореховым деревом. Он и дальше продолжал давить на нее, чтобы она заявила на меня и в школе за то, что я отказался повторить номер; тогда физкультурник со спокойным сердцем мог бы подписать приказ о моем отчислении из школы. Она просила, чтобы он не требовал от нее такого. Тогда он сказал, что потребует кое-чего другого; попробовал ее обнять, но тут какой-то дурак бросил в джип камень, что-то разбилось, и они уехали.
Я сказал, что этим дураком был я.
– Ты нас видел? – спросила она обеспокоенно.
Люция побледнела; меня поразило, что она попросила у меня сигарету; я дал ей; она закурила. Глаза у нее сейчас были красивы как никогда; волосы рассыпались по спине до талии; она сидела на набережной рядом со мной, можно было протянуть руку и дотронуться до нее.
– А маска? – спросил я. – Почему физкультурник был в маске в джипе?
Она поглядела на меня со страхом:
– В какой еще маске?
– Сегодня, когда я бросил в джип камнем, он повернулся к кустам, в которых я скрывался, и я увидел, что он в той же маске, в какой был, когда вы представляли обрядовое действо. А за минуту до этого, когда вы разговаривали, маски на нем не было. Значит, он надел ее перед тем, как тебя обнять.
Она совсем перепугалась.
– Ты рехнулся. Или напился. Не было никакой маски, – сказала она.
По ее голосу я почувствовал, что она не врет; но тогда возникали серьезные вопросы, связанные с моим душевным здоровьем: я видел то, чего другие не видели, и слышал то, чего другие не слышали.
– Люция, ты веришь в реинкарнацию? – спросил я.
Она посмотрела на меня долгим взглядом и сказала:
– Наверное, да.
– Наверное или веришь? – не унимался я.
– Не знаю, – ответила она.
И в этот момент я заметил красивую брошку, приколотую к ее блузке, от которой у меня похолодело все внутри: черный огромный паук.
– Откуда у тебя такая брошка? – спросил я.
– От прабабушки, – ответила она. – Тебе нравится?
– Нет. Ты же знаешь, у меня фобия к паукам.
– А почему ты меня спросил про реинкарнацию? – спросила Люция.
– Потому что я вижу вещи, которые не должен видеть. То, что другие не видят.
Потом я спросил Люцию, что она теперь будет делать, после выговора. Она сказала, что подумает. Я спросил, любит ли она меня. Она сказала, что ей кажется, что да, любит. Но сразу же добавила, что эта любовь будет означать выход из Партии. Я спросил, кажется ли это ей слишком высокой ценой. Она ответила, что не кажется. И сказала еще, что хочет как следует поразмыслить над тем, что произошло. И встала.
– Ты куда собралась, Люция? – спросил я.
– Домой.
– Мы еще не закончили, Люция, – сказал я.
– Что еще ты хочешь услышать?
– Я хочу знать, спала ли ты с физкультурником и сколько раз.
Люция рассмеялась. Она смеялась до истерики; оперлась на мое плечо, смеялась до потери сознания, сказала, что никогда не слышала ничего смешнее. Я вскипел; ее смех довел меня почти до нервного срыва; к тому же во мне, вероятно, кипела водка, выпитая в жару, и вино, выпитое только что; меня обидело то, как она сказала, что никогда не слышала ничего смешнее, и я вспомнил номер про наивного мужа, Петрунеллу и ее любовника; я спросил, что тут смешного, а она, обессилев, оперлась о парапет набережной и сказала:
– Спроси в Партии, может, они ведут учет.
– Люция, я ведь могу тебя убить. Не играй с огнем, – сказал я.
– Узнаешь, когда подрастешь, – сказала она и опять расхохоталась.
Я встал. Наверное, я был страшен, с бутылкой вина в руке, потому что у Люции смех вдруг застрял в горле; она попыталась убежать.
– Говорю тебе, я с ним не спала! – закричала она в панике.
Я схватил ее за волосы и потащил назад; она охнула и упала, я отшвырнул бутылку, она разлетелась вдребезги, а я в тот же миг навалился на Люцию. Страстно целовал ее в шею, кусал ее; она умоляла меня перестать, не обижать ее; я схватил ее блузку и рванул; пуговицы полетели в темноту, и еще две или три секунды слышался стук, когда они прыгали по набережной, как просыпавшийся рис; в смутном ночном свете сверкнули ее небольшие груди, как у собаки; я впился в ее тело и скоро нашел губами ее пупок; она осыпала меня ударами, кричала, что после этого между нами все кончено, что я все испортил, что я свинья, что она на меня заявит, что непременно на меня заявит, что убьет меня, что меня убьет Партия, когда она сообщит им обо всем; но мне уже было все абсолютно все равно, я только целовал ее пупок, эту райскую чашу с небесным нектаром, этот центр вселенной, и начал уже тонуть в нем, пропадать в неведомых глубинах.
– Что ты делаешь? – спросила она, видимо удивленная этой игрой, этой неожиданной и непонятной для нее нежностью после того, как я искусал ей все тело.
– Ищу пуп земли, – ответил я и продолжил игру с ее пупком.
Она затихла, перестала бить меня, ее руки протянулись к моему лицу, она привлекла меня к себе, к своему лицу, к губам, и в следующее мгновение по тому, как она приняла меняи открылась мне, японял (ее движения были для меня совершенно незнакомыми, потому что я еще ни разу не спал с женщиной), что это была уже не та Люция, которая спрыгнула с турника ко мне в объятия. Я понял, что на самом деле физкультурник был в маске в джипе и что Люция обманывает меня; в этот миг крайним усилием я сдержался, чтобы не размозжить ей голову разбитой бутылкой, лежавшей рядом, стоило только руку протянуть; я прекратил игру, в которой она действовала совершенно автоматически,как машина; мы извивались друг у друга в объятиях; в какой-то момент я стащил с нее юбку, а потом и трусики и смотрел на нее, голую, лежащую подо мной, совершенно побежденную; нужно было только лечь на нее. Но во мне вскипал гнев и какое-то странное чувство, что меня используют: меня охватило чувство, что все случилось слишком быстро и легко, что она все то же самое делала в маске Люции-недотроги, и я решил отомстить самым глупым из всех возможных способов – способом, которым может решить отомстить только молодой человек, не спавший с женщиной; в момент, когда я должен был быть в Люции,я лишил ее этого удовольствия; она жмурилась и ждала, но ничего не происходило. В конце концов она открыла глаза и посмотрела на меня. Я стоял над ней, застегивая брюки.
– Ты что делаешь? – спросила она.
– Вот, значит, как у вас проходят партийные собрания, – сказал я, повернулся и пошел прочь.
Я поднимался по ступенькам с набережной, оставив ее там, голую и униженную. Я шел не оборачиваясь; слышал, как она встала, как натянула на себя юбку, потом блузку без пуговиц. Потом она закричала:
– Ты просто свинья, Ян Людвик!
Я уже шел по дорожке к улице.
– Ты еще не спал с женщиной, Ян Людвик!
Последняя фраза была как яд; она была моим поражением в ту ночь; эти простые, правдивые слова уничтожили мою победу, которой я добился, сексуально унизив Люцию. Потому что это была правда: я еще не спал с женщиной, и Люция поняла это; использовала это, чтобы насмеяться надо мной, ответить унижением на унижение. Я сломя голову бросился на вокзал. Скоро подошел поезд, остановился, и я сел в последний вагон. В дверях стоял проводник. Он спросил меня, знаю ли я, как закончилась сегодняшняя игра. Я сказал, что не знаю, что сегодня целый день не смотрел телевизор и не слушал радио. Кондуктор сказал мне:
– Молодой человек, у вас что-то приценилось на футболке.
Я посмотрел, куда он показывал, и оторопел: на мне была брошка Люции, черный паук с золотыми лапками; он зацепился одной ногой и висел на мне. Очевидно, когда я боролся с Люцией, он откололся и решил поменять владельца.
Я положил его в карман, а по спине у меня пробежал холодок.
* * *
То, что на самом деле мне показалось таким отвратительным в поведении Люции в ту ночь, было всего лишь одно небольшое движение ног , техническибезукоризненно исполненное перемещение бедер, которым она меня привлекала к себе , завлекаламеня, так что я очутился именно в том месте, где должен находиться мужчина, когда он собирается переспать с женщиной; это был элемент доведенной до совершенства техники любви, настоящей услады для опытного мужчины, которому повезет встретить такую искусную женщину. А на молодого и неопытного человека эти техничные любовные движения действуют устрашающе и подавляют его чувства; так вот и случилось, что именно то, чего все хотят от женщины, меня от нее оттолкнуло. Понятно, что это был страх; это был врожденный страх перед грамматикойлюбви, результат незрелости и неопытности; потому что я ожидал совсем другого. По ночам, когда я страстно мечтал о теле Люции, я не предвидел такого движения; в этом движении было нечто холодное, рутинное, привычное; тот, кто видел, как паук плетет свою паутину, знает, что он делает это с холодной геометрической точностью, в соответствии с совершенно для него ясным осознанием своих анатомических возможностей. Это было движение с целью,абсолютно прагматическийжест; именно то, что пугает молодых людей при встрече с опытными женщинами; в моем случае этот страх усилился и тем хорошо известным и наивным юношеским гневом, причиной которого является мучительное, почти спортивное страдание от мысли, что ты не первый; это похоже на убеждение молодых художников в собственной оригинальности и своеобразии, в том, что они единственные и что они напишут нечто совершенно неожиданное и неизвестное, заблуждение, освобождение от которого приходит потом трудно и мучительно. Мне было ясно, что Люция не меня выбрала тем, кто первым мог видеть зарождение этого движения; я понимал, что это движение Люции – не мое, а я хотел, чтобы это движение было только нашим, и не хотел участвовать в этом, как нормально для любовника какой-нибудь женщины не желать носить пижаму ее предыдущего любовника; меня выводила из себя мысль, что она только тогдадопустила меня к себе, когда приобрела некоторое преимущество в опыте по сравнению со мной, когда научилась этому движению и теперь мне его демонстрировала,как демонстрируют новую машину тому, у кого нет никакой.
Позже, в цирке, когда я уже созрел как мужчина, я убедился, что анатомические возможности в технике любви все же ограничены (хотя и весьма богаты) и что они сводятся к тем, в сущности, нескольким понятным сигналам и движениям, обычным у всех, и что я совершенно зря рассердился на Люцию в ту ночь на набережной. Сюда, понятно, не входят исключения (в цирке была одна женщина, которая могла, лежа на животе, свернуться так, что ее ноги оказывались у лица; она часто смешила нас, когда курила в такой позе); но в цирке вообще было другое отношение к технике: больше всего технике уделяли внимание при работе над номерами, а во время спектакля о технике надо было забыть; над техникой работали постоянно, в каждую свободную минуту, но, когда начиналось представление, про нее забывали и ее не было видно; а если было, то за это платили жизнью. Если встать на трапецию и начать думать о технике полета к трапеции, уже отпущенной с противоположной стороны, то тебе конец; если ты хочешь остаться в живых, то необходимым условием этого было забыть про технику, а она в те моменты, когда про нее забывали, функционировала без сучка и задоринки.
Я помню, как, до того как начать играть на саксофоне, приходил в восторг от игры некоторых знаменитых мастеров – Чарли Паркера и Вэйна Шортера, например. Я считал их богами; насвистывал их соло, восторгаясь вдохновением, которое их создало; но когда я сам научился играть на саксофоне, когда я полностью овладел техникой игры (дыханием и работой пальцев), магическая аура вокруг их исполнения совершенно исчезла: я понял, что это совершенствопо большей части было результатом высокого мастерства и что где-то там, в беглости пальцев, отработанной технике дыхания (невозможно вдохнуть дважды и не выдохнуть), и находилось то, что позволяло исполнять эти пассажи и мелодические линии. Никогда я не мог наслаждаться игрой на саксофоне так, как до того, как научился играть; так и с любовью: как только я овладел техникой любви, исчезло мифическое представление о слиянии мужчины и женщины как чего-то, что происходит неопределенными свободнымобразом.
А я тогда не хотел овладеть этой техникой, чтобы как можно дольше жить с неясными мифическими представлениями о телесном слиянии с Люцией. Я защищал свою собственную мифологию, согласно которой можно было читать, не выучив буквы. В одном месте в своей тетрадке, после выпивки, не знаю, по какой причине, я записал: « Трудно тому, кто умеет читать только потому, что предварительно выучил все буквы и знаки языка, на котором он читает; легко тому, кто умеет читать и не зная заранее значения знаков; только тот и читает по-настоящему. Ибо у всякой буквы, даже неведомой, есть свое тепло, отличное от тепла других букв, как у всякой вещи на земле есть свое тепло и свой цвет. У воды разве нет своего тепла и разве не холоднее она огня, который горяч? А воздух разве не посередине между этими двумя? Так и я, когда провожу перстом по буквам неведомым, чувствую их теплоту и свет их вижу, ибо у каждого тепла есть свой цвет, и знаю, говорится ли в написанном о холодном или теплом, о темном или светлом, о хорошем или плохом».
Как бы то ни было, после того случая на набережной у меня не было никакого контакта с Люцией. Из этой моей несчастной авантюры я выбрался с двумя потерями: во-первых, я понял, что Люция прекрасно видит, что мое тело неопытно в любви и что я не спал с женщиной; это было для меня так унизительно, что я никуда не выходил; я впал в депрессию и начал подумывать, не взять ли проститутку, чтобы тем самым покончить с этим делом(я думал именно в таких выражениях, и они мне и теперь очень нравятся: покончить с этим делом); во-вторых, я не знал, имеет ли смысл, когда я усвою технику,вернуться к Люции.
Время шло, и гнев и ненависть оттого, что я не был у Люции первым, стали для меня невыносимым бременем, потому что все-таки они смешивались с оставшимся сладким вином любви; со мной случилось нечто, необъяснимое до сегодняшнего дня, нечто совсем невероятное: я больше не думал о теле Люции абстрактно; не думал о ее груди (конкретно), ни о ее ляжках, ни о ее бедрах (конкретно), а меньше всего – о том, что находится у нее между ног, этой замочной скважине с неведомой мне надписью; целыми ночами я мечтал только о пупке Люции. Я был убежден, что это лучшая часть ее тела, что только она осталась от моей Люции и что я был первым, кто пил небесную амброзию из этой чаши, полной звезд. Может быть, в этом было утешение, которое сжимало весь мир, сводило его к одной точке; может быть, это был психологический механизм, которым моя мужская ущемленная суетность защищалась от реальности; но, может быть, это было идеей фикс и – я скажу об этом открыто впервые – обломком какой-то моей предыдущей жизни, какой-то моей предшествующей инкарнации. Как разговор, который я слышал, и свет, который я видел в тот день, когда открылась измена Люции в джипе, я в этом убежден, не были частью моей жизни, а какой-то другой; они в тот день не принадлежали мне таким же точно образом, как мне не принадлежало тело Люции в ту ночь.
Земанеку о той ночи я не сказал ничего; сказал ему только, что видел Люцию с теткой на улице, но к ним не подошел; он сказал, что я поступил умно, потому что был все еще нетрезв и вообще не в себе. Это меня встревожило, но я не хотел обращать на это особого внимания.
* * *
Около полудня, за три дня до окончания учебного года, посреди урока математики меня вызвали в кабинет директора. Я не знал, зачем меня вызывают, но предположил, что после случая на набережной Люция рассказала, что я бросил камнем в джип, и теперь физкультурник захочет, чтобы я заплатил ему за ущерб. Я постучал в дверь, но он не ответил. Постучал еще раз – никакого отклика. Тогда я легонько надавил на дверь, и она открылась; физкультурник сидел за столом, решал то ли ребус, то ли кроссворд и, ненадолго оторвавшись от своего занятия, посмотрел на меня:
– Кто тебе разрешил войти?
– Но я стучал, господин директор.
– А я тебе входить не разрешал. Теперь выйди, а потом снова войди, но так, как входят воспитанные люди, а не скоты.
В тот момент мне просто хотелось убить такого неслыханного дурака; в тот момент мне противна была и Люция; ничего я больше не любил, один гнев кипел во мне; тогда, у дверей, я впервые подумал, что лучше всего уйти в монахи, тем самым символически отрезать себе гениталии, из-за которых я страдал, кастрировать самого себя, оставить всех этих пресмыкающихся и насекомых вокруг меня плодиться и размножаться до бесконечности; петь песнопения Богу, а не лукавой и неверной женщине или какому-то двуличному Хору; я постучал посильнее, но он опять не отвечал. Тогда я загрохотал кулаком что есть мочи, и он наконец откликнулся:
– Войди!
Я вошел и встал перед ним.
– Так-то лучше, – сказал он – Тебе надо научиться долбить, как мужчине! – сказал он двусмысленно, с издевкой.
У меня подогнулись колени: неужели, подумал я, неужели эта дура Люция все ему рассказала? Возможно ли, что она рассказала ему и про мой мужской провал на набережной?
Но он сидел в своем кресле, вертелся в нем туда-сюда, демонстрируя свою незаслуженную власть самым незамысловатым и провинциальным образом. На столе лежал нерешенный кроссворд с анаграммой и ребусом: его любимое занятие. Я взглянул направо и увидел на стене огромную фотографию его партийного лидера; я удивился, потому что еще несколько месяцев назад на этом месте висел плакат с футбольной командой, за которую болел физкультурник. Он показал мне на стул, и я сел. Он спросил меня, в какой связи я нахожусь с ученицей Люцией. Я ответил, что не нахожусь ни в какой. Спросил, были ли у меня с ней контакты более близкие, чем обычно. Я сказал, что не было.
Потом он очень медленно и театрально вытащил из ящика письменного стола мою тетрадку со стихами; на глаза у меня навернулись слезы: дело моих рук, единственный экземпляр моей души, оригинал, который я подарил моей Люции, теперь находился в волосатых лапах физкультурника.
– С твоего разрешения, – сказал он, – я это размножу. И раздам всем нашим ученикам, чтобы они поняли, что такое чистая любовь и чистое искусство, – сказал он, усмехаясь. Этот остолоп, человек, у которого не было души, одно только тело, еще и издевался надо мной. – Как это у тебя говорится в одном из стихотворений – сделаем копии,а?
Он повертел в руках мою тетрадку, открыл ее и начал читать вслух; он старался унизить меня тем, что читал медленно, стихотворение за стихотворением, а потом смеялся, спрашивал меня с ухмылкой, что я хотел сказать этим; как звезды могут шептаться, да как может шея девушки быть похожей на башню Давидову; как губы могут быть как гранат, а груди – две серны между лилиями, как глупо, когда человек говорит, что чьи-то волосы – как стадо коз, и так далее и тому подобное. Ему ничего не нравилось, и он комментировал все самым вульгарным образом; например, не променял бы я ученицу Люцию на козу, а то бы он мог мне помочь и найти мне козу в его селе, раз уж я думаю, что козы такие сексапильные. Так он измывался целый час, и я воспрянул духом, только когда ему позвонила уборщица и сказала (в трубке все было слышно, и, как он ни прижимал ее к уху, я слышал весь их разговор), что пришли покупатели, которые хотят купить какую-то ткань из тех, которыми он спекулировал. Он прогнал меня, добавив вдогонку, когда я был уже в дверях:
– Руки оборву, если еще раз поймаю тебя с такими глупостями.
Я остановился и вдруг сказал:
– Отдайте мне мою тетрадку, пожалуйста.
Он цинично посмотрел на меня и ответил:
– Чего это я ее тебе отдам? Неужто у тебя, у писателя, нет копии?
– Нет, – ответил я.
– О! Значит, я имею честь держать в руках оригинал? Кто знает, сколько когда-нибудь будет стоить этот манускрипт (так и сказал: манускрипт), лет так через десять или двадцать, когда ты получишь Нобелевку, а?
– Господин директор, я вас прошу отдать мне мою тетрадку; я ничего не вынес отсюда за все четыре года, кроме нее.
Он пристально посмотрел на меня и сказал:
– Не могу. Я верну ее владельцу, который мне ее и дал, чтобы я ее прочитал. – Положил в ящик письменного стола и запер.
Я постоял еще и потом спросил:
– А когда вы отдадите ее Люции?
Он усмехнулся и сказал:
– Завтра утром. А это что-то меняет?
– Нет, спасибо, – ответил я и вышел понурив голову.
(И до сего дня оригинала у меня нет. Все эти годы в цирке я пытался сделать копию, вспомнить все строчки тех стихотворений, но попытки эти были безуспешными; я на самом деле постоянно писал что-то новое, что-то добавлял, что-то вымарывал, потому что не мог вспомнить все, что там было написано; в конце концов я бросил это совершенно бесполезное и безумное дело – создание копий, абсолютно идентичных оригиналу.)
Я вошел одним, а вышел совсем другим Яном Людвиком. Я ненавидел весь свет: всех – и Люцию, и Земанека, и физкультурника, и Партию; теперь наконец прервалась пуповина, соединявшая меня и Люцию; я ненавидел даже тех, кто мне ничего не сделал, был нейтральным, как Земанек; я ненавидел их за то, что они были нейтральны и тем самым потакали тем, кто заставлял меня страдать, Ибо сказано: кто зло созерцает с равнодушием, тот скоро начнет созерцать его с удовольствием!
Когда я шел в класс, я скрипел зубами от злости. «Вот здорово! – думал я. – Как прекрасен, благонадежен и честен род человеческий». Я вошел в класс, все смотрели на меня с нескрываемым любопытством, а я сжимал зубы, чтобы не расплакаться. Значит, Люция дала ему тетрадку с моими стихотворениями после пережитого унижения; может быть, это значило, что раньше она ее не отдавала, пока не случилось то, что было на набережной, и отдала она ее потому, что любит меня, то есть ненавидит, а ненавидит потому, что я не дал себя любить. Но теперь о перемирии и любви не могло быть и речи; я боялся и Люции, и ее тела, я был в гневе на нее из-за ее неверности, она была в гневе на меня из-за моего показного сексуального к ней равнодушия, и в конце концов я был глубоко унижен тем, что моя тетрадка оказалась в руках Партии. Было более чем очевидно, что мы начинаем мстить друг другу. Я сел на свое место, сзади Люции, Она избегала моего взгляда, потому что знала, что меня вызывали к директору, И знала, что я знаю, что это только честь мщения. Но и я решился идти до конца, И так и вышло. Причем очень скоро.
После урока одна ее подружка подошла ко мне и спросила, не у меня ли паук, брошка Люции. Я сказал, что нет.
* * *
После обеда ко мне домой пришел Земанек и позвал меня к себе: он хотел мне кое-что показать, что, по его словам, меня точно развеселит.
Он повел меня на окраину города, и я, как только мы вышли из автобуса, увидел, что в наш город приехал на гастроли цирк. Я был совершенно счастлив, потому что еще издалека мне казалось, что под этим шатром, под этим куском неба, происходит нечто чудесное, что не имеет никакого отношения к миру вокруг. И действительно, потом под этим шатром, в этом совершенном круге, я нашел душевный покой; нашел центр мира, нашел себя в этом центре, созрел как мужчина.
Когда теперь я думаю об этом, мне и вправду кажется, что тогда цирк, кроме, может быть, еще монастыря, был единственным местом, где не действовали законы окружающего его мира; он был государством в государстве, нацией и миром в самом себе, космосом в космосе, маленьким небом в большом небе. Там не действовали не только законы общества (и плохие и хорошие), но и законы природы – закон всемирного тяготения, например. Иначе как можно было объяснить эквилибристику шестидесятилетнего алкоголика Рональдо Гонсалеса, который шел на одной ноге по проволоке с женой на спине; или номера на трапеции Инны и Светланы Колениных, потрясающие выступления группы акробатов из Латвии или тем более то, что вытворяла гуттаперчевая женщина Аманда Заморано, которая могла курить, держа сигарету пальцами ноги и при этом свившись кольцом и лежа на животе? Это была безопасная территория, что-то вроде антропологического убежища для тех, у кого были нелады со всем миром и кто из-за этого стал выполнять трюки на грани невозможного: стоять на лестнице, которая ни на что не опирается, ехать на велосипеде по веревке на высоте двадцати метров, выделывать всякие трюки втроем на трапеции, где места было только для одного, и все такое прочее. Во всем этом было что-то от подвижничества, своего рода месть миру снаружи, тем, кто их обидел, тем , снаружи,как говорили на цирковом жаргоне. То есть они считали, что другие снаружи,а они внутри; другие, в свою очередь, – а это были Люция с ее Партией, физкультурник и, немного попозже, Земанек – считали нас отбросами общества, так сказать чудаками, и думали, что это они внутри, а мы внеобщества. Люди в цирке на самом деле воспринимали мир вне их круга, вне их обороняемой территории, как опасный и странный; я читал, что такая обороняемая зонаесть у всех животных и что она может быть от нескольких миллиметров у муравья до трех метров у льва; это хорошо знали дрессировщики львов, и длина их кнута была именно равной этой зоне, запретной для посторонних.
Когда мы вошли в цирк (Земанек подкупил сторожа, чтобы нас пустили), там репетировала Инна Коленина, женщина-паук. Я посмотрел на нее: она была не старше двадцати двух – двадцати трех лет; она сверкала в ярком свете, как рыбка в воде на закате солнца; забравшись на трапецию, она выделывала головокружительные трюки, описанием которых я вас утомлять сейчас не стану; с ней, только с другой стороны, репетировала ее сестра, Светлана; они перелетали с трапеции на трапецию в полной тишине, так что слышно было только, как скрипели канаты, на которых были подвешены трапеции. Это длилось с полчаса, а может быть, и час; время ничего не значило, и я разглядывал эту женщину, ее тело, ее незнакомую душу, я видел, с какой холодной страстьюона делает свое дело, совершает настоящий подвиг, возвышаясь над собой, и думал: «Наверняка она была очень несчастна снаружи; кто знает, каким образом и как часто унижал ее какой-нибудь мужчина, чтобы она сумела сделать такое!» Я и не предполагал тогда, что я сам уже почти внутри, в цирке.
Вдруг она неожиданно соскользнула с трапеции и упала в страховочную сетку; запуталась, к ней подбежал униформист и помог ей вылезти. Она начала говорить с ним о чем-то по-украински, показывала на нас, и я по ее сердитому голосу понял, что, скорее всего, она недовольна, что сторож пустил нас на ее репетицию. Позднее я выяснил, что все звезды цирка требуют, чтобы на репетициях никого не было, кроме участвующих в номере и униформы; постоянно случается, что у них пропадает концентрация, если есть хотя бы пара глаз, следящая за ними, Это потому, что они готовятся к каждому номеру, как-будто никто никогда его не видел,из этого проистекает и совершенство этих номеров в момент их показа публике, это и есть стремление к абсолюту. Мы, люди, раскрываемся полностью, только когда уверены, что никто нас не видит; в этом и есть философия холодной страсти, примирение с безглазыммиром и слепой судьбой, стратегия, приносящая публике невиданные, чудесные плоды, Инна показала на нас, и униформист, пожилой седовласый господин в черном костюме с красной бабочкой, подошел к нам и на скверном сербском попросил нас удалиться. Земанек встал и сказал, что мы придем позже, на пятичасовое представление; а я, как частенько со мной было в последнее время (говорить совсем не то, что я думаю, как будто не своим языком, как будто я переживаю заново куски чужой жизни), сказал;
– Конечно. Но я попросил бы вас спросить госпожу, не могла бы она после окончания тренировки подойти к нам, чтобы я спросил у нее кое-что?
Униформист пристально поглядел на меня и спросил:
– А вы кто? Вы знакомы с госпожой Инной?
Тогда впервые я и услышал это имя, Я ответил:
– Меня зовут Ян Людвик, и я думаю, что я знаком с Инной.
– Вы думаете? – спросил униформист, – Значит, вы не уверены, Земанек стоял рядом и с изумлением смотрел на меня, как тогда, на насыпи.
– Дело в том, что я совершенно точно знал госпожу когда-то, очень давно, – сказал я, а он смотрел на меня как на безумца; я думаю, он решил позвать охрану, пока я не наделал бед, и поэтому сказал:
– Подождите.
Но я не дал ему уйти и сказал:
– Я хочу задать госпоже Инне только один вопрос.
– Хорошо, задавайте, я ей передам, – сказал он.
Я посмотрел на Земанека и сказал:
– Спросите, не хочет ли она после репетиции выйти за меня замуж?
Он кивнул, будто одобряя вопрос; было видно, что он считает, что я совершенно невменяемый. А я добавил:
– Вы знаете, я только что разошелся с одной девушкой и хотел бы жениться. Но я хотел бы взять женщину отсюда, а не снаружи.
В этот момент в глазах у старика появилось чуть больше доверия.
– Вы не хотите женщину снаружи? – переспросил он.
Я повторил:
– Да. Я не хочу жену снаружи.
Он попросил подождать и направился к женщине-пауку, которая опять упала в свою паутину и трепыхалась в ней, пытаясь встать на ноги и выбраться из прочной сетки.
Униформист подошел к Инне, наклонился к ее уху и что-то прошептал, после чего она захохотала. Земанек сказал:
– Ты рехнулся, Ян Людвик, тебе к психиатру надо.
– У меня тоже есть гениталии, – сказал я, с любопытством рассматривая все вокруг.
– И ты женишься на этой?.. – сказал Земанек, не закончив свою мысль.
– Зови ее буквой «Ж». Я женюсь на букве «Ж».
Инна все хохотала, опершись на плечо униформиста; засмеялся и сам униформист; к ним подошла Иннина сестра Светлана и с любопытством спросила, что произошло; униформист что-то ответил по-украински, и она тоже залилась. Потом Инна что-то прошептала униформисту, он кивнул и, подойдя ко мне, сказал:
– Госпожа с удовольствием ответит на ваш вопрос, если вы сейчас уйдете, а вечером после представления вы найдете ее в ее вагончике.
Тогда я встал, посмотрел вокруг и увидел, что и Инна с любопытством смотрит на нас двоих, пытаясь угадать, кто из нас этот совершенно спятивший Ян Людвик; чтобы определиться, я послал ей воздушный поцелуй; она захохотала еще пуще, вернула мне поцелуй, то же самое проделала и ее сестра, а я с Земанеком вышел из шапито.
Мы очутились на улице. Начинался дождик, а зонтиков у Нас не было. Я предложил Земанеку пойти что-нибудь выпить в близлежащем кафе, он согласился, и тем вечером мы посетили все три представления: в пять, в семь и в девять. После третьего представления я пошел искать Инну в вагончике. Она открыла мне дверь (одета она была в дешевые джинсы из Восточной Германии и блузку; с ней была и ее сестра Светлана).








