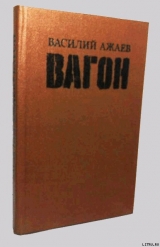
Текст книги "Вагон"
Автор книги: Василий Ажаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
ОДНИМ МЕНЬШЕ
– Одним меньше, одним больше, какая разница!
Такой фразой, брошенной неизвестно кем, началось новое утро. Очень рано, еще до поверки, Мякишев увидел торчавшие из-под нар суконные, с резиною боты. На обледенелом железном полу лежал мертвый Ланин. Вежливый неразговорчивый инженер умолк навсегда, и, таким образом, наш вагон потерял единственного «вредителя», о котором ровно ничего не знал.
Только теперь дошел до нас смысл позабавившей всех вчерашней сцены между Ланиным и Петровым. Инженер под вечер подозвал жулика, отдал ему свою знаменитую шубу и шапку, громко сказал:
– Товарищи, минутку внимания! Я хочу, чтобы вы все видели: я по доброй воле меняюсь одеждой с гражданином Петровым. Отдаю шубу и меховую шапку, а он мне свои вещи.
Жулик молниеносно скинул рваный бушлат, ватные штаны и шапчонку, оставшись в каких-то мятых портках и телогрейке. Столь же молниеносно надел ланинскую шубу и шапку и снова превратился в комичного царя из сказки. Опасаясь, видимо, как бы кто-нибудь опять не помешал честному обмену, кинулся на свое место и затаился, как мышь.
Посмеялись трудно объяснимой причуде инженера. Мякишев пошутил:
– Мы что, мы не возражаем, раз Петров соглашается.
– Видно, невтерпеж ему щеголять здесь в шикарном виде, – объяснил Володя поступок инженера.
Зимину, сидевшему с нами, обмен не понравился. Он заговорил с Ланиным, но получил отпор:
– Оставьте меня в покое, прошу вас.
Значит, уже вчера Ланин закончил расчеты с жизнью.
Извлеченное на свет божий (не очень яркий в вагоне), закоченевшее тело лежало на полу меж нарами, а вокруг него замерли притихшие, растерянные товарищи по несчастью. Синее лицо самоубийцы с высунутым изо рта распухшим языком было неузнаваемо и страшно, сухие, восковые руки согнуты в невероятном усилии затянуть потуже шнурок на шее. На безымянном пальце правой руки поблескивало обручальное кольцо.
Вагон обменивался впечатлениями:
– Как он сумел шнурком-то?
– Дай ему телеграмму на тот свет, он объяснит.
– Я говорю, тяжело такую удавку сделать.
– А ты пробовал?
– Не пробовал, но думаю, что повеситься легче. Прыгнул – и все.
– Чудак, легче! Попробуй.
– Да… Лежал и давился. И не кричал, не хрипел, чтобы не помешали.
– Хватит вам болтать-то! Устроили дискуссию.
Володя достал носовой платок и накрыл лицо Ланина. Хотел отвести от лица и уложить руки, они не разгибались, пружинно возвращались в прежнее положение. Будто подстегнутый этим, Володя полез к окошку и начал кричать конвою. Я и еще несколько человек принялись стучать. Долго не удавалось достучаться и докричаться – поезд был на ходу. Наконец нас услышали. Вернее, просто пришло время поезду остановиться.
Начкон с четырьмя бойцами забрался в вагон и прежде всего произвел поверку. Все оказались на месте, только Ланин не откликнулся (начкон и его выкрикнул). Нам приказали не сходить с нар.
– Как это случилось? – спросил охранник.
Мы загалдели, зашумели. Начальник конвоя – собранный, подтянутый парень – сказал «по порядку, не хором», вынул из планшетки карандаш и бумагу и приготовился писать акт.
– Говорите вы хотя бы, – предложил он Зимину, остановив взгляд на его очках.
Зимин коротко все изложил.
– Записку не оставил?
– Нет как будто. В карманах и вещах его мы не смотрели.
– И все молчал, говорите?
– Молчал.
– А вчера по своей инициативе отдал Петрову шубу?
– Поменялся одеждой. Обратился ко всем, подчеркнул, мол, по доброй воле меняюсь.
– А не проиграли вы его? – громко спросил начальник конвоя. – Шуба-то большой цены вещь.
Зимин не сдержал улыбки: смешным показалось предположение, не участвовал ли он, Зимин, в проигрыше человека.
– Петров-Ганибесов, я вас спрашиваю. Подойдите! – повысил голос охранник. Он сидел на подставленной ему табуретке, бойцы стояли с винтовками на изготовку, мы все лежали на нарах головами к проходу.
Петров, несуразный в ланинской шубе и шапке, с грязным лицом, спрыгнул с нар и стал перед охранником.
– Напрасно вы, гражданин начальник, так думаете. В карты мы не играем, на Беломорканале перевоспитались.
– Перевоспитались? И опять в лагерь перевоспитываться едете?
– Не трогал я его, век свободы не видать! Вчера он сам предложил шубу. В обмен на бушлат. Спросите у всех.
Петров говорил жалобно, плаксиво. Не хватало только слезы.
– Значит, Ланин сам отдал вещи? – спросил снова начальник конвоя, ощупывая Петрова внимательным взглядом от бобровой шапки до резиновых сапог.
– Да, мы подтверждаем, – заявил Зимин. – Совершенно очевидно, Ланин покончил жизнь самоубийством.
– Вот видите, гражданин начальник! – обрадовался Петров. – Они подтверждают.
– Помолчите!
Начальник конвоя писал акт, уточняя подробности. Один из бойцов осмотрел по его указанию вещи Ланина, вывернул карманы брюк и пиджака, нашел сколько-то денег. Записки или письма не нашлось. Охранник аккуратно пересчитал деньги и занес в акт, записал вещи: шарф, полотенце, носки, мыльница, зубная щетка, грязное белье.
– Гражданин начальник, смотрите, у него на пальце обручальное кольцо. – Это Петров опять подал голос.
– Ну и что? Женатый, значит, человек.
– Да я не о том. Неужели колечку пропадать? Отдайте его мне, он забыл подарить.
– Бросьте вы, Петров! Как не стыдно! – возмутился Володя. – Будьте хоть пять минут человеком.
– Идите на место, Петров-Ганибесов! – приказал начкон, он пристально смотрел на Володю, оценивал его реплику.
В раздвинутую дверь сильно дуло, вагон совсем простыл. От холода и волнения у нас, что называется, не попадал зуб на зуб.
Наконец начальник конвоя закончил акт, расписался и подозвал для подписки Зимина и тех, кто сидел и лежал поближе. Двое бойцов, повинуясь его жесту, взяли труп и мгновенно вытащили из вагона.
Самоубийство Ланина словно придавило всех нас. Казалось, даже урки забыли свои самодельные картишки. Ведь Ланина и не знали совсем, за долгие-долгие дни он произнес от силы десять слов, его никогда не было видно и слышно, разве что на поверке.
Кто же он, этот человек? Вредитель? Кому и чем навредил? Как же теперь его семья? Что заставило его поступить так безоглядно? Непоправимость беды, тяжесть вины, горечь обиды? Или непереносимые муки неволи?
– Страш-шно, братики! – протянул Петро Ващенко. – Поставил я себя на его место…
– Как он мог!.. У него ведь жена, дети, друзья, – Володя говорил с возмущением.
– А как понять: сильный он человек или наоборот? – робко поинтересовался Агошин.
Возник спор, захвативший весь вагон. В самом деле, как понять поступок инженера: слабость или мужество, отчаяние растерявшегося человека или жесткая решимость?
– Слабость, конечно. Упадок воли, – свое мнение Володя высказал твердо и безоговорочно. – Трусость!
– Медицина считает: это болезнь, шизофрения, – заявил Гамузов.
– Молодец! – громко прогудел с той стороны Воробьев. – Силу воли показал. Раз – и кончил волынку, отмучился! Мол, идите вы к матери!..
– Гордый и сильный человек. Не то что мы, дерьмо. Будем скрипеть, мучиться, пока не выдохнемся, пока не подохнем, – это с досадой и раздражением сказал Дорофеев.
– Будем собирать задницами пинки, будем поддакивать, как наш Пиккиев, всем и каждому. Лизать будем лапы всем начальникам, всем охранникам и даже их собакам, – Сашко хихикал тоненько, будто довольный нарисованной им картиной.
– Не лизать лапы, не поддакивать. Доказывать свою правоту, если уверен в ней, – возразил Фетисов.
– Как доказывать? Вон как урки, что ли, из тюрьмы в лагерь и обратно?
– Эй, куркуль! Урок не лапай!
– Лежал человек и мучился, надрывал сердце без конца. Теперь ему хорошо.
– Плохо ли ему? Никто не крикнет на тебя, никто не обидит. Молодец инженер!
В смерти человека всегда есть тайна. Особенно жгуча и тягостна смерть самоубийцы. А этот даже записки не оставил, не объявил последней воли. Всем безразличный при жизни, он теперь задел каждого.
В словах Воробьева, Дорофеева, Ващенко, Севастьянова, Мякишева слышалось уважение, даже зависть. А мы, сосунки, по определению Мякишева, мы не знали, как отнестись к событию, к самому Ланину. И Коля, и я, и Фролов, и Феофанов – все мы сошлись на одном: я б не мог ни утопиться, ни выстрелить в висок, ни отравиться ядом, ни тем более так вот удавиться. Значит, он сильнее, мужественнее, решительнее нас, он смог.
– То, что вы говорите, ложь, самоутешение! – Зимин сидел на нарах, свесив ноги. Очки его поблескивали. – Поступок прежде всего непоправимый: жизнь человеку дается единственный раз. Еще Наполеон говорил: самоубийца может пожалеть себя в воскресенье, когда будет уже поздно, ведь он убил себя в субботу. По отношению к себе обидно, по отношению к близким, даже по отношению к нам, мыкавшим общее с ним горе, обидно.
– Плевал он на всех! – с удовольствием выкрикнул Воробьев и, высунувшись из-под нар, смачно сплюнул.
– Да, наплевал на всех, на всех и на самого себя. Так может поступить человек только в минуту душевного разлада. Жизни жаждет даже умирающий от ран.
– В нашей-то муке чего ради жаждать жизни?
– Ложь, Дорофеев. Всегда в человеке сидит жажда жизни и борьбы. Удержи Ланина в тот момент сильная, твердая рука – и беды не случилось бы, он устоял бы на краю обрыва.
– Что же ты не помог, твердая, сильная рука? – грубо и насмешливо спросил Воробьев. Зимин не поддержал пикировку:
– Я жалею, что не помог. Если б знать, что он задумал! Вчера я не зря подошел к нему. Меня смутила эта история с шубой. Он не мог так просто затеять вторично спектакль с обменом. Надо было не отступаться, проявить упорство. Не оказалось рядом надежной товарищеской руки, не оказалось…
В вагоне стало тихо, так тихо, как никогда. Даже прекратились скрипы рессор, лязганье колес, будто вагон сам вдруг замер, прислушиваясь.
– Прости нас, грешных, – проныл Севастьянов.
– Чтобы вы ни говорили, на кого бы ни ссылались, на бога ли, на черта ли, на докторов, я скажу: молодец! – упрямо и громко заявил Воробьев. – Нечего жалеть его, лучше пожалей нас. Я его уважаю, вот и все.
– Наверное, он был достоин уважения, – так же тихо и сердечно продолжил Зимин. – Вот вы, Дорофеев, и вы, Воробьев, шумите: жизнь, мол, наша ничего не стоит, а сами знаете, что порвать с ней невозможно. Есть другой выход: жить. Ради чего-то жил Ланин до ареста, чего-то хотел? Взял и все оборвал. Если тебя несправедливо обидели, изо всех сил доказывай свою правоту. У него, наверное, дети, как он не вспомнил о них? Если тебя жжет ощущение вины, думай, как оправдаться. Наберись сил и терпения и живи, черт побери! Ланин на все махнул рукой. Почему он не доверился нам? Мы ведь ему не враги. «Оставьте меня в покое». Оттолкнул меня, боялся, что я удержу его.
Павел Матвеевич говорил с волнением и очень твердо. Горечь и обида звучали в его мыслях вслух. Ни Воробьев, ни Дорофеев, ни Севастьянов больше уже не перебивали Зимина воплями и руганью. До меня вдруг дошло: Зимин хочет во что бы то ни стало рассеять подавленность и упадок. Никто не двигался, никто не кричал – все ждали еще чего-то от Зимина. Помолчав, он опять заговорил:
– Представьте себе, Воробьев, вчера ваш сосед Ланин заводит с вами разговор, просит совета: кончить ему волынку или еще потерпеть? Прыгнуть с обрыва или отойти? Он вас спрашивает, что вы ему скажете? Неужели посоветуете плюнуть на все?
Снова к нам в вагон вползла тишина. Воробьев молчал и, видимо, чувствовал – ждут его ответа.
– Что же вы молчите, Воробьев? – торопил Зимин.
– Эх, комиссар! Я вижу, ты считаешь меня за последнюю сволочь, – Воробьев, явно возмущенный, зашелся в длительной матерщине. Передохнув, он сказал: – Вот если б ты попросил у меня совета, я б не задумался ни на минуту, я б тебе сказал: давай прыгай!
Словно вздохнули разом всем вагоном. А затем дружно рассмеялись.
ПОБЕГ КОЛИ БАКИНА
Ни у кого больше не оставалось еды, принесенной родными к этапу. Оставались только воспоминания о ней и казенная пища: пайка хлеба, чаще всего мерзлого, и жесткая ржавая селедка, но и ее уже который день заменяет камбала, смердящая так, что каждый старается не брать ее или, взяв, немедленно избавиться. Бойцы конвоя насмешничают: рыба вам не по вкусу, ветчинкой заменить? Сию минуту, обождите, несем.
Мы просим горячей баланды, однако за всю дорогу лишь раз нам выпало отведать щей. Без мяса, без навару, пустые, они все равно запомнились.
Обитатели вагона тощают и стараются поддержать себя покупным, на свои деньги, продовольствием. Но на редкой станции можно что-либо достать. Да и деньги, те, что на сохранении у конвоя или тайком переданные при свидании, есть не у всех.
Володя свои запасы имени двух Надежд не столько съел, сколько роздал – мне, Петру, Кольке, Королю Лиру, тому, кто попросит. Мои деньги шли для нашей компании на покупку хлеба и дешевой колбасы, очевидно конской, либо слипшихся комом конфет-подушечек. Да и деньжата мои почти все уже растаяли. Помогали продуктами и деньгами Зимин и Фетисов да еще Мякишев и Агошин. Мосолов тоже вроде поддерживал своих. Самый богатый был «врач без пяти минут», однако он ни с кем не делился.
Урки, как водится, промышляли неустанно – в течение дня вспыхивали конфликты из-за пропажи. Вспыхивали и угасали: не пойман – не вор, к кому претензии? Не зевай, держись за свой кус обеими руками.
Однако уже несколько дней мы ничего не покупаем, до отказа затянуты пояса. Нас держат на пайке, отказываются покупать продукты в станционных ларьках. Виноват Коля Бакин. Поспорил с урками: мол, на стоянке через окошко сумеет нанизать на штык часового одну или две плоские камбалы.
Мы об этом не знали, а блатные втянулись в игру, заключили пари и ждали момента. По условию, для выигрыша Коле и тем, кто за него, достаточно одной рыбины, накинутой на штык. В случае, если накидывалась вторая рыбина, выигрыш увеличивался. Игра так увлекла жуликов, что они забыли даже карты. У Коли, я так понимаю, истинная подоплека затеи – мечта о реванше, овладевшая им с того момента, когда по приказу «лягай и не вертухайся» он ринулся лицом в снег.
Дождавшись подходящей остановки, Коля и спорщики прильнули к окошку. Внизу на обычном месте стоял часовой. Нет нужды объяснять – Колин недруг: тот самый мордатый парень.
Просунув сквозь решетку руку с рыбиной, Коля примерился и ловко набросил зловонную камбалину на штык. Часовой не успел и шевельнуться, как вторая рыбина оказалась там же. С воплями восторга и одобрения урки отпрянули от окошка.
Скандал! Бойцы конвоя разъярились. Начкон пытался вызнать: кто учинил безобразие, часовой есть священная особа. Арестанты пожимали плечами: не знаем, не видели (многие действительно не обратили внимания). За молчание или, по словам старшего охранника, за сокрытие виновного вагон был наказан целиком: нас лишили права покупать продукты на остановках.
Часовой все-таки заподозрил Кольку, и его вызывали на допрос к начкону. Мы уже горевали: пропал малый. Но часа через три Колька вернулся – довольный и очень веселый.
– Ничего не добились, лягавые, – гордо заявил он.
Судя по распухшей губе и красным ушам, Коля схватил у начкона банок. Этим он не хвастался. Стоило ли обращать внимание на несколько плюх, когда он своего добился.
К удивлению Коли, никто его не похвалил, никто им не восхищался… Фетисов и Володя, наоборот, отругали.
– Я же на пари пошел, – оправдывался Бакин. – Должен был отомстить. Он меня чуть не угрохал, деревенщина.
– Дуралей, накаверзил и подвел всех, – выговаривал Фетисов. – Сейчас на этой станции подкрепились бы провиантом, а по твоей милости придется рукава жевать. Доходим ведь, не соображаешь?
– Я как-то не подумал, – огорчился Коля и предложил: – Давайте попрошусь к начкону, признаюсь.
– Еще чего! Сиди уж теперь, помалкивай.
Сильнее других страдавший от недоедания, Петро Ващенко попросил Зимина и Фетисова объясниться все же с конвоем. После очередной проверки Зимин вступил в переговоры:
– Люди катастрофически слабеют, кое у кого начинается цинга. Мы строго возьмемся за молодняк, только отмените запрет. Мы еще пригодимся государству. Да просто пожалейте людей.
– «Люди», – усмехнулся начкон. – К чему эти хорошие слова? Какое они имеют отношение к вам? Вы преступники, враги народа.
Презрение, ненависть в глазах и в голосе его заставили нас всех содрогнуться. Зимин продолжал уговаривать начальника: лагерь заинтересован в работниках, а не в больных. Этап продлится долго, конца ему не видать. Приедут доходяги, инвалиды. А ведь можно этого избежать?
Начальник, не слушая, выпрыгнул из вагона и, прежде чем задвинуть тяжелую дверь, поднял глаза на Зимина.
– Получаете все, что положено заключенным в этапе. Льгот не заслуживаете. Я зря раньше разрешил покупку.
И дверь с грохотом пошла на место.
– Видишь, браток, что ты наделал? – простонал Ващенко. – Подохну, сил нет больше.
Колька побелел и, мигом вскочив на верхние нары, заорал в окошко:
– Конвой! Конвой! Я хочу сделать заявление! Это я придумал с часовым.
Володя и я насилу стащили Бакина с верхних нар. Хорошо, конвой не слышал его крика.
Четверо суток, еще четверо долгих суток проскрипели. Может быть, завтра разрешат купить продукты. Недоедание превратилось в постоянный голод, мы все больше думали о еде.
Вечером мы с Володей умяли последнюю треть пайки и шепотком завели беседу на темы, далекие от еды. Говорили о театре, о любимых актерах, о литературных вечерах в Политехническом. Володя тоже любил Маяковского. Он знал наизусть много его стихов – пожалуй, больше, чем я. Читал Володя чуть слышно, только для меня, чтоб никому не мешать и чтоб другие не влезли в наш разговор.
Я рассказал о молодом поэте Ярославе Смелякове. Мы с Машей слышали его на вечере в клубе железнодорожников (знаешь, круглое здание на Каланчевке?). Володе понравились стихи:
Посредине лета высыхают губы.
Отойдем в сторонку, сядем на диван…
Пришел Коля Бакин и пристроился рядом. Он часто к нам присоединялся, заметив, что кто-то из соседей «в гостях». Иначе ведь не ляжешь.
– Я убегу, – послушав, невпопад сказал Коля. – Завтра или даже сегодня. Не поминайте лихом, ребята.
Мы не раз слышали его «убегу» и улыбались в ответ. Смеялись над попытками расковырять пол.
– Моя милиция меня бережет. Зачем бежать от нее?
– Не смейся, Митя. Если не убегу, руки наложу на себя, как Ланин. Товарищей подвел, сукин я сын. Убегу. Нинка меня ждет, мать мучается. Я должен вырваться!
Голос у него дрожал. Володя молчал, он сердился на Колю за историю с часовым, разговоры о побеге считал болтовней. Я утешал Колю, чувствовал его волнение. Потом он вдруг назвал мой адрес в Москве и спросил: «Верно?» Я потвердил, смеясь: «Зачем тебе?» Он не ответил. Молча и спокойно лежал рядом, и я решил, что уснул. Но Коля вдруг зашевелился, обнял меня, прижался щекой к щеке и ушел.
Ночью, когда после стоянки неутомимый наш поезд снова устремился в неизвестность, заключенные стали укладываться спать под привычный стук, скрежет и повизгивание вагона. В это время, едва видимые при свете свечного огарка, начали свою упрямую работу Коля и Редько. Другие охотники бежать давно отстали, убедившись, что железо не возьмешь голыми руками. Пронеслись из конца в конец вагона уже привычные шутки и просьбы не забыть закрыть дверь за собой или прислать с воли посылку с колбасой, сыром и салом.
Я вдруг встревожился: а ну как добьются своего? Коля был какой-то странный… Я сказал Володе о моей тревоге.
– Спи, не думай, – отозвался тот сонным голосом. – Попыхтят и бросят. Ногтями тут свободу не добудешь, прочно сделано. Да и глупо: куда бежать?
В самом деле, куда бежать? И от кого?
С мыслями о Коле я уснул. И сразу проснулся. Что-то разбудило? Морозное дуновение, ощутимо коснувшееся лица? Или отрывистые негромкие голоса? Если бы не скрип вагона и не перестук колес, можно было подумать: вагон остановился и кто-то к нам зашел.
Бешено заколотилось сердце, я догадался прежде, чем увидел. Колька. Колька, совсем не смешные оказались твои проекты! Не хотелось открывать глаза, не хотелось видеть постылый вагон. И лучше бы не слушать тревожный разговор.
– Ничего не трогай, ни единой щепочки! Пусть все так и будет.
– А я выхожу к параше и вижу: батюшки!..
Севастьянов первый обнаружил пролом в полу, через него и выскочили на ходу поезда беглецы. Недаром прощался со мной Коля. Ты ошибся, Володя, свободу, если очень жаждешь ее, можно, оказывается, выцарапать и ногтями!
Разглядывали лаз и обсуждали: как они его прогрызли? Вот этот верхний железный брус каким-то образом отодрали и с его помощью отогнули железный лист, выломали деревянный настил. В деревянном-то полу достаточно вытащить две доски.
Выясняли – кто убежал? Вернее, убежал ли кто-нибудь еще кроме Бакина и Редько? Пересчитали наличие: так и есть – не хватало только тех двоих.
– Надо звать конвой, – сказал Севастьянов.
Схватил железный брус и принялся колотить им в дверь, истошно крича:
– Конвой, тревога! Конвой!
– Брось! – И Мосолов вырвал у него брус. – Пусть умотают подальше. Хай поднимешь, когда состав остановится.
– Нас по головке тоже не погладят, хотя мы ни при чем.
– Новое дело могут пришить всем.
– Всем не пришьют.
– Бегите, ребята, – посоветовал Мякишев. – Ныряйте! Я бы попробовал, помоложе будь.
Блатные во главе с Петровым молча глазели в пролом, откуда валил морозный воздух. Он был свежий, острый и задорный, как и подобает воздуху свободы.
– Пустой номер, – вздохнул Петров, запахивая шубу. – Повяжет ближайший оперпост. Тут их на дороге до черта. С собачками. Потравят или прихлопнут. Живыми и брать не будут. А не повяжут – сами сдадутся. Мороз, холодище. Шамать неча.
Долго возле Колиной дыры шла дискуссия: далеко ли сумеют уйти, прихлопнут или нет, как побегут – сразу станут пристраиваться к проходящим поездам или попробуют спрятаться, как будут питаться.
– Тут спрячешься, если только в землю, метров на пять в глубину, – объявил Кулаков. – Зеленые они оба, щенки… Гулять им недолго. На полную железку сработали.
– Никак не ждал, что станут рвать когти. Озорничают, мол, пацаны, играют, силу девать некуда. – Мосолов виновато развел руками.
– Пустой номер, – снова вздохнул Петров. – А нас ждет большой шухер.
Я глядел на клубами врывающийся мороз и пытался представить себе Колю в эту минуту. Подошел Володя и молча стал рядом. Колька, Колька, увижу ли я тебя еще?
– Отойдите-ка, молодцы! Полюбовались волей, и хватит. Холодно. – Мякишев, собравший по вагону ворох тряпья, стал затыкать пролом.
– Товарищи-граждане, будет большой мандраж! – громко сказал Мосолов. Он с тревогой смотрел на меня и Володю. – Брать надо на бога: не видели и не слышали.
– Я тоже говорю, – подтвердил Петров. – В таких случаях легаши с ума сходят, прямо звереют.
– Им за побег серьезно отвечать приходится. Готовьтесь ко всему – и стрелять будут, и драться, и вязать новое дело. Митя, – неожиданно повернулся Мосолов ко мне, – кто-нибудь обязательно про тебя трепанет: кореши, мол, они с Бакиным.
– Я и не собираюсь скрывать, что мы друзья.
– Ему не поможешь, а перед конвоем как раз не надо это подчеркивать. Привяжутся, сунут в изолятор, пропадешь.
– Игорь верно говорит, Митя, – Зимин взял меня за руку.
Что они так разволновались? Особенно удивил Мосолов, так мог заботиться обо мне старший брат. Отвернувшись, он громко обратился к вагону:
– Я хочу предупредить, если кто продаст Митю, пусть пишет завещание. Все равно узнаем.
– Стась, на кой тебе фраерок? – ревниво спросил Голубев.
– Заткнись! – посоветовал Мосолов и треснул своего соседа по спине.
– Лучше продавайте меня, кто хочет спасти шкуру, – мрачно сказал Володя. – Я ведь тоже дружил с Колей.
– Хватит, – рассердился Фетисов. – Никто никого не должен продавать.
Блатные точно предсказали. Едва этап остановился и конвой узнал о побеге, начался переполох. Нас всех кулаками, пинками и прикладами вытолкали из вагона и оцепили. Начкон сделал проверку. В вагоне обследовали буквально каждый сантиметр, особенно внимательно осмотрели злополучную щель. Трое бойцов заделывали пролом.
Мы торчали на морозе, довольные хотя бы тем, что дышим свежим воздухом. Начкон вызывал нас по очереди. Меня выкликнули последним. Перед этим Володя и Зимин внушали:
– Не подведи Кольку и себя, Мосолов правильно предупреждал: кто-нибудь да скажет, что ты дружил с Колей.
– «Не подведи»! За кого меня принимаете? Сами не подведите!
– Врать ты не умеешь, Митя. А надо. Речь идет о том, чтобы не проговориться: Колька непременно будет пробираться в Москву, к Нинке и к матери. Остальное не имеет значения. Впрочем, насчет Москвы и матери они сами догадаются. А вдруг и не догадаются. Про Нинку могут не знать.
Договорились: будем молчать во что бы то ни стало.
Начальник конвоя сидел в купе жесткого пассажирского вагона. Перед ним на вагонном столике бумага, чернильница-непроливашка и ученическая ручка. Рядом с начальником на лавке какой-то военный; как решили бывшие уже на допросе урки, уполномоченный линейного НКВД. В вагоне было тепло, оба без шапок и шинелей.
– Что же не бежали с вашим дружком? – спросил начкон.
Я пожал плечами. Значит, какой-то пес уже сообщил обо мне, не помогло предупреждение Мосолова. Эх, люди. Обидно!
– Что можете сказать о побеге? Кто помогал?
– Не знаю. Спал, ничего не видел и не слышал.
– Ну да, «спал»! Ломали железный пол, доски отрывали, а он спал, видите ли.
– За дураков считаете нас, Промыслов. – Уполномоченный укоризненно покачал головой.
– Не слышал, правда. Я уж если усну – пушкой не разбудишь.
– Не могли же они вдвоем расковырять пол. Кто помогал?
– По-моему, никто. Если бы кто помогал, убежал бы тоже. Когда утром мы узнали об этом, все удивлялись, как это Бакин и Редько сумели сделать такой пролом.
– Предположим, они сами сделали пролом. Но не видеть, как они это проворачивали, не могли. И наверняка вы, именно вы, Промыслов, знали о намерении Бакина.
– Не говорил он мне о намерении бежать. Я ничего не знал.
Начкон и уполномоченный переглянулись. Уполномоченный не сводил с меня тяжелого взгляда.
– Зря упрямитесь. Потом будете жалеть. Кто молчит или пытается сбить нас с толку – в карцер угодит и льгот лишится до конца этапа. Кроме того, выхлопочем штрафизолятор по прибытии в лагерь.
– Вы представляете, что такое штрафизолятор? Особый режим, тюрьма в лагере. Не советуем добиваться его.
Я опять пожал плечами. Хотел сказать: хуже не будет. Но сдержался.
– Все говорят: Бакин – ваш друг. Зря отпираетесь, отказываетесь от приятеля.
– Я не отказываюсь. Мы здесь действительно подружились.
– Но как же он мог не сказать другу о главном?
– О побеге не говорили ни разу. – Я твердо сказал это, не опуская глаз под взглядами уполномоченного и начкона. Ждал другого вопроса. И он последовал:
– Промыслов, вы же знаете – почему он убежал, куда? У вас не было причины – и вы не убежали. А у него была цель. Какая? Скажите!
– Не знаю я, не знаю!
– Не будьте дурачком. Если не скажете, накажем. Отдадим под суд за соучастие.
– Я не знаю, зачем и куда он бежал. Как вы не понимаете: всем так тяжело, что говорить о чем-то серьезном нет охоты. С Бакиным мы играли в «жучка», шутили, пели песни. Надо же как-то коротать время. А знал бы о его намерении – не пустил бы, отговорил.
Они опять переглянулись, и мне показалось – поверили. Я в самом деле жалел, что не удержал Колю, просто не верил в серьезность его плана.
– Ваш приятель – хороший фрукт! Ведь это он устроил издевку над часовым. Вы все покрыли Бакина. И пострадали из-за его глупости. Сейчас опять круговая порука.
Больше мне вопросов не задавали. Начальник конвоя писал протокол. Уполномоченный смотрел на меня. Его взгляд смущал, выводил из себя. Что ему нужно?
– Промыслов Михаил Иванович – отец ваш? – вдруг спросил уполномоченный. Вопрос был неожиданный, я едва не упал.
– Он написал вам? Он хлопочет? Где он? – закричал я.
Уполномоченный молчал. Он пытливо разглядывал меня.
– Что ж вы не отвечаете? – теперь я спрашивал.
– Я когда-то работал под началом Михаила Ивановича. Он в партию меня рекомендовал. Поручился, когда послали в органы. Настоящий большевик. Обидно.
– Что обидно? Скажите, где он?
– Обидно, что у него… такой сын.
Уполномоченный крякнул, поднялся и ушел. Начкон продолжал составлять протокол. Он долго, немыслимо долго писал. Меня качало и мутило от усталости, от голода, от горьких мыслей о себе, об отце, о Кольке. Лучше бы не встречаться мне с уполномоченным. Словно отец сам прошел мимо меня. «Обидно, что у него… такой сын». Лучше бы мне убежать с Колькой. А еще лучше умереть.
Наконец начкон протянул листы протокола. Все было правильно написано, замечательным почерком. Я подписал.
Вернулся уполномоченный, он больше не смотрел наменя, я больше для него не существовал.
– Можете вернуться в вагон, – сказал начкон.
А уполномоченный уткнулся в бумаги. Я пошел к выходу и, открыв дверь, за которой стоял боец с винтовкой, повернулся. Не мог, не мог я уйти, не поговорив с этим человеком! Они оба молча смотрели мне вслед.
– Идите, идите, – торопил начкон.
– Ради отца поверьте, не враг я, не враг!
– Промыслов, ступайте!
– Передайте отцу, прошу вас: я ни в чем не посрамил его имени.
– Вы что, не понимаете русского языка?
Я вышел на мороз, к своим. Закоченевшие, полуживые от усталости, голодные, они еще торчали на улице. Меня встретили тревожные взгляды Володи, Зимина, Фетисова.
– Хлопчик, милый, – прошелестел Петро, еле шевеля синими губами. Допрос длился очень долго, они и не надеялись меня увидеть.
Уже в фиолетовых зимних сумерках нас вернули в отремонтированный вагон. Вещи наши были свалены в кучу. Начкон поднялся вслед за нами и объявил:
– За круговую поруку, за нечестное поведение на следствии, за нежелание помочь органам вы лишаетесь всех льгот до конца этапа. Никаких газет, никакой переписки с родными, никаких продуктов за свой счет. По прибытии на место буду ходатайствовать о водворении всех в штрафной изолятор.
– До места-то не доехать, сдохнем! – простонал Петро.
Начкон, приготовившийся выпрыгнуть из вагона, обернулся.
– Одумаетесь и захотите помочь нам – наказание отменим. Вот Промыслов, если захочет, может помочь и нам и всем вам. Воздействуйте на него. Все равно беглецов поймают.
До поздней ночи обитатели вагона разбирали при свете огарка свои пожитки, спорили, ругались. Поносили Кольку – из-за него совсем худо. Кидались на меня: мог бы помочь, если б хотел. Володя и Фетисов яростно защищали меня. Я лежал, равнодушный ко всему. Ругают, защищают – какое это имеет значение? Какая разница – голодный ты или нет, холодно тебе или нет, если ты лишен главного: свободы?
Ты спрашиваешь: поймали Колю или нет? Поймали. В Москве… Немыслимо понять, как удалось им проскочить несколько тысяч километров и ускользнуть от всех оперпостов, от всех опасностей. Они оказались не такими уж зелеными пацанами. По-моему, тут сыграли роль и неистовое упорство Бакина, и сноровка его напарника. В самой Москве Редько сразу нашел корешей. Какое-то время, насколько я понимаю, они отсиживались в воровской малине.








