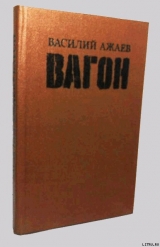
Текст книги "Вагон"
Автор книги: Василий Ажаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
ПОЖАЛЕЙ СЕБЯ, ИГОРЬ!
Наш староста и мой друг Володя Савелов приложил свою тяжелую руку сразу к двум обитателям вагона. У пострадавших были и синяки, и шишки, и разбитый нос. Не было только жалоб, оба «приняли» плюхи без возражений. Не зная причин гнева старосты, удивленный Зимин взялся его урезонивать. Володя почему-то отмолчался и, темнее тучи, забрался на свое место.
Я растянулся рядом, дипломатически не начинал разговора. Опять разбередил еще незажившую руку, она заныла.
– Дураки, – наугад сказал я, поглаживая плечо.
– Уроды, – сердито поправил меня Володя. Всегда спокойный, он весь кипел. – Убью, если еще раз поймаю!
Свою угрозу он произнес достаточно громко. Из его реплик, выжатых сквозь зубы, я узнал: наш староста накрыл урок Костина и Мурзина за кражей продуктов из общественного пайка.
– Почему не объяснил Зимину? Он думал, что ты просто подрался. И огорчился.
– Противно! Ведь мы их кормим, сволочей!
Меня поступок блатных тоже вывел из себя, я готов был добавить им свою порцию лещей. Мы так костили и ругали стервецов, что проработка вскоре сделалась общей.
– Вот слышите, Володя, вопрос-то общественный, всех нас задевает, – с укоризной сказал Зимин. – Кулаками его не решишь.
– Чем же его еще решать? – удивился Володя. – Бить их надо до смерти! Единственное решение.
– Братики, ведь они же не люди. Володя прав! – поддержал старосту кроткий Ващенко.
– Жрать им не давать. Ослабнут и забудут про воровство!
Предложение Мякишева вагон встретил с удовлетворением, гоготом и солеными шутками. Зимин же и тут навел порядок. Морщась, он стыдил за похабщину, уговаривал:
– Бить не станем. Хлеб отнять не можем. А наблюдение крепкое установим. Будем лечить стыдом.
Как и всегда, с Зиминым невозможно было не согласиться. Один Савелов не согласился:
– Лечите их своим благородством, а я буду нещадно лупить. Таких уродов одна могила вылечит.
– Верно балакаешь, староста, мы с тобой согласны: фраерами и сявками нас не сделаешь.
Заявление Кулакова вызвало взрыв одобрения.
– Тихо, вы! – зычно крикнул вдруг Мосолов, покрывая все голоса. – Молчали бы уж лучше и слушали, что о вас говорят люди.
– Слушай сам, если нравится, – огрызнулся Кулаков.
Однако он притих. Примолкли и остальные.
– Не кажется ли вам, Володя, что Игорь Мосолов перестал быть вором? – этот вопрос Зимин задал негромко, не для всего вагона, но так, чтобы услышал Мосолов.
– Ну да, перестал! – непримиримо отрезал Володя. – Значит, нужно зачем-то ему до поры до времени.
– Ой, Володя! Вы меня огорчаете. По-вашему, получается: люди рождаются ворами, ворами и умирают?
– Так оно и есть! – жестко бросил Володя, считая дальнейший разговор излишним.
Зимин его понял и тоже замолчал, внимательно глядя на Мосолова. Тот стоял возле наших нар, покачиваясь от толчков вагона, безучастный, словно не о нем шла речь.
– Слушайте, Игорь, расскажите нам о себе, – попросил Павел Матвеевич.
Мосолов по-прежнему покачивался, держась за нары и будто прислушиваясь к чему-то.
– Игорь, я к вам обращаюсь.
– Слышу, – сказал Мосолов. – Зачем говорить, для забавы?
– Нет, совсем не для забавы. Мы часто судим о человеке, не зная его.
– Что изменится? – Игорь с горечью отвернулся. Резко, в упор взглянул на Савелова. – Эх, ты, правильный человек! А говорят, сам беспризорничал, детдом прошел.
Нам стало неловко. Я рассердился на друга, даже толкнул его в бок.
– Вам я скажу, комиссар. – Мосолов снова слегка качнулся. – Если бы побег Бакина случился раньше, я бы не упустил случай – рвал бы вместе с ним когти. Вы, наверное, догадались, что я помог удрать ему и Редько, удержать их было невозможно. И, если бы Петров раньше затеял правилку, я, наверное, не стал бы ему мешать.
– Расскажите: почему не бежали с Бакиным, что вас остановило? Почему не пошли за Петровым?
– Что говорить? Ясно почему. Поумнел. Встретил людей, поверил в них. Показалось: жизнь еще может повернуться лицом. Не знаю, может быть, зря.
Мы ждали, что еще скажет Мосолов. Но он опять погрузился в раздумье.
– Вы слышали, Савелов? – спросил Зимин.
Володя не отозвался.
Мягкий и деликатный человек, Зимин отличался удивительным упорством, уж коли что взбрело в его седую голову. Разумеется, он не оставил в покое Мосолова.
Игорь, он же Стась, рассказывает нам историю своей жизни, Володя слушает. То есть слушает вся наша компания. Игорь чаще всего обращается к Зимину, однако, мне кажется, видит он, главным образом, Володю.
– …Я, как все воры, наверно, мальчиком был честным, ей-богу. И даже счастливым до восьми лет: имел мать, отца и трех сестренок. Потом счастье сдунуло ветром. Мать и сестренки умерли от тифа, я выкарабкался, на свою беду. Отец после смерти матери словно надломился, приходил домой пьяный, а однажды не пришел совсем. Я на улицу подался, в беспризорные, затем в детдом, куда же еще?
Кому так повезет, как нашему старосте: из детдома он, пай-мальчик, доучился до фабзауча, а там и высшее образование на блюдечке с голубой каемкой. Моя кривая потащила не туда. Ребята драпанули из детдома, прихватили заодно и меня. Могу целую неделю калякать про свои мытарства, как жил в подвалах и подъездах, в асфальтовых котлах и товарных вагонах, как дрожал от холода, чесался от вшей и грязи. Про то слушать не больно интересно, правда, староста?
Научился всему, прошел школу первой ступени, а за ней вторая ступень. Ох, наука ты воровская, будь проклята! Пахан потихоньку вклещивается в твою душу, ты и не замечаешь, как превратился в раба. Всегда в страхе, всегда помнишь законы ватажки, постоянно твердят тебе о воровском братстве, о воровской чести, о самом страшном законе – о правилке.
Работа самая ребячья, пустяковая – проскользнешь змейкой в открытую форточку и впустишь через дверь старших подельцев, дальше забота не твоя. Или подсадят тебя и ты через узкую щель в окне ныряешь в купе вагона. Твоя задача выкинуть хотя бы один чемоданчик. По специальности и прозвище: Угорь.
После нескольких удач я в ватаге уже человек. Житуха на большой: день воруешь, неделю праздник. Жратва буржуйская, папиросы в красивых коробках, водки сколько хочешь (первый стаканчик силком влили в глотку, а потом принуждать не пришлось). После выпивки весело, поешь «гоп со смыком», травишь анекдоты, ни о чем не думаешь – есть умные люди, которые думают за тебя и говорят, что делать.
К одному долго не мог привыкнуть – «шпилить в госиздат». Противно было очень. Корежило от вида людей, от того, как тряслись их руки в проигрыше, да и в фарте, как они зверели. Страшно было смотреть на корешей, когда они своего же товарища раздевали догола и унижали.
В какой-то форточке я застрял – ни туда, ни сюда. Упекли голубчики в колонию. Тосковал по корешам, все соображал, как бы удрать, ведь, кроме корешей, не было никого на свете.
Староста наш, глядите, ухмыляется. Догадываюсь, о чем думает: сколько волка ни корми…
Не получилось удрать, не фартило. Спустя какое-то время чувствую: бежать не хочется. Зачем? Кормят, заботятся, научили не пыльному ремеслу – переплетать книги. Через это вот и узнал удивительное занятие – читать. Книги читал запоем, одной на вечер не хватало.
Вот так-то бывает, гражданин староста. Забыл и думать о побеге, о корешах, вроде завязал ту старую жизнь. Однако появился в колонии один из наставников – Семенов, по прозвищу Лошадка (морда у него длинная, похожа на лошадиную). Я его стараюсь не замечать, а он мне напомнил: «Смотри, Угорь, не вздумай скурвиться, перышки у нас острые, сам знаешь».
Бежали компанией, Лошадка сразу всех ввел в ватагу. Работали чисто, научно и широко – в трамваях, в поездах, на вокзалах, на базарах. Домушничали, конечно.
О чем еще рассказать? Из воришки вырос, сделался вором, авторитет заимел, даже операции разрабатывал, словом, коноводил. Клички сам себе придумывал: Жан Вальжан, Вотрен – из книг. Правда, прилипла кличка, не мной придуманная: Стась Ласточкин. Не помню уж, кто и почему прилепил.
Жизнь вора, комиссар, чистое кино, сплошное мелькание: судимость – колония – побег – немного воли, опять судимость – словом, тюряга – побег – глоток воли. И опять крутится твое колесо. Сам подошел к черте, дальше рецидивисту вышка. Вот так очутился на канале, припух – и надолго.
– Почему надолго? – спросил Фетисов.
– Э, разве расскажешь! Надоест слушать.
– Вот чудак! Начал, так продолжай.
– Перевоспитался на стройке, так?
– Нет, не так! – Мосолов засмеялся. – Наоборот, в штрафники угодил сразу и всерьез.
– За что?
– За отказ от работы. Перед корешами выламывался, гордого сокола в неволе изображал. Думал об одном: о побеге. И понимал: бежать нельзя, поймают, дадут вышку. Кипел ненавистью, озорничал, ну и, конечно, командовал, как хотел, своими.
…Игорь, светлея лицом, рассказывает о человеке – такого он раньше не встречал. На Павла Матвеевича похож. Не лицом, а вот тем, что за людей болеет.
– Сам пришел к нам в барак. Представился: Григорий Иванович, начальник КВО. А нам на кой? Хамили ему, выпендривались всей честной компанией.
– Не старайся, начальничек, не уговоришь. Работать на тебя не будем. Иди к… – это мы ему.
– На меня работать? А я что, капиталист, что ли? Вы на себя работайте.
– Ишь чего захотел! Дураков ищи, мы умные.
– Ума-то не видно. Боитесь вы работы. Привыкли жить на чужой счет.
– Боимся? Не смеши нас. Мы просто презираем ее. Работают ишаки. Нам она зачем, твоя работа? Полезного не желаем делать людям. Они-то нам что хорошего сделали?
Он ушел, предупредил: даю три дня. Жулики посмеялись – хватит и двух. Сели играть в карты на золотые часы начальника (приметили во время беседы). Выпало мне проиграть часы.
– Начал я охотиться за ним, как тень, бродил по всей зоне, – вспоминал Мосолов. – Но часики никак не удавалось помыть. Больше того, мой клиент засек меня, как пацана неопытного.
– Что слоняешься за мной целый день? Одумался?
– Что ты, начальник, об этом и не мысли. Часы я твои проиграл, понимаешь? Дал бы ты их мне. Все равно возьму.
Дал он Игорю не часы, а десять суток изолятора. Отсидел, вернулся в зону. Кореши напомнили о проигрыше. Этого и не требовалось, сам хорошо знал законы. Да и обидно: как же это я, Стась Ласточкин, не могу управиться с такой мелочью?
К ночи Мосолов сумел выбраться из зоны, долго наблюдал за домиком начальника лагпункта (там жил и Григорий Иванович). Свет в окнах погас, Игорь выждал час-другой и полез в окно. Часы лежали на стуле возле дивана, где спал начальник. Взял их и обратным ходом – в окно.
Не тут-то было! Зажегся свет, начальник, лежа, глядит на меня. Оказывается, наблюдал все, как на сцене.
– Был бы на моем месте другой человек, размоталась бы сейчас твоя катушка до конца, – сказал Григорий Иванович. – Дешево же ценишь свою жизнь.
– Знаешь ведь, начальник, наши законы. Со дна океана, а обязан достать твои часики. Однако не пофартило. На, бери их и обратно сажай в изолятор. Надолго сажай, иначе опять что-нибудь случится с твоими ходиками.
– Ах, дурак, дурак, – вздохнул Григорий Иванович. Подошел ко мне и огорошил: – Ладно, бери часы. Именные они, Дзержинского подарок. Но помочь тебе надо – оторвут дурную твою башку.
Я прямо обалдел, не знаю: брать, не брать. Он настаивает: раз даю – бери. Взял я и полез в окно.
– Иди уж через дверь, – засмеялся он.
– …Ну, а что дальше? – перебил Фетисов паузу. – Что сделали твои дружки с подарком Дзержинского?
– Не дал я им часы. Только показал. Расплатился натурой. Драка была что надо, запомнил на всю жизнь.
– А часы?
– Часы вернул хозяину. Он оглядел меня и аж присвистнул: картина разноцветная, а не человек. Здорово разрисовали!
Долго отчитывал он меня, и я не огрызался, чувствовал, жалеет.
Постояли мы с ним так полчасика, он мне душу разворотил. Словно по щекам нахлестал. И первый раз случилось со мной – дать сдачи не захотелось.
– Иди в изолятор, заслужил. Две недели один посидишь, подумаешь. Имей в виду, спуску не будет ни тебе, ни твоим приятелям.
Привели меня в ту же камеру, в которой недавно сидел. Ничего в ней не переменилось: окошко с решеткой, железная дверь с глазком – привычная обстановка. Но до того мне вдруг тесно, тоскливо стало. Зубами заскрипел, кулаками ободранными по стене принялся лупить. И никуда больше не мог смотреть – только в окошко, только на волю, на небо, хотя и в мелкую клетку.
«Пожалей себя, Игорь, пожалей себя, пожалей, пожалей! – твердил я слова Григория Ивановича. – Река перед тобой широкая. Прыгай в чистую воду и плыви, смело плыви к другому берегу».
Он выкрикнул, вернее, выдохнул эти слова. Рванулся и застыл у двери, держась за обледенелые рейки обеими руками. Рывком же нырнул на нижние нары, на свое место.
– Я рад, что тогда поверил Игорю. Чутье не обмануло меня. – Зимин говорил тихо и взволнованно. – Он тянется к нам, к вам тянется – где же она, ваша сильная надежная рука?
– Игорь, мы ждем рассказа, как один молодой человек приплыл к другому берегу, – напомнил Зимин на другой день.
– Приплыл, да не высадился, – возразил Мосолов.
Рассказать ему не хотелось, видно, пропало настроение. Мы сидели впритирку, согревая друг друга. Мосолов теперь постоянно примыкал к нашей компании. Он молчал, глядя в серый прямоугольничек окошка. Молчали и мы, ждали.
…Григорий Иванович перевел его в другой лагпункт, подальше от корешей. Игорь получил квалификацию бетонщика, и его послали на строительство моста.
Мосолов, смеясь, рассказывал про корреспондента, который о нем написал заметку: «Росли устои моста и росли устои рабочего человека в душе бывшего урки». На тех же самых устоях моста Игорь познакомился с Шурой. Как и он, девушка была дитя тюрьмы и колоний.
– Про любовь в лагере невозможно рассказывать, не сказка. Если и сберегли мы свою любовь, то благодаря Григорию Ивановичу. Без него я сто раз убил бы охрану, сто раз погиб бы сам. Унижали они меня с Шурой как хотели, все мерещились им нарушения режима в наших минутных свиданиях у вахты.
Григорий Иванович поверил молодой паре, вызволял их из неприятностей и не уставал повторять: «Берегите себя, вам нельзя ошибиться». Игоря и Шуру одновременно освободили. Они тихонько отпраздновали свадьбу. Гость у них был один-единственный – друг и приемный отец. Вместе с ним в новом качестве – вольнонаемных поехали на строительство канала Москва – Волга.
– Во сне виделись мне каждую ночь форточки, в которые я лез, или погони да кореши. Тем приятнее было просыпаться. Вот так однажды выбрался я из тяжкого сна и вижу: боже ж мой, полная вокруг тишина, рядом спит Шура, за ширмой посапывает Пуха. И я возликовал: человек я, черт возьми!
Не утерпел, разбудил Шуру, поделился своими мыслями, говорю: хочу сына! Нельзя нам без него! Шура смеется – совпадение. Я тоже хочу сына, вижу его во сне.
Игорь запнулся смущенно, украдкой посмотрел на Володю. Тот деликатно отвел взгляд:
– Ты сказал: за ширмой посапывает Пуха, – пришел на помощь Игорю Фетисов. – Собаку, что ли, завел?
Мосолов долго смеялся, прежде чем ответить.
– Ничего я не имел, а тут все появилось: свобода, работа, жена, жилье (целый домик снимали в деревне), Пуха. Кто такая? Мать наша. Еще в лагере она к нам прилепилась. Одинокая пожилая женщина Пульхерия Ивановна, или Пуха. Всю жизнь жила в людях, потихоньку спекулировала. За спекуляцию и посадили. В лагере послали в пошивочную. Работа ей нравилась, всех белошвеек обгоняла. Она тоже мечтала о сыне, согласна была на внука или внучку. Словом, хотелось ей пожить остаток дней в семье. Со слезами рассказывала, какие бы она готовила борщи и голубцы, какие шила бы рубашки сыну и платья дочери, как нянчила бы внучка или внучку. Мы с Шурой все смеялись: вот выйдем из лагеря, заведем семью и сына, тебя зачислим матерью и бабушкой.
Нас раньше ее освободили, так она слезами облилась: «Бросаете меня, старую, потрепались только». Когда ее выпустили, немедленно примчалась к нам на стройку. И заменила всю родню.
– Сбылась ваша мечта о сыне? – спросил Зимин.
– И да. И нет. Папаша, как видите, угодил в тюрьму.
Улыбка сошла с лица Игоря. И не вернулась. А он очень хорошо улыбался, будто вспыхивал в нем тихий огонь.
– Как это вы опять оступились, Игорь? – огорченно спросил Зимин.
– А я не оступился. Однажды слышу – ищут меня по всей площадке, мол, Григорий Иванович прибыл на участок, ждет в конторе прораба.
Прихожу, Григорий Иванович грустный какой-то, вернее, даже мрачный. Посмотрел на меня и говорит:
– Скверное дело, Мосолов. В соседнем поселке ограбили магазин. Двоих нашли, взяли. Они тебя третьим называют. Говори прямо: верить им или нет?
– Не верьте, Григорий Иванович. Не виноват. Забыл и думать о таких делах. Вы же мою жизнь знаете насквозь. Скажите только: кого взяли за магазин?
– Мишку Семенова – прозвище Лошадка, Филиппа Митенина. Твои дружки.
– Бывшие.
– Зачем ты за них поручился, когда они пришли наниматься после лагеря?
– Поверил, как вы мне поверили. Подъехали ко мне на резиновых шинах: «Хотим завязать навеки, помоги, Стась». Взяли на бога. Дело хотят пришить, гады. Правилка.
Григорий Иванович долго смотрел на меня – глаза в глаза. Я взгляда не отвожу, очень хочется, чтобы он в мою душу заглянул, ведь чисто в ней.
– Верю тебе, Игорь. Придется точно вспомнить: где ты был позавчера весь вечер и всю ночь. Подумай и напиши к завтрему. Укажи свидетелей. Поеду к прокурору…
– А дальше? Мы до конца хотим знать твою историю, – перебил Фетисов затянувшуюся паузу.
– Пожили мы дружной семьей до зимы. Все ладно было. Сынок столько радости приносил. Если бы не работа, я и носу из дому бы не высовывал. Правда, три раза вызывал следователь по делу Метелина и Лошадки. Вроде поверил мне, отцепился. Намекнул: «Скажи спасибо одному человеку, очень верит тебе».
А я этому человеку и без подсказки буду говорить спасибо, пока дышу. Худо стало, когда остался без его поддержки.
– Как так? Неужели натворил что-нибудь? – в один голос выкрикнули Петро и Агошин.
– Если бы натворил… Григория Ивановича перебросили куда-то на Север. Наказали за что-то. Затем слух прошел: исключили из партии. Спустя время еще слух пронесся: арестовали. Я пытался разыскать его через знакомых и официально через управление. Писал, что знаю его, такой человек не может сделать плохого. Ошибка. Меня вызвали и прочитали нотацию: не суйтесь, разберутся без вас.
– В чем же дело? За что его?
– За то же, за что и вас, Павел Матвеевич. Говорили, с кем-то не согласился, за кого-то заступился, спорил. Эх, не знаем мы ничего! Вы не знаете, и я не знаю.
Игорь сидел с потемневшим лицом.
– …Пришли вчетвером, наставили пушку. Как же: брали опасного рецидивиста! Обнял Шуру и Пуху, подержал на руках Ванюшу и пошел под конвоем из своего первого и, чую, последнего дома. Шуре шепнул: «Бегите отсюда! Выберусь – найду».
Привели к следователю. Человек тот же, разговор другой.
– Любимчик врага народа! Покрывал он тебя, теперь не покроет. Придется тебе, Мосолов-Ласточкин, ответить за ограбление магазина.
– Не дотрагивался я до магазина! Сами же согласились, что кореши мне шьют дело.
– Нет, я с тобой не согласился! Алиби твое липовое, я сразу понял. И вечером ты дома, и ночью – ишь какой примерный семьянин! А свидетели – жена да теща. Курам на смех.
– Да ведь все чистая правда. Семья ведь у меня. И соседи подтверждают.
– Брось арапа заправлять. Соседям ты втер очки, а нам не вотрешь! Кореши твои первый раз в жизни сказали правду.
Я и по-хорошему, и со скандалом – только унизился перед ним. Дал четыре и еще поизмывался.
– Мало выхлопотал. Бери и беги, могло быть больше.
Оттолкнули мою лодку, Павел Матвеевич. В тюрьме я снова с кодлой. Выходит, иного выхода и нет. Беда, что тот прежний берег не манит. Всего и выпала капелька счастья на мою долю. Шура и сынок да Пуха – здесь они, в груди.
Мотает меня меж двух берегов и будет мотать. Здесь, в вагоне вас узнал, опять все взметнулось. Может, зря не убежал я с Колей Бакиным? Взглянул бы еще разок на родных. Кореши на воле помогли бы, не найти меня законникам ни в жизнь. Да не мог бежать, не мог заставить себя, мозги у меня теперь другие. Кореши до сих пор не верят, что мне с вами ближе. Все шепчут: «Что задумал, Стась, скажи нам? Что хочешь устроить с фраерами?»
– Оказывается, бывает и так, Савелов. Или ты не веришь мне? – Игорь в упор взглянул на Володю.
Все мы тоже уставились на нашего старосту. Он с грустью и явным сочувствием смотрел на Мосолова. Ответил коротко:
– Верю.
Ему, очевидно, хотелось сказать еще что-нибудь. Но по себе знал: сильный человек не терпит утешений.








