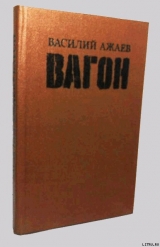
Текст книги "Вагон"
Автор книги: Василий Ажаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
ГАЗЕТЫ
Газеты были тем, что связывало нас с жизнью. Конвой покупал на станциях местные газеты – уральские, потом сибирских областей. Среди информации о районных буднях мы искали перепечатки из центральной прессы и сообщения ТАСС. С жадностью набрасывались на «Правду» и «Известия» – они изредка доставались нам на крупных станциях.
Газетами распоряжался Зимин, он буквально священнодействовал. Устраивался поближе к окошку и молча пробегал глазами от первой полосы до четвертой, поднося газету вплотную к очкам. Мы любили наблюдать за ним в эти минуты. Пробежав глазами по страницам, Зимин начинал читать вслух, комментировать, и мы не переставали удивляться его способности столь многое находить в обыкновенных словах. Именно с тех зиминских времен газета вошла в мою жизнь как нечто такое, без чего нельзя начать день.
Однажды мы долго стояли на большой станции – названия не знали, известно было, что где-то на границе Восточной Сибири и Дальнего Востока. По обыкновению, загнали в глухой безлюдный тупик.
Обычные на остановках хлопоты остались позади: конвой произвел проверку, паек и воду нам уже выдали, дежурные сходили подсобрать на линии скудное топливо.
Я вместе с Володей торчал у окошка (в порядке очереди мы возлежали теперь на верхних нарах). С безмолвной тоской озирали безлюдный зимний пейзаж, необычный из-за видневшихся вдали округлых сопок.
Володя первым заметил стоявшего неподалеку старика в полушубке и валенках. Он терпеливо и внимательно разглядывал эшелон. «Стрелочник», – решили мы. Часовой у нашего вагона недовольно поглядывал на него, однако не прогонял. Для пробы я спросил старика:
– Какая станция, папаша!
Он приблизился шага на три.
– Карымская, милок. Не слыхали про такую?
– Не слыхали, – ответил я. – Теперь будем знать. Далеко от Москвы-то?
– 6299 километров.
– Ой, далеко, отец!
– А у меня сынок тоже так-то, – негромко сказал вдруг старик и вытащил огромный красный платок, поднес к глазам.
Уж мы-то могли ему посочувствовать, хотя бы молча. Я подумал о своем отце и чуть не застонал.
– Спросите, ребята, не добудет он нам газеток, – мечтательно сказал Зимин. Услышал наш разговор через окошко и подошел.
– Папаша, не сможете ли достать газеток? – крикнул я.
– Газеты? – удивился старик и засуетился. – Я хотел передать две пачечки махорки, можно? А газет у меня много. Сторожем здесь на станции, и мне дают газеты – печки разжигать. Только старые. Годятся для курева.
– Старые? – растерялся я. – Зачем нам старые, если табаку нет?
– Попроси у часового разрешения передать махорку! – заорали в вагоне.
Зимин, услышав мой ответ, тоже закричал:
– Вы с ума сошли, Митя! Это же замечательно – старые газеты! Пусть больше несет, если не жаль!
Павел Матвеевич так взволновался и так громко кричал, что кругом развеселились.
– Пусть даст махорку и к ней одну старую газету.
– Нам очень нужны старые газеты! – поправился я, смеясь. – Несите больше, сколько донесете. Нас хлебом не корми, дай старые газеты.
– Митя, я вас выпорю, – пообещал Зимин и полез к нам наверх – проверить, действительно ли старик побежал за газетами. Опасаясь, что часовой может не разрешить, комиссар решил подготовить почву. Часовой взглянул на него, выслушал и промолчал. Зимин крайне вежливо продолжал «обработку»: газеты, мол, не баловство, а средство воспитания.
Наконец старик появился с двумя большими свертками под мышками. Он с трудом тащил их.
– Еле несет два громадных тюка, аж сгибается, – объявил я. – Жаль старика. Бросил бы к чертям эту макулатуру.
– Митя, молчите, я убью вас! – вопил Зимин под хохот вагона.
Подойдя под взглядом бойца к нашему вагону, старик положил на снег свертки, сверху две пачки махорки и отошел подальше. Снова извлек красный платок, высморкался и продолжал разглядывать нас.
– Спасибо, отец. Мы тебя никогда не забудем, – и Зимин обратился к часовому с просьбой передать нам подарок доброго человека.
Часовой подозвал шедшего мимо бойца, показал на свертки и сказал:
– Посмотри и дай им. Махорку тоже.
Боец ощупал махорку, полистал лежащие сверху газетыи принялся открывать двери.
– Сынки хорошие, может, встретите где-нибудь моего Сашу, передайте: пусть не убивается, дома все благополучно, – срывающимся голосом попросил старик, и опять красный платок тревожно замелькал в его руках. – Все мы живы-здоровы: и мать, и супруга, и детки. Полухин его зовут, Александр Иванович. Будьте добреньки, милые.
– Передадим, отец, Полухин Александр Иванович, не забудем. Дома все живы-здоровы.
– Отставить разговоры! – скомандовал часовой.
В вагоне шумели, взбудораженные подарком вокзального сторожа; Зимин уже пристроился с газетами возле окошка, курильщики набивали самокрутки подаренной махоркой.
Мы стали обладателями не меньше чем сотни номеров «Правды» и, к удивлению, «Вечерней Москвы» – как она очутилась тут? Зимин счастливым голосом сообщил: газеты вовсе не старые – тридцать четвертый и январь-февраль 1935 года.
– Ах, какой замечательный старик! – ликовал Зимин. – Умница, золотой человек!
Теперь Зимина никакими силами не оторвешь от неожиданного «сокровища», он собирает желающих и читает, читает с упоением. В газетах находит материалы XVII партсъезда и загорается:
– Слушайте, ребята, слушайте, не пожалеете.
Мы и не пожалели. Собственно, Зимин не столько читал, сколько рассказывал о съезде, о докладе Сталина, о выступлениях руководителей партии.
– Убей меня бог, наш комиссар был на съезде! – шепчет Володя, подтверждая мои мысли.
Очень уж достоверно передает он подробности, реплики, смех Кирова, шутки Ворошилова – такое мог знать только участник. Несомненно, Павел Матвеевич присутствовал на съезде, видел Сталина и его ближайших соратников, возможно, разговаривал с ними. Не одни мы с Володей почувствовали это. Однако не всеми, далеко не всеми рассказанное и прочитанное Зиминым принималось так безоговорочно и горячо, как нами.
– Слишком много льстивых слов, – пробурчал Мякишев. – Неужели сам не замечаешь?
– Льстивых слов? – даже растерялся Зимин, воодушевленный нарисованной им самим картиной съезда.
– Да вот таких, что ты вычитал. «Гениальный», «великий», «его величие».
– Да-а… Пышность, – надтреснутым голосом поддержал Дорофеев. – Что ни фраза – «грандиозная овация товарищу Сталину», «слава великому вождю». Даже в письме колхозницы – забыл ее фамилию – то же самое.
– Ну и что же? – спросил Зимин.
– Скажи, пожалуйста, зачем так пылить в глаза? Сначала Сталину, а за ним и другим кадят изо всей силы. Молотову, Кагановичу, Калинину, всех не перечтешь.
– Им поменьше, – засмеялся кто-то. – Труба пониже, дым пожиже.
– А к чему это вообще? Скромности не хватает у людей, глотают похвальбу, словно пироженое.
– Я объясняю все эти слова иначе, – задумчиво сказал Зимин. – Не подхалимством и не желанием польстить.
– Чем же?
– Желанием утвердить авторитет вождя партии, показать уважение и любовь людей к руководителям, веру в них.
…Сейчас я вспоминаю эти споры и думаю о трагической судьбе таких людей, как Зимин. Они не могли тогда предугадать всех последствий того, что уже зародилось и пышно расцветало, не могли предугадать опасности беспредельной личной власти. Но вне сомнения – нечто чуждое ленинскому духу коробило и огорчало их. Сталин был вождем партии, и они пытались оправдать его, объяснить. Высказывали свои сомнения товарищам по партии и чаще, чем мы знаем об этом, самому Сталину, тем самым желая повлиять на него. От Фетисова мы знали: Зимин не молчал. Исход оказался трагический.
– Хвастовство в каждой статье, – после очередной читки начинал кто-нибудь новую дискуссию в вагоне. – Пишут о важных вещах, полезно послушать, но слушать трудно, так хвастаются. Объясни, Павел Матвеевич: кому нужна брехня? Или ты ее не видишь?
– Вижу, – смеется Зимин. – Хвастовство в солидных количествах. Объяснение мое такое: через газеты хотим рассказать о великих делах народа. А рассказываем часто неумело, плохо, без меры, допускаем перехлест.
В вагоне зашумели.
– Еще какой перехлест! Сделаем на копейку, хвастаемся на рубль. Сделаем на рубль, хвастаемся на всю сотню.
– Зачем врать самим себе, мы же не маленькие. Людям нужна только правда. Знаем же: жизнь трудна, в ней много тяжкого, не все удается.
– Вы читали сейчас: Сталин сказал, будто в сельском хозяйстве задачи, в основном, решены. Ничего себе решены, когда все голое, босое и голодное и крестьяне бегут и бегут из деревни, от земли-матушки.
– В наших газетах и в докладах только так бывает: каждый месяц и квартал перевыполнение, обязательно рост на несколько процентов. Если верить газетам и докладчикам, если сложить их проценты, должно быть изобилие.
– Никогда не говорим о недостатках, только о достижениях. Никогда не признаем промахов и провалов, тяжелых неудач. Будто их и нет!
– Я так скажу, – слышался густой дьяконовский голос Мякишева. – Люди привыкают к обману, к вранью, к преувеличениям и перестают верить даже сущей правде.
Не сердясь и не отмахиваясь, Зимин внимательно вслушивается в любое замечание, в каждую реплику. И отвечает, пытается ответить, будто он и никто другой виноват во всех промахах и недостатках. Тогда, тридцать лет назад, я не понимал, зачем нужно ему выслушивать придирки и нападки, иногда предельно злые и обидные. Теперь понимаю: очутившись в обстановке этапа, где люди, уже осужденные, не опасались говорить то, что лежало на душе, Зимин старался понять их. И на жизнь страны пытался взглянуть новым, обостренным зрением. Верил: скоро недоразумению конец, он выйдет из тюрьмы, вернется к своей партийной деятельности, обогащенный новым знанием жизни народа.
Люди ждали его ответа, и он отвечал искренне, не уходя от остроты и сложности. Да, я согласен, говорил он, в наших газетах теперь меньше критики, они обходят недостатки. Товарищ Сталин и за ним многие считают: недостатки надо видеть, чтобы их исправлять, а не трубить о них. За границей незачем знать наши слабости.
– Ну, а вы? Ваша точка зрения? Есть она у вас? – это Дорофеев не удержался.
– А как же? Без нее нельзя коммунисту, – отвечал Зимин. – Мы сильны, и нам не подобает бояться правды, как бы она неприятна ни была. Вот моя точка зрения. Вы удовлетворены?
– О, да! Хотелось бы знать, высказывали вы ее вне вагона или нет?
– Можете не сомневаться. Уж кто-кто, вы-то должны знать: Ленин никогда не боялся говорить о наших слабостях и ошибках. Даже в самые отчаянные времена, когда враги наседали со всех сторон, не скрывал правды. А вам хочу напомнить, Дорофеев: мы и сейчас в осаде – кругом враги, которые ликуют и злорадствуют, когда нам худо.
– Спасибо за напоминание. К чему оно?
– К тому, что в осажденной крепости суровая дисциплина.
– Ну и что? Это приглашение закрыть рот?
– Нет. Совет подумать, имеем ли мы сами право злорадствовать, если у нас в доме что-то худо. Все хорошее – наше, но и все плохое – наше. Сдается, что вы частенько сбиваетесь на злорадство.
КОРОЛЬ ЛИР УМЕР
Он лежал на пустых верхних нарах, огромный, неподвижный, строгий. Закрылись воспаленные от грязи выпуклые глаза, куда-то девались синеватые сумчатые мешки под веками, побледнели яркие склеротические краски на лице. Оно стало благообразным и важным.
Старый и больной, он угасал на наших глазах. В нормальных условиях, возле сыновей и внуков, наверное, прожил бы еще много лет. Для нашего вагона требуется железное здоровье. Постоянный холод, грязное тело и зуд. Угольная пыль в носу, во рту, в ушах и в глотке. Вонища от параши, которую ничем не прикроешь, не изолируешь. Воздух густой, как сама моча. Мякишев успокаивает: «Скажи спасибо, что зима – холодно, зато не так вонюче и не так грязно». Летом было бы еще хуже.
Вспоминаю с горечью: первые недели Кровяков лежал на самом скверном месте – у параши. Только после «укрощения блатных» устроили его получше. По очереди ухаживали за стариком, кормили, умывали – сам не мог. Кто-то, кажется Севастьянов, ухмылялся: «Напрасны ваши ласки и хлопоты, не помогут». Теперь Севастьянов который раз подходит к покойнику и молится, нагоняя тоску своим бормотанием.
Володя и я условились с самого начала ничему не поддаваться: ни холоду, ни грязи, ни отвращению, ни плохим настроениям. Терпеть, и никаких гвоздей!
Болен Дорофеев. По заключению Гамузова, у него что-то с печенью или с желудком. Надо бы попросить конвой высадить на крупной станции, где есть больница. Бывший прокурор яростно возражает, он чего-то страшится, все твердит: «Если высадят – конец».
Зимин боится ослепнуть. Он пытается этого не показать, но я вижу его тревогу, замечаю, как он протирает веки чистой тряпочкой. Ему нельзя лежать на нижних нарах – там совсем темно. Каждый из нас готов отлежать внизу его очередь, но он не разрешает – чем я лучше других? А тут еще «жлоб» Воробьев, раз в три дня он меняется местами с Зиминым и ревностно следит, как бы «комиссару» не сделали поблажки.
Час за часом недуг отнимал у Кровякова все людское. Сознание его омрачалось, гасло. Нет, хуже всего, страшнее всего потерять разум! Как это верно сказано: «Не дай мне бог сойти с ума, лучше посох и сума».
Кровяков умер. Вагон говорит: отмучился. Верно, перестал страдать от своих безумных видений, после них непереносимо хотя бы на секунду прийти в себя. Кровякову чудились сыновья. В омраченном сознании он принимал за них меня и Володю либо Петра Ващенко с Агошиным. «Сыны… Сынки… Детки…» – шептал он и широко, радостно улыбался.
Тюрьма хуже всего, хуже самой страшной болезни, хуже самой смерти. Если б я знал, что сидеть мне придется долго, я бы не стал жить, я бы умер.
Так и эдак верчу в руках письмо Короля Лира сыновьям. Несколько раз принимался писать под его диктовку. Старик, обретя на короткое время сознание, диктовал только добрые, ласковые слова. Скрепя сердце я записывал их. Потом Кровяков просил: «Порви, не надо». Последнее письмо он тоже велел порвать. Оно уцелело, я не успел выполнить его волю. Как же быть теперь?
Советуюсь с вагоном. По-моему, надо послать другое, наше коллективное письмо. Володя сразу соглашается. Зимин и Фетисов соглашаются пораздумав. Севастьянов не может понять:
– Старик помер, к чему все это?
Володя говорит:
– Не слушай, Митя, пиши. Пусть прохвостам будет тошно, пусть помучаются, может быть, у них все-таки проснется совесть.
И я пишу кровяковским сыновьям про нашу тюрьму на колесах, где мучился до конца жизни их отец. «Ваш отец не жаловался на холод и голод, на вонь и грязь, он жаловался на каменные ваши сердца. Теперь он умер, он вас больше не побеспокоит. Мы, товарищи вашего старого отца по несчастью, шлем вам наш плевок в лицо, наше презрение!»
Вагон одобрил письмо, поставил подписи, даже Севастьянов и Сашко подошли и подписали. Мякишев расписался и сказал:
– Справедливо. Всегда бы так с подлыми людьми, чтобы земля у них под ногами горела.
На очередной остановке конвой вытащил из вагона Короля Лира.
– Еще одним бедолагой меньше, – пробасил Мякишев в мертвой тишине.
– Но за нами еще два письма, – сказал я, чтобы сбить, отогнать гнетущее настроение.
– Еще два? Кому же?
– Двум мерзавцам: тестю Коли Бакина и начальнику Пиккиева.
– Верно, Митя. Пиши.
Я пишу письмо в трех экземплярах, потом другое, тоже в трех. «Знайте, что мы, товарищи по несчастью, не простим вашей подлости. Помните: рано или поздно мы вернемся и потребуем от вас ответа за преступление».
Снова заспорили: подписывать или пустить так? Эти подонки получат письмо и донесут, им не привыкать.
– Ответим, если придется. Семь бед – один ответ. В благородном деле все должно быть честно, чисто.
Все согласились с Зиминым, и затем долго продолжалась процедура подписания.
Когда вагон тронулся, я, выждав немного, выбросил из окошка один за другим шесть треугольников.
В вагоне, несмотря ни на что, я много думал о своем призвании. Вспоминал о беседах с отцом, убежденно твердившим: «В искусстве нельзя без глубокого знания жизни».
Чтобы развлечь товарищей, я копировал Агошина с его куском масла на капоте, товароведа Петреева, пытающегося «списать» целиком Мосторг. Аплодисменты грохотали, как в настоящем театре. Со всех сторон кричали: «Ты настоящий артист, Митя!»
Я-то знал, далеко мне до артиста. К самодеятельности в школе и на заводе прибавилась самодеятельность в тюрьме, только и всего. Петро точно заметил: «Мы с тобой народные артисты в масштабе вагона с решеткой и парашей».
Многими часами под толчки вагона и скрежет колес я мечтал и ругал себя: о чем думаешь, дуралей? Твой театр – лагерь, куда тащит тебя судьба. Твой театр – тачка и лопата или двуручная пила. Прибегая к словарю блатных: бортом, Митя, бортом! Наша не пляшет!
ОПЯТЬ ТЕ ЖЕ ГАЗЕТЫ
Утро началось с бурного веселья блатных, они плясали возле печки, в которой энергично гудел огонь. Пылал он недолго. Вернувшись на свои нары, урки философствовали:
– От политики, известно, мало толку – вспыхнуло и погасло.
Не сразу разобрались: в печке сгорели сокровища Зимина – старые газеты. Комиссар рассердился, впервые накричал, выругался.
Рассердился не он один. Газеты последнее время вошли в быт вагона. После утренних немудреных хлопот, после завтрака «чем конвой послал» многие ждут, когда Зимин усядется на верхних нарах и, поднеся к носу газету (он все хуже видит), начнет читать. Даже те, кто на воле газет не касался и не верит им вовсе, вроде «жлобов», не против послушать.
Теперь газет не стало – и урок костят за варварство. Удивленные, они даже не огрызаются. Но вдруг Зимин сообщает: самые интересные газеты он предусмотрительно спрятал у себя под головой.
– Чего же ты ругался, Матвеич? – спрашивает Мякишев.
– На всякий случай, для профилактики.
– Давай начинай, чего драгоценное время теряешь, – басит Воробьев.
– Митя, приступим, – подзывает меня Зимин.
Я помогаю ему забраться на верхние нары, лезу сам, и мы устраиваемся у окошка. «Комиссар» приспособил меня в качестве чтеца.
– Обыкновенные листки бумаги, вот видите, какие мятые, но в них необыкновенный – одна тысяча девятьсот тридцать четвертый год, – так с пафосом начинает Зимин.
– Ха! Чем же он необыкновенный? – насмешливо спрашивает Гамузов. Он стоит у печки. Всем холодно, а ему холоднее, чем всем, и он очень раздражен. – Год и год, самый обыкновенный.
Зимин улыбается и покачивает головой, реплика Гамузова помогает ему завести разговор. Вспоминая эту сцену, я не перестаю удивляться Зимину. Заключенные, едущие в неизвестность, и с ними партийный агитатор, такой же заключенный, как все остальные.
– Наш вагон – печальный факт, что и говорить. То, что с нами произошло, плохо, очень плохо! Но мы не маленькие и понимаем: наш вагон – еще не вся страна, не вся наша жизнь, он капелька. А страна, огромная родина живет, трудится. Вы спрашиваете, Гамузов, чем этот год необыкновенный? Я отвечу. В этом году исполнилось десять лет со дня смерти Ленина – за десять лет усилиями народа страна поднялась и стала могущественной. В этом году мы закончили первую пятилетку и начали вторую. В этом году был XVII съезд партии.
– Вы забыли или хотите забыть еще одно событие этого необыкновенного года! – крикнул Дорофеев, подскочив, словно ванька-встанька.
– Нет, я не забыл, не могу забыть даже если бы хотел, – возразил Зимин, – убийство Сергея Мироновича Кирова.
В молчании, под металлический диалог колес и рельсов, под несмолкаемый перестук и лязг то сам Зимин, то я читаем траурные сообщения. Из рук в руки переходят газетные листы в черных рамках. Отовсюду смотрит на нас сильное, волевое лицо Кирова. Киров на трибуне съезда. Киров на заводе среди рабочих. Вот он идет в Кремль рядом со Сталиным. И вот он в гробу, с закрытыми глазами. Толпы ленинградцев провожают его в последнее путешествие – в Москву. Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов стоят в карауле. Москвичи прощаются с Кировым в Колонном зале.
Неужели прошло всего три месяца? В тюремном вагоне пережитое повторилось с томительной силой. Я вспомнил, как мы всем заводом шагали от Сокольников к центру города на похороны. Вспомнил настороженную и пугающую тишину Колонного зала. Особенно тревожна эта тишина, когда на какую-то минуту смолкает надрывная траурная музыка. Нет, это не тишина, а неумолчный глухой шум шагов тысяч и тысяч людей, идущих мимо гроба.
Убийца Николаев. Он проклят миллионами советских людей. И сейчас его проклинают в нашем вагоне.
– Мало его расстрелять!
– Из-за него, гада, мы страдаем!
– За что же он его?
– Враги подослали.
– Какие враги?
– Зиновьевцы, оппозиция.
– Почему же именно его?
– Говорят другое: Киров уволил его за скверную работу и он обозлился.
– Почему же тогда в газетах пишут: враги, зиновьевцы? При чем тут они?
– А при том, что Киров был любимым учеником и другом Сталина – значит, им как бельмо на глазу! – сказал Фетисов.
– Расскажи: какой он был? – попросил Агошин. – Приходилось встречаться с ним?
– Какой он был? – растерялся Фетисов. – Я встречался с ним не раз. Бывал у него в обкоме частенько, несколько раз он приезжал на завод. – Фетисов задумался. – С ним надежно было, понимаете. Ему верили потому, что не обманывал, не бросал слов на ветер. Требовал, но и умел помочь. Детей любил и очень жалел.
Фетисов рассказывал, а я вспоминал: вот так же просветленно говорил о Кирове отец. Два раза в жизни я видел его слезы – когда хоронили Ильича и когда он узнал о гибели Кирова.
– Киров любил Сталина, словно отца родного, – сказал Фетисов. – И Сталин видел в Кирове своего преемника и опору.
– Послушайте, что ленинградские рабочие писали ему. – Зимин поднес газету к очкам. – «Мы хорошо знаем, как тебе тяжело в эти дни».
– По крайней мере, не тяжелей, чем нам! – проворчал кто-то.
– «Смерть Кирова дорого обойдется врагам», – читал Зимин письмо москвичей ленинградцам.
– Красиво сказано, а? Честное слово: красиво! – обрадовался вдруг Гамузов и зацокал языком.
– Чудак ты, доктор. «Красиво»!
– Да, обошлось дорого не одним врагам. Рикошетом к нам отскочило, уложило тысячи! – вздохнул Володя. – Кто бы умный объяснил: зачем нас-то? Мы зла Кирову не желали.
– Сунули тебя в тюрьму, значит, желал! – захохотал Кулаков.
Урки загалдели, им надоела политграмота. Зимин начинает читать постановление ЦИК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы».
– Это очень важно! Тихо! – привстал Дорофеев.
– Тебе важно, нам не важно! – огрызнулся Кулаков и попытался затянуть песню. Кто-то стукнул его, песня оборвалась.
– Пункт первый, – четко выговаривал Павел Матвеевич. – «Следствие по этим делам заканчивать за десять дней». Пункт второй: «Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела». Пункт третий: «Дела слушать без участия сторон». Пункт четвертый: «Обжалование приговоров не допускать». Пункт пятый: «Приговор к расстрелу приводить в исполнение немедленно».
– Страшные пунктики, – протянул в общем молчании Ващенко.
– Эти пунктики окончательно узаконили беззаконие, – тыча пальцем в Зимина, зло сказал Дорофеев. – Начало было положено раньше, за несколько месяцев, когда создали Наркомат внутренних дел, назначили наркомом Ягоду и учредили так называемые тройки. Суды для политических дел упразднили. Если ты, к примеру, украл кило колбасы или бутылку водки, тебя будут судить по нормальному закону. Но если на тебя какой-нибудь подлец донес, что ты против Советской власти рассказал анекдот или позволил себе в чем-то усомниться, тебя хватают ночью, суют в «черный ворон», быстренько оформляют дело, вызывают один-два раза на допрос – и готово! На свете появляется еще один классовый враг. Для внесудебного органа – тройки этой самой – участие сторон не требуется. Какое тут участие сторон, когда закруглиться надо в десять дней? Для невидимой тройки не обязательно участие самого обвиняемого: приговор она выносит заочно, не видя в глаза того, кого судит. Обжалование приговора тоже не полагается. Вот вам и пунктики. Все предусмотрено, чтобы человек не мог доказать своей невиновности.
Дорофеев выкрикнул свою горькую тираду и опять улегся.
– Вы так кричали на всех нас, особенно на Зимина, будто мы придумали этот закон и невидимые тройки, – сказал Володя.
– Неужели прокурор говорит правду? – огорченно спросил Петро. – Ведь какое бесправие получается, маменька моя!
Дорофеев вскочил в бешенстве.
– И вы спрашиваете: правда ли? Значит, на своей шкуре не испытали?
– Кто же мог все это придумать?
– Подписал постановление тот, кому положено подписывать: Калинин. Кирова убили первого декабря, и в ночь на второе Калинин подписал. Ему позвонили по телефону из Ленинграда и продиктовали все пунктики, которые торжественно прочел Зимин.
– Кто же продиктовал? Кто может диктовать Калинину?
– Не знаю. Кто-то может, видно.
– Черт знает что! Зачем потребовался незаконный закон?
– Написано: для борьбы с террористами и террористическими организациями. Каких террористов покарали, не знаю, а невинных людей пострадало много. Здесь в вагоне я террористов не вижу, зато вижу мальчишек вроде Промыслова.
– Вы уж подождите укладываться, – Фетисов решительно подошел к Дорофееву, будто хотел силой помешать ему лечь на место. – От ваших речей все время такое впечатление: вы знаете больше, чем написано в газетах. Или пускаете дым в глаза?
– Верно сказал, Николаич, – подхватил Мякишев. – Прокурор все дразнит нас. А я хочу спросить у него: разве могут прокурора в тюрьму, как нас, простых смертных?
– Надо мной стоял прокурор повыше, – буркнул Дорофеев.
– За что же он вас?
– За правду, если хотите знать. Как раз за то, что возразил против несудебных органов, пытался сказать о незаконности постановления.
– Кому же возразили?
Мякишев не отставал, а Дорофеев, видимо, досадовал на свою несдержанность.
– Начальству, – ответил он и махнул рукой.
– А оно что, ваше начальство? – допытывался Мякишев.
Дорофеев разозлился.
– Слушайте вы, бывалый человек! Черт бы вас побрал совсем!
Он тяжело плюхнулся на свое место.
Я ждал реакции Зимина и не дождался. Он растирал окоченевшие пальцы, потом снял очки, обнажив усталые глаза, и провел руками по лицу, как бы умываясь. Мне кажется, он обдумывал сказанное Дорофеевым.
– Давайте еще почитаем, – предложил Зимин. – Митя, прошу.
Я читал о траурном митинге на Красной площади. Об аресте лиц, готовивших террористические акты против деятелей партии. О письме двухсот тысяч рабочих Сталину: «Отомстим за смерть дорогого Сергея Мироновича». О приговоре по делу террористов в Киеве. О процессе зиновьевской группы. О гневных откликах на процесс: «Их надо уничтожить… рабочие требуют расстрела…»
– Злодеев надо уничтожить, конечно! – Гамузов, сверкая глазами, раздувал ноздри.
– Эх, доктор! Опоздал ты. Их уже и нет на свете, – укоризненно покачал головой Мякишев.
– Почему же нету? Живехонькие! В тюрьме газет не прочтешь, вот и не знаете ничего, – объявил Дорофеев, уже не поднимаясь. – Пусть Зимин подтвердит: Зиновьеву дали десять лет, как мне, например. Каменеву – пять, как Фетисову или вам, Мякишев. Остальным еще меньше: кому три, как Мите Промыслову или нашему старосте.
– Врешь, прокурор! Факт, врешь! – заорал Мякишев. Он в упор смотрел на Зимина, однако тот не опроверг прокурора.
– Если не врет, тогда совсем не понимаю, а? – волновался Гамузов.
– В самом деле, – недоумевал и Петро. – Почему к ним так жалостливо?
– Если виноваты они в убийстве Кирова, жалеть нечего. Не виноваты – нельзя давать и два года. Другого подхода быть не может, – рассудил Володя.
– Нас, значит, к главным врагам приравняли, – с болью сказал кто-то. – Их всенародным судом и напоказ через газеты. А нас втихую, без всякого суда. Знаешь, Пал Матвеич, хватит твоих газет, ко всем чертям!
Мы, не исключая Зимина, сидели притихшие. Словно выстрел грохнул вдруг взрыв хохота урок – им, должно быть, показалось забавным уныние политиков.
Ты удивлялась – что это я зачастил в Ленинскую библиотеку? Вечер за вечером проводил за чтением старых подшивок «Правды». Старался заново пережить, понять время, стремительно протащившее меня, словно былинку, в своем неотвратимом потоке.
И произошло так, что ко мне вернулось пережитое, тюремный вагон. Услышал глуховатый голос Зимина, увидел угрюмые заросшие лица своих спутников, почувствовал тепло прижавшегося Володи.
Переворачивая страницы, я торопился найти знакомое. Находил и радовался: вот эту статью дважды читал по просьбе Зимина, из-за этого сообщения разгорелся спор.
Наваждение исчезло не сразу, а когда оно спало, я читал статьи и заметки как бы иными глазами. И, знаешь, меня потрясло… Я ощутил жгучее чувство протеста.
– Не понимаю, Митя.
– Сейчас объясню, потерпи. Зимин, конечно, не ошибался. 1934 год был большим годом в жизни страны, вехой в великой стройке. Газета убеждает в этом.
Но понять истину мешает фанфарное славословие Сталину. Каждый абзац статьи, почти любой период речи государственного деятеля, каждое письмо или документ начинаются или заканчиваются словами «гениальный» и «да здравствует». Громадную статью Радека в новогоднем номере 1934 года под названием «Зодчий социалистического общества» неприятно читать. Лесть доведена в ней до грани, после которой только пародия или карикатура. Радек был знаменит своей иронией, ядовитостью, а тут захлебывается в сладкой слюне.
Полистай старые газеты и сама услышишь, как они вопят: уже в 1934 году, в десятую годовщину со дня, смерти Ленина, вовсю расцвел зловещий цветок культа личности, уже тогда на жизнь советского общества легла тяжелая бетонная плита диктаторского всевластия.
Я нашел в газете то самое письмо колхозницы, о котором шли разговоры в вагонзаке: «Спасибо тебе, товарищ Сталин, что ты нас заметил и оценил наши труды». Так и вижу ползущим на брюхе человека, сочинившего это письмо старой женщины.
Ты вправе упрекнуть: хорошо быть умным задним числом. Верно, не спорю. Я ведь и ругаю самого себя, и радуюсь новым своим глазам. Сняты нелепые шоры, они не мешают смотреть, и то, с чем раньше мирился, нестерпимо для меня, человека шестидесятых годов. Конечно, и сейчас немало пустозвонства и треску по привычке, но нет же этого одуряющего молитвословия божеству. Возвращаемся к нормам и нравам, приличествующим нашему обществу.
Ответственность за судьбы революции обязывает крепко помнить урок. Нашему обществу удалось избавиться от Сталина. Но полностью ли, во всем ли? Нет, к сожалению. Зловещий сталинский гений подобно радиации оказал проникающее вглубь воздействие на всех – на одних больше, на других меньше. Есть среди нас мелкие политиканы, авантюристы по натуре, холодные дельцы, для которых не существует, кроме личной корысти, никаких святынь, есть просто люди с рабской психологией, по их представлениям, они больше потеряли, чем получили, такие все еще оглядываются назад и готовы быстренько признать нового бога, ежели он вдруг вознесется на нашем небе. Только мы твердо знаем: любые потуги утвердить новый кумир обречены на провал. Верно или нет?








