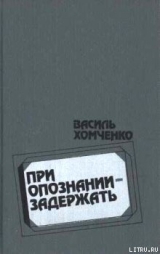
Текст книги "Облава"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
– Теперь готов. – Ворон-Крюковский энергичным жестом сбил на затылок свою смушковую чёрную кубанку, долгим взглядом посмотрел в глаза Сорокину, словно о чем-то раздумывая. У Сорокина захолонуло в груди, отвернулся от этого взгляда. В этот самый миг Ворон-Крюковский и выстрелил ему в затылок. Обоих убитых столкнул с берега в Днепр.
Банда между тем готовилась к маршу, Шилин был в седле. Ворон-Крюковский подкатил к нему на таратайке и доложил, что приговор исполнил.
– Матроса?
– Ага, матроса.
– А тот?
– Очкарика не стал. Как вы и сказали. Он там, в сарае.
– Ладно, пусть живёт, – произнёс Шилин, полнясь ощущением собственного великодушия. – Пусть живёт и помнит. – Оглянулся на своё войско, которое не выросло, как он надеялся, а наоборот, уменьшилось числом – в бою было потеряно шесть человек, снял фуражку. – Пусть вам всем будет земля пухом, – сказал, обращаясь ко всем убитым – своим и чужим.
Ворон-Крюковский тоже снял кубанку:
– Пусть… будет пухом.
В Захаричах в этот же день хоронили убитых: Парфена, гармониста Юрку – их убили в лесу во время погони – и двоих крестьян, застреленных за то, что вступились за своих дочерей. Убитых сперва отпевал отец Ипполит, потом прощальное слово сказал командир красного отряда Пилипенко. Это был красивый двадцатилетний хлопец в гимнастёрке из красного сукна с «разговорами», в красных галифе, в шлеме с нашитой красной звездой.
– Дорогие граждане и гражданки! – сказал он. – А также дорогие товарищи бойцы. Разная бандитская нечисть ещё творит своё кровавое дело, убивает наших лучших людей. Вот и сегодня мы хороним тех, кто пал от руки бандитов… Товарищи, а вы знаете, что в бандах и те, кто скрывается от мобилизации в Красную Армию? Они думают, что после окончания войны будут спокойно жить. Как бы не так! Они ответят за все… Товарищи, банду эту мы хорошо знаем. И не раз уже громили. Её атаман – бывший офицер штаб-ротмистр Шилин, он же Сивак. Он не только грабит и убивает наших людей и активистов – он ещё и провокатор. Переодевает бандитов в красноармейскую форму и грабит селян, насилует женщин, чтобы вызвать ненависть к советской власти… Память о погибших товарищах будет вечно жить в наших сердцах.
После его речи дали залпы из винтовок и спели «Интернационал».
А что произошло с Булыгой и Сорокиным, так никто в Захаричах и не знал. Считали, что их увели бандиты с собою.
Докладная
командира сводного отряда Пилипенко губкому
…Банду Сивака-Шилина мы в Захаричах не застали. Должно быть, кто-то предупредил её о нашем приходе, и она рассеялась в лесах. В ходе преследования одной её группы взяли в плен двенадцать бандитов. Они показали, что цель всей банды – пробиться к польской границе и там соединиться с войсками Булак-Балаховича.
Бандиты учинили в Захаричах следующие злодеяния: убили четырех человек, изнасиловали трех женщин, побили шомполами восьмерых мужчин. Отняли у многих хозяев свиней, подсвинков, овец, а также четыре лошади…
Исчезли председатель сельсовета Булыга и уполномоченный из Москвы Сорокин М.О. Есть предположения, что банда увела их с собою с целью или казнить публично перед народом, или в качестве заложников.
…В отряд добровольно вступили для прохождения службы пять бойцов. Я принял от них присягу, выдал винтовки.
Прилагаю также объяснительное письмо местного попа, которое должно заинтересовать чека. В правдивость написанного попом я верю.
Отец Ипполит писал:
Я, священнослужитель Захаричского прихода церкви Воздвиженья Ипполит Нифонтов Субботин, по своей доброй воле, руководствуясь своею совестью, по поводу, который меня тревожит, докладываю. Ко мне на постой был прислан Сорокин Максим Осипович. Его интересовало имущество храма, представляющее историческую и культурную ценность… Храм М.О.Сорокиным был осмотрен, имущество сверено по учётной ведомости. На некоторые предметы им были выданы мне на руки охранные грамоты, на иные – сводная ведомость…
Вчерашнего дня ко мне в дом зашёл вооружённый человек, назвавший себя штаб-ротмистром, командиром отряда повстанцев, и потребовал отвести его в церковь, не говоря, по какой надобности. В церкви он показал мне копию охранной грамоты на крест (видимо, изъята у Сорокина) и приказал показать ему оный крест. Офицер сказал, будто о кресте ему известно давно и якобы тот принадлежит ему по праву наследования, как одному из потомков князя Потёмкина-Таврического. Я не имел никакой возможности отказать офицеру, вынужден был достать крест из тайника и передать ему. Расписку в получении от меня креста офицер выдал, каковую я храню у себя. Поясняю, что крест золотой, с тремя бриллиантами.
9
На какое-то время потрёпанные красноармейскими отрядами банды в Горецком, Мстиславльском, Быховском, Чаусском уездах притихли, забились в лесную глушь. Часть бандитов отсеялась, создав малочисленные группы, – так легче было уцелеть и прокормиться. Сотни дезертиров пришли с повинной и сдали оружие. Несколько человек, в основном это были офицеры, подалось на юг с намерением пробиться к армии Врангеля. А некоторые банды двинулись к западной границе. Однако в лесных чащобах бандитов ещё хватало, и в сельской местности было неспокойно по-прежнему.
…Поредел и отряд Шилина-Сивака. В результате двух стычек с отрядом Пилипенко большинство дезертиров разбежалось, человек двадцать сдалось в плен, исчезла группа земляков-климовчан. Они сбежали ночью, прихватив две подводы с награбленным добром, в том числе с тремя чемоданами Шилина. И осталось в отряде человек сорок. Вот эти остатки и встали как-то вечером на привал в лесной сторожке. Дом был новый, целёхонький, только что окна заколочены досками. Новенькие стояли рядом хлев и сарайчики, колодец со слегка затхлой водой – им давно не пользовались. Сорвали с двери замок, отбили на двух окнах доски, и первым в дом вошёл Шилин. Пахнуло нежилым, каким-то кислым духом, сыростью, плесенью.
Всё было в этом доме: кровати с сенниками и подушками, скамьи, лавки, стол, разная посуда, у припечка – ухваты, чепела, кочерга и помело. В красном углу висели образа Николая-чудотворца и матери божьей. Повсюду лежала толстым слоем пыль, изукрашенная следами мышей. Не было только никакой одежды, да пустым оказался незамкнутый сундук. Почему люди оставили этот добротный дом, было неизвестно.
Шилин приказал Ворону-Крюковскому прибрать в комнате и вышел во двор, присел на лавочке у колодца. Раненая рука уже почти зажила и лишь изредка напоминала о себе тупыми толчками боли.
День с самого утра хмурился и сулил дождь. Небо, затянутое тучами, было серо, как шинельное сукно. Оттуда, из этих туч, шёл неприятный, промозглый холод. У Шилина разнылась нога, раненная ещё в четырнадцатом. Сидит проклятый осколочек, которого во время операции в госпитале не нашли, а во второй раз лечь под нож, когда он дал о себе знать, Шилин не захотел.
Ворон-Крюковский привёл в дом двух хлопцев с наломанными в лесу вениками – наводить порядок, а сам подошёл к Шилину и присел на брёвнышке напротив.
– Что? – неприязненно спросил у него Шилин.
– Так, – ответил тот с усмешечкой. – Удобное брёвнышко, вот и потянуло, ваша благородь.
«Какие у него страшные глаза. Пустые, как у рыбы, – подумал Шилин с брезгливостью и с чувством невольного страха, чего прежде за собою не замечал. – И усмешечка жуткая. Он и убивает с этой усмешечкой».
– Иди помоги прибрать, – сказал ему Шилин.
Ворон-Крюковский сидя козырнул, встал, но пошёл не в дом, а к костру, на котором кипело какое-то варево.
«Хоть бы ты в плен сдался или сбежал, – пожелал ему Шилин. – А лучше, пусть бы тебя укокошили».
То, что отряд уменьшился числом, Шилина не очень чтобы угнетало. Отсыпалась в основном всякая случайная мразь – те, кого привела в стан борьбы против Советов не идея, а возможность нажиться и поразбойничать. Принимая их в отряд, знал, что это за люди, но принимал, не мог не принять, ибо ему нужны были послушные исполнители, которые не гнушались бы стрелять и убивать.
Заморосило. Мельчайшие, почти невидимые капельки влаги, казалось, висели в воздухе и не могли упасть из-за своей лёгкости. Воздух был уже пресыщен сыростью, и она словно цедилась, выпадала на траву. Вся трава взялась росой и мутно блестела.
Шилин встал и пошёл в дом, где успели уже убрать и даже помыть полы. Хотелось побыть одному, полежать, подумать. Прилёг на кровать. Настроение было скверное, болели рука, нога, но больше – сердце, полное горечи. Понимал Шилин, как никогда до этого, понимал: никаких надежд не осталось, он окончательно потерпел крах, как и все те, кто так же надеялся вернуть утраченное. Вокруг него – пустота, он в положении игрока, который пошёл ва-банк, поставил на кон последнее своё богатство – нательный крестик, но проиграл и его. Вся его борьба против Советов, как и потуги всей бывшей элиты России, – впустую. Белая армия разгромлена, будет разгромлен и Врангель – потому Шилин и не искал удачи на юге, – и никакое чудо, никакой бог уже не помогут вернуть прошлое, как нельзя вернуть вчерашний день. Дальнейшая борьба, в святость и правоту которой он так верил, ничего, кроме новых жертв, не принесёт. Да это уже и не борьба, а месть за неосуществлённые планы и мечты. Всё, поздно…
А так близка была победа. Так близка… Только центр Руси оставался в руках Советов. Деникинские воины подходили к самой Москве. Даже и позже, когда он собрал лесной отряд, верилось в победу: мужики взбунтуются, Советы они приняли только на первых порах, клюнули на большевистский лозунг – земля крестьянам. А потом те же мужики застонали от продразвёрстки. Многие в леса подались воевать с Советами, казалось, вот-вот бунт охватит все села. И думалось Шилину: создаст он целую крестьянскую армию с мобильными конными отрядами и пойдёт захватывать волости, уезды, целые губернии… Он сочинил тогда листовку-призыв, в которой писал: «Мираж революции рассеялся. Вместо мраморных дворцов и висячих садов мир увидел бескрайнюю пустыню, загромождённую руинами и густо усеянную могилами. Разрушена величайшая в мире держава, до самых основ опустошено хозяйство многомиллионного народа, вырождается и вымирает сам народ. Потоплены в море крови и все высочайшие человеческие ценности: религия, совесть, мораль, право, культура, опыт веков… Над хаосом витает ненавистный дух разрушения… Все честные люди, крестьяне, вас большинство, интеллигенция, – все в бой за святую Русь!..» Листовку эту Шилин напечатал в тысячах экземпляров, рассылал по сёлам и городам. Призывал в свой отряд, которому дал имя Русского народного воинства. Не вышло, не вырос отряд в армию, и теперь, как доложил Ворон-Крюковский, осталось человек сорок. А вскоре и эти сорок человек ему не понадобятся. Крах надежд, крах иллюзий… Осталось только позаботиться о своём собственном спасении, о детях, о жене, высланной в Петушки. Слава богу, хоть жива, не расстреляли.
Дождь разошёлся, по стёклам поползли потёки, закапало с потолка. В хате потемнело, а на душе стало ещё горше, хоть возьми да пусти себе пулю в лоб. Он поднялся, сел, снял с плеча полевую сумку, в которой были крест, взятый в церкви, и фамильное золото, драгоценности – все его богатство. Крест этот приумножил его и достался на диво легко, без насилия и крови. А хорошо бы, если б он ещё представлял и историческую ценность, скажем, принадлежал князю Владимиру – крестителю Руси. Шилин не устоял против искушения взглянуть на крест. Достал из сумки, развернул лоскут ризы, взвесил на руке – тяжёлый.
Когда клал крест назад в сумку, увидел красную картонку – мандат Сорокина, хотел скомкать и выбросить, да тут вспомнил своего родича (он так и не узнал, по чьей же линии они с Сорокиным в родстве). Вспомнил его не нынешнего, а того нескладного гимназиста, без памяти влюблённого в Милу. «Он узнал тогда о моих ночных визитах к Миле, оттого и возненавидел меня», – усмехнулся Шилин, испытывая прилив жалости. А пожалев того, нескладного гимназиста Сорокина, почувствовал удовлетворение: правильно, что подарил ему жизнь. Пусть живёт и помнит этот благородный поступок, пусть благодарит его, Шилина, за такую милость…
Шилин смотрел на мандат, перечитывал фамилию Сорокина и не решался ни скомкать, ни выбросить этот кусочек картона. Держал в руке, ещё не зная, что станет с ним делать. И вдруг понял, какой бесценный документ у него в руках! Этот мандат откроет ему все дороги и двери, он его и спасёт и даст возможность жить, не боясь за своё прошлое. Он уже не Шилин, не Сивак, он – Сорокин.
Шилин толкнул ногой дверь, распахнул её, крикнул с крыльца:
– Поручик Михальцевич!
Откуда-то из сумерек и дождя вышел заштрихованный его косыми нитями Михальцевич в кожаной куртке, перетянутой блестящими ремнями. Ещё б звёздочку на фуражку – типичный комиссар.
– Зайди, – сказал ему Шилин. – Есть разговор.
Прошли в дом, сели на кровать, засветили свечку, что сыскалась у Ворона-Крюковского. Поручик понимал, что зван на беседу важную, секретную; приблизил лицо к лицу штаб-ротмистра, с подчёркнутым вниманием приготовился слушать. Он был полноват, невысок, с большой головой, пухлым лицом, которые подошли бы человеку более внушительного роста. Слабый свет свечки затрепетал на их коричневых огрубевших лицах. Посмотреть со стороны – заговорщики. Толстенький Михальцевич, с глазами навыкате, как у страдающего базедовой болезнью, и словно высеченный из камня, жилистый, костистый Шилин.
– Что делать будем? – спросил Шилин.
– Не понимаю, – мотнул головой Михальцевич.
– С отрядом что делать? Посоветуй.
– Так у нас же задача: двигаться к границе. В Польше полно русских. Войска Перемыкина, Булак-Балаховича…
– С этими шкуродёрами? – показал Шилин на окно, за которым пиликала гармошка.
– По пути вольются новые. От этих потом отделаемся.
– Новые? Такая же мразь прибьётся. Это, дорогой мой поручик, то же самое, что церковь обдирать да костёл латать.
– Тогда не знаю, что делать. Может, порвать со всем и…
– Явиться с повинной? Не то, поручик, не то.
Шилин протянул Михальцевичу мандат Сорокина. Тот, приблизив лицо к самой свечке, прочёл его, уставился на Шилина своими выпученными, словно застывшими глазами.
– И что? – спросил несмело, как будто стесняясь своей недогадливости.
– А то, что этот мандат может быть и моим документом. Я Сорокин, а никакой не Шилин.
Михальцевич заулыбался, радостно и поспешно затряс головой.
– Понимаю, – сказал он. – А тот, настоящий Сорокин где?
– А что ему тут делать без мандата? Возможно, уже к Москве подъезжает… Так вот: я – Сорокин, уполномоченный наркомата просвещения. А ты мой помощник. Устроим и тебе соответствующий документ. А подпись подделаем знаешь чью? Ленина!
– А отряд?
– Эту шваль за собою не потащим. Завтра объявим, что все они вольны делать что хотят. Пусть ими командует Ворон-Крюковский.
На этой половине хаты они и остались вдвоём на ночь. А Ворон-Крюковский устроился в передней половине на двух скамьях.
…Засыпал Шилин с лёгкой душой, будто вызволился от тяжкой ноши или ушёл от грозной погони. На память пришла фронтовая песня, и он повторял и повторял строчки про горящую землицу-мать, про белого коня, летящего навстречу ночи… Так и уснул с песней в голове.
Ему и впрямь приснился белый конь, и он сам в седле, – упираясь в тугие стремена, мчится по широкому, без конца и края полю, припав к белой конской гриве, и ветер резко сечёт по лицу, и он, Шилин, чувствует себя совсем молодым, ему впервые привалило счастье вот так ощутить простор и скорость полёта. «Ах, как хорошо, как легко мне, как я счастлив, ибо все меня любят и я их люблю, и коня своего белогривого, и это раздольное русское поле…» Но вдруг поле словно оборвалось – впереди отвесная круча и внизу чёрная бездна, там что-то бурлит и кипит. Конь остановился, повернул к седоку голову, словно спрашивая совета, куда дальше скакать, и, не получив его, взвился на дыбы. Шилин вылетел из седла и проснулся…
Склонившись над ним, Ворон-Крюковский тащил из-под головы полевую сумку. Он был одет, на голове – чёрная кубанка. Какое-то время Шилин, как парализованный, не мог шевельнуться, потом сел и схватился за сумку, которую Ворон-Крюковский успел вытащить из-под подушки.
– Что ты делаешь, скотина? – сказал Шилин. – Что тебе нужно в сумке?
В окна цедилась рассветная серость, и в хате было уже довольно светло.
Ворон-Крюковский отпрянул от кровати, выпрямился. Шилин потянулся рукой под подушку за револьвером – его там не было.
– Спокойно, ваша благородь, – тихо сказал Ворон-Крюковский. – Бросьте мне вашу сумку и можете досыпать. – Все та же зловещая усмешечка недобро скривила его рот. – Ну!
Голоса разбудили Михальцевича, но спросонку он не мог понять, что происходит. Все стало ясно, когда увидел, как Шилин, не спуская глаз с наведённого на него нагана, потянул из-за спины сумку. Сумка полетела под ноги Ворону-Крюковскому, тот нагнулся за нею, и в этот момент Михальцевич трижды в него выстрелил. Ворон-Крюковский ткнулся носом в пол и больше не пошевелился.
– Спасибо, дорогой поручик, не изменили боевому братству, – обнял его Шилин.
Утром Шилин объявил всем, что отряд прекращает существование и все могут расходиться, кто куда хочет.
10
Объяснительная записка
председателя сельсовета Ермаченко П.В.
Я, председатель Батаевского волостного совета, даю объяснительную записку товарищу уполномоченному губчека.
К нам в Батаевку привезли на подводе из Потаповки двух товарищей уполномоченных. Один товарищ Сорокин, второй товарищ Лосев, оба из Москвы. Сам видел мандат, подписанный товарищем Ульяновым-Лениным. Вечером они провели сход. На сходе говорил речь т.Сорокин. Говорил по-учёному, грамотно, про две диктатуры: диктатуру пролетариата и диктатуру буржуев, и что первая теперь при власти в нашей стране и все классы она сведёт на нет. На вопрос, кажется, Андрюшкина, а почему нет диктатуры селян, а только пролетариата, Сорокин отвечал, что селяне класс мелкобуржуазный и его надо превратить в пролетариат. Тут кто-то выкрикнул, что ж это получается: селяне то под сапогом царей и панов были, а теперь под диктатурой пролетариата. Товарищ Сорокин сказал, что вскорости будут создавать коммуны, всю землю и всю живность заберут и тогда селяне тоже станут пролетариями. Все закричали, что им не нужно такой коммуны. Товарищ Сорокин назвал крикунов враждебными элементами и сказал, что ими займутся чекисты. Когда уполномоченные ушли, я едва успокоил сход. Таких речей у нас ещё не говорил на сходе никто.
В чем и даю подпись.
Ермаченко
Возвращаясь с собрания, Михальцевич, он же Лосев – сделал себе документ на это имя, – сказал Шилину:
– По-моему, что-то ты перегнул насчёт диктатуры и коммуны – не поверят.
– Ничего не перегнул. Я большевистскую теорию им излагал. А что до коммуны, так я и вправду согнал бы туда все мужицкое быдло. И жён сделал бы общими.
В батаевской церкви они взяли всего-навсего золотой крестик, позолоченные чашу и ложку. Потом зашли домой к попу. Шилин стал писать на изъятое золото расписку, а Михальцевич обошёл и осмотрел все комнаты дома. В одной увидел старинной работы красивый письменный стол. Когда остановился подле него и с интересом начал рассматривать, заметил, как встревожилась попадья. Он догадался, что это неспроста, дёрнул ручку нижнего ящика. Он был заперт. Велел попадье отомкнуть. Та не тронулась с места. Михальцевич пригрозил револьвером, и попадья подчинилась. В ящике стола лежала шкатулка и тоже была на замке. Михальцевич потряс её и велел открыть. В шкатулке были золотые кольца, кулоны, нательные крестики.
– Вот мы, матушка, и конфискуем это, – сказал Михальцевич, вышел к Шилину и поставил шкатулку перед ним на стол. – Эксплуататорское золото, нажитое нетрудовыми мозолями.
– Экспроприируем, – заявил Сорокин, принимаясь писать расписки и на это золото.
– Товарищи комиссары, – запротестовал поп, – кольца венчальные: моё, жены, дочери. Они не подлежат конфискации. Это уже… мародёрство… Такого у нас ещё не бывало.
– А теперь будет. Мы вот и положили начало, – ответил ему Шилин. – И мы не мародёры, делаем это от имени советской власти, официально. Все свои действия, как видите, документально оформляем.
Священник и его жена, конечно же, были напуганы. Попадья схватилась за сердце, села в кресло и закатила глаза.
– Неужели сам Ленин вас послал на такое?.. – робея, спросил священник.
– Сам, святой отец. Золото это пойдёт на укрепление советской власти. А что ей остаётся делать, если в стране разруха и голод?
– Проклятые, – всхлипнула попадья. – Обручальные кольца… Татарва…
– Выбирайте слова, матушка, – набычил голову Михальцевич, словно приготовившись её боднуть. В такой позе он оставался довольно долго, гневно таращил глаза, и Шилин едва сдержался, чтобы не рассмеяться.
– Успокойся, родная, – перекрестил жену поп. – Ну, коль уж с самого верху указания, чтоб сдирать с рук кольца, надо смириться.
Таким же образом, предъявляя мандат, Шилин и Михальцевич осмотрели ещё четыре церкви в уезде, забрали все ценное. Но особенно им повезло в одном местечке. Дознались, что там живёт бывший владелец двух московских магазинов, переехавший недавно на родину. Вызвали в Совет, потребовали, чтобы сдал золото. Тот клялся, божился, что все у него отняли ещё в Москве в восемнадцатом. Тогда его посадили в подвал, пригрозили, что и жена с детьми последуют за ним, продержали ночь, и купец сдался. Повёл домой, в саду выкопал жестянку от монпансье. Там были золото и несколько драгоценных камней. После этой акции Шилин и Михальцевич сказали в Совете, что едут в Гомель, а сами, запутав след, перебрались в другой уезд.
– Поручик, – пошутил как-то в дороге Шилин, – а тебе, я вижу, понравилось быть экспроприатором. Признаюсь, мне тоже. Давно бы нам этак, а не носиться с идеями освобождения русского народа. Слыхал мудрость народную: как ты хлопаешь, так я и танцую? Власть держится на разбое, и мы так же должны жить. А что до русского народа, то он – быдло. Узнал его за это время. Правда была за Вороном-Крюковским, он так и жил. И награбил дай боже. Жаль, мало нам из его добра досталось.
Когда Михальцевич застрелил Ворона-Крюковского, они перетрясли его торбы и нашли мешочек с золотом и серебром – малую толику того, что тот награбил: большую часть Ворон-Крюковский или спрятал, или роздал по родне.
– Я тоже давно расстался с верой в этот народ, – поддакнул Шилину Михальцевич. – Ты справедливо назвал его быдлом… А сейчас что нам остаётся? И таким, как мы? Спасаться. Что ж, каждый спасается в одиночку…
– А мы, поручик, до поры будем спасаться вместе. Так легче. Как говорят, две кошки на одном сале… Вот укрепим свои финансы, и адью! – я уже не Шилин и не Сорокин, а какой-нибудь Петушков. Забьюсь в тьмутаракань и стану жить тихой неприметной жизнью.
Рука у него зажила, он свободно шевелил пальцами – рана, слава богу, была не серьёзная. Как и Михальцевич, он носил теперь кожанку, кожаную фуражку – в соответствии с типичным обликом тогдашнего советского начальства.
– А я в Париж махну, – задумчиво проговорил Михальцевич. – Женюсь на парижаночке, заведу дамскую парикмахерскую…
– Ну, удивил! Парикмахерскую… Сам будешь завивки делать? Ты лучше построй русскую баню. С массажными кабинами. А, поручик, не худо?
– Мудро, идея, – засветился Михальцевич. – Русская баня с парком и берёзовыми вениками. Только где же там найдёшь берёзовые веники…
Гомель, Губчека
Снова получена жалоба от граждан Чериковского, Быховского и Рогачевского уездов, что представители наркомпроса занимаются грабительством. Вменяю вам в обязанность проверить этих людей. Об исполнении телеграфируйте.
Зам. председателя ВЧК








