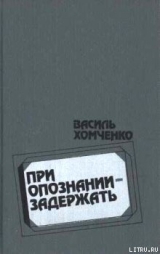
Текст книги "Облава"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
5
А на Тощицы в самом деле напала банда Сивака. Бандиты повесили на крыльце сельсовета его председателя, секретаря, а трех активистов расстреляли. Об этом сообщил милиционер, прискакавший вечером в Захаричи. Он предупредил Булыгу, что банда может напасть и на их село. Милиционер привёз и радостное известие: в уезд прибыл конный красноармейский отряд, который вчера успел уже разгромить другую банду, Мороза, взял её главаря и три десятка бандитов.
В Захаричах ещё год назад был создан отряд самообороны, командовал им Булыга. В отряде насчитывалось двадцать человек, на каждого имелись винтовки. Дважды этот отряд участвовал вместе с милицией в боях, вылавливал дезертиров, навёл милицию на бандитскую базу в лесу. Ночами, когда ожидалось нападение бандитов, самооборонцы собирались всем отрядом, занимали на околице удобную для боя позицию. И на этот раз, услыхав о возможном налёте, Булыга хотел было собрать своих хлопцев, но передумал, прикинул, что бандиты ещё далеко и этой ночью вряд ли сюда сунутся. Сам, однако, пошёл спать на гумно. Такая предосторожность однажды уже Булыгу спасла. Месяц назад бандиты Мороза ночью ворвались в хату, всюду искали его – под печью, в яме под полом. А он тем временем лежал в саду в копне сена, видел их, слышал голоса, мог бы и подстрелить одного-другого, да побоялся за жену и детей.
Стоя на улице, возле хаты, Булыга закурил, подумал о Сорокине. Спохватился, что не поговорил с ним по душам, не угостил чаркой, не расспросил про Москву. «А грамотный мужик, вон как складно и толково говорил. И ведь прав Сидорка: почему без оружия ходит человек? Завтра надо выдать ему наган».
Размышляя о Сорокине, вспомнил вдруг и своего петроградского комиссара: очень уж тот был похож на Сорокина. Оба долговязые, худые, и оба в очках. Может, даже и родня?
Тот комиссар был прислан в отряд моряков из Питера. Бывший студент, он носил ещё форменный студенческий пиджачок. Это был сентябрь девятнадцатого года, когда войска генерала Юденича двигались на Петроград. В одном из боев случилось так, что комиссар и он, Булыга, очутились в окружении беляков. У комиссара наган и граната, у Булыги – винтовка и наган. Кричали им: «Сдавайтесь!» Молоденький прапорщик мальчишеским голосом взывал: «Господа, не будем же проливать нашу русскую кровь. Сдавайтесь, мы вас отпустим с богом. Господа, мы же русские, не немцы!» Белые не стреляли. Не стреляли и комиссар с Булыгой, залёгшие за валунами. Отряд моряков, оттеснённый белыми, отбивался где-то слева, где он занял оборону. А здесь было тихо. Прапорщик, должно быть, решил, что предложение его принято, встал, осмелев, во весь рост и ждал, когда те двое красных тоже встанут и поднимут руки. Встали и несколько солдат, силясь рассмотреть, что за красные там залегли. «Делай то же, что и я», – сказал комиссар Булыге. Спокойно, неторопливо он встал, отряхнул брюки от песка, вытер ладонь о ладонь и так же спокойно пошёл к прапорщику. Булыга – за ним. Когда между ними и прапорщиком оставалось шагов десять, комиссар крикнул: «С дороги! Кого вы пришли убивать? Его? – показал он на Булыгу. – Крестьянского сына? Меня, студента? Кому служите? Юденичу, который хочет потопить в крови Петроград? Ну так убивайте нас!» Комиссар, поравнявшись с растерянным прапорщиком, взял под локоть Булыгу, и они пошли дальше. «Не думаю, товарищ прапорщик, чтобы вы выстрелили нам в спину», – сказал комиссар напоследок, обернувшись. Какими же долгими были те минуты, пока они шли по чистому полю к своим. Булыга и позже, вспоминая тот случай, всякий раз передёргивал плечами, и спина его холодела. Ждал тогда, что вот-вот грянет выстрел и пуля ударит в спину – именно в спину, не в голову, не в плечо, не в ногу, – и он рухнет на то голое мокрое поле. Поверили, что спасены, только после того, как вскочили в ров…
Назавтра комиссар был убит осколком снаряда, Булыгу тяжело ранило. На этом война для него и кончилась. Вернулся домой в Захаричи и вот тут председательствует.
«Как же я забыл фамилию того комиссара? Может, и он был Сорокин? Так похож…» – сожалел Булыга. Ладно, завтра поговорит с Сорокиным, обо всем расспросит.
…А в это время Сорокин сидел с отцом Ипполитом за столом. Пили чай, разговаривали. Говорил больше Ипполит, Сорокин расспрашивал да слушал. Поп был рад: ещё бы, московский комиссар, партиец, учёный человек не гнушается его саном, интересуется церковью. Свои же, местные интеллигенты – учителя да ветеринар – стали избегать поповского дома, хотя ещё недавно почти каждый вечер собирались у него.
– Да, сын мой, – говорил Ипполит. – Такое время – не знаешь, как жить. Будешь сладок – слижут, горек – заплюют. Месяц отсидел я в могилевской каталажке. Скажите, чем я вам мешаю? Что в бога призываю верить? А во что же верить, если не в бога? В человека, который возвысился над толпой? Но ведь он всего-навсего человек… Я очень вам, Максим Осипович, благодарен за то, что сегодня заступились за меня. Но храм все-таки закроют и, вероятно, разрушат.
– Разрушат? А вот этого варварства допустить нельзя, – взволнованно проговорил Сорокин. – Ни в коем случае нельзя… – Он резким, нервным движением снял очки, вылез из-за стола, походил взад-вперёд по комнате и опять сел. – Об этом я напишу губернским властям.
За время чаепития Сорокин разузнал обо всем, что его интересовало: какие иконы имеются в церкви, молитвенники. Ипполит достал из комода толстую книгу, положил на стол перед Сорокиным:
– Здесь опись всего имущества. Записано до последнего подсвечника. Я и настоятель, и ключник.
Сорокин так и подскочил, прочтя только первую страницу. В книге значилось рукописное Евангелие шестнадцатого века. Была там также икона «Варвара-великомученица» работы 1684 года известного мастера из Ростова Великого Изосима.
Не тая радости, хлопнул ладонями по столу, встал, опять сел.
– Подумать только, какая удача, – говорил он. – Не приедь я сюда, что было бы с «Варварой», с Евангелием…
– То же, что произошло с книгами и иконами из козловичской церкви. Книги пожгли, иконы растащили, поразбили, – ответил Ипполит. Он перелистнул несколько страниц книги-ведомости, ткнул пальцем в строчку: – Читайте здесь.
– Причащальный крест? И чем же он замечателен?
– Золотой. Украшен бриллиантами.
– Бриллиантами? – не поверил Сорокин.
– Не сомневайтесь, Максим Осипович, – глазки отца Ипполита весело полыхнули синевой, – истинная правда.
– Такой дорогой крест? Как же он мог попасть в сельскую церковь?
– От князя Потёмкина-Таврического. Это доподлинно. Но как крест стал собственностью нашей церкви – не знаю. Возможно, князь подарил его русскому духовенству и уже какой-то святейший отец пожертвовал захаричскому храму. А скорее всего, кто-нибудь по ошибке принял крест за подделку.
– И его до сих пор не пытались присвоить… ну, украсть?
– Его подлинной ценности не знает даже отец диакон. Да и хранится он в потайном месте.
Сорокин посмотрел на Ипполита с недоверием. Тот, заметив это, осенил себя крестом, приложил руки к груди:
– Истинную правду вам говорю. Есть такой крест.
– Верю. Но вы сказали, что никто, даже дьякон не знает о его существовании. Почему же вы мне доверились?
– Не усматривайте здесь подкупа, Максим Осипович. Я вам в самом деле поверил. Вы человек справедливый и образованный. Вы заботитесь о том, чтобы спасти и сохранить исторические ценности. Вот и берите на сохранность все, что есть интересного для вас в нашей церкви. Церковь закроют, в этом уже нет сомнений. И бог весть к кому могут попасть тот же крест, старинные иконы, книги. Поэтому и открыл вам церковную тайну. Хочу только посоветоваться: как быть с крестом?
Ответить на этот вопрос Сорокину было нелегко. В самом деле: как быть с крестом? Оставить его в церкви или реквизировать сейчас же? А если реквизировать, то кому сдать? В уезд? Председателю Булыге? Везти с собою в Москву? Так он ничего определённого и не посоветовал. Только и сказал, что завтра осмотрит крест и тогда, возможно, придёт к какому-нибудь решению.
Опись церковного имущества Сорокин перечитал дважды, все, что его заинтересовало, выписал в свою книжку. Ипполит притих, подпёр кулачком жиденькую бородку – то ли устал за этот суматошный день, то ли задумался. В доме было тихо, только отсчитывал секунды маятник ходиков да из-за двери в соседнюю комнату доносился негромкий, с присвистом храп Проси. Где-то в подполье скреблась мышь, изредка потрескивала лампадка, бросая дрожащие отблески на стекло и оклады икон.
Пожелав Сорокину спокойной ночи и перекрестившись, Ипполит вышел.
Спать Сорокину не хотелось. Он погасил лампу, постоял немного, пока глаза привыкли к темноте, отворил настежь окно в сад. Сел подле окна, опершись локтем на подоконник. Сентябрьской, по-осеннему резкой свежестью дохнуло в лицо, в комнату потянуло приятной прохладой. В саду с мягким шпоканьем падали яблоки, попискивала время от времени какая-то пичуга, пахло винно-сладкой прелью листьев и трав. Небо было тёмное, с редкими мерцающими звёздами.
Сидел у раскрытого окна долго. Потянуло туда, под это звёздное небо. Чтобы не разбудить Ипполита, не стал искать двери – вылез в окно. Склоняясь под яблонями, подался вниз, к реке. Она черно поблёскивала, полная таких же мерцающих звёзд, как и на небе. Тихий ночной Днепр манил к себе с колдовской неодолимой силой, и Сорокин , подчиняясь этой силе, казалось, не сможет остановиться – так и войдёт в воду.
Остановил его негромкий говор. Он замер от неожиданности. Говорили двое – мужчина и женщина. Принял в сторону, но тут-то их и заметил: сидели прямо на земле, на подостланной соломе, которая словно обвивала их белым венком. Он в чёрном, и она в чёрном, только непокрытые у обоих головы светлели. Парочка влюблённых, сельская пастораль, конечно же, молодые. Сорокин хотел было отойти, оставить неизвестных наедине с их любовью, но вдруг узнал голоса, сперва – её, потом – и его. Это были голоса Катерины и Булыги.
– Мишенька, родной мой, не могу я так… У тебя же двое деток да жена. И у меня сынок. Не могу…
– Да не про развод я. На кой черт он мне сдался.
– Мишенька, поздно.
– А это всегда поздно или рано. Когда-то любила. Помнишь, клялась: без тебя мне не жить, повремени, успеем пожениться?..
– Было такое, Мишенька, было. И сейчас люблю. Бог меня или тебя наказал за что-то и не свёл нас. Это ты прогневал бога, ты его не признаешь.
«Так вот почему Катерина не пришла к ужину», – подумал Сорокин с ревнивой завистью.
Отступил назад, за куст, чтобы его нельзя было заметить.
– …Мишенька, не надо. Миша!.. Как же я твоим деткам в глаза посмотрю. Не надо!
Тот что-то коротко сказал, словно сквозь зубы, а Катерина вскрикнула:
– Пусти, нахал! Не надо, слышишь… Прошу тебя. Не ломай руки, больно… Вурдалак, чудовище… Бандит ты, Мишенька… Нельзя же так, Мишенька… Миша… Дорогой мой, родной мой…
Слова прерывались короткими поцелуями и вскриками…
Сорокин ринулся в глубину сада, напоролся плечом на сук, яблоня содрогнулась, хлестнула веткой по лицу, едва не сбила очки. Зашпокали о землю яблоки. Влюблённые, конечно же, не слышали этого шума, даже и не подозревали, что кто-то мог проникнуть в их тайну.
Уже в другом месте Сорокин снова спустился к Днепру и попал в густой ольшаник. Небо было заслонено ветвями, и плотный мрак упал на Сорокина холодным волглым грузом, сковал каким-то неприятным чувством и тревожным возбуждением. Отчего – он сам не знал. Заныло внутри, назойливо затикало, как будто к сердцу были приставлены маленькие часики, они и тикали, вызывая раздражение и предвещая что-то недоброе. Злясь на опавшие листья, громко шуршащие под ногами, и на самого себя – что за дурацкие предчувствия? – он выбрался из ольшаника на открытый берег, присел на корягу. Он понимал, что это внезапное беспокойство есть не что иное, как вещий знак и сигнал грядущей беды, от которой он должен себя оберечь. И чем больше думал об этом, тем сильнее возбуждался и тревожился. Подобное он испытывал в этой командировке впервые. Ходил, ездил по глухим лесным дорогам, ночевал в таких же сёлах и не знал этой тревоги, не боялся, и, слава богу, все худое обходило его стороной.
«Чего это я так взвился, нагнал на себя такую блажь? – подумал он, силясь взять себя в руки. – Неужто эти влюблённые так подействовали?»
И тут же, как выстрел из-за куста, – мгновенное воспоминание, далёкая история, связанная с первой, принёсшей ему страдания, любовью. История эта произошла в детстве, и давно бы пора ей забыться, да вот помнилась, потому что было у неё позднее продолжение. Не мог Сорокин знать, что она ещё не окончена, а тем более не знал, каким будет её конец.
Память уцепилась за то давнишнее – незабываемое и горькое, и Сорокин испытал такую же, как тогда, боль и такое же отчаянье.
6
Это было, когда он после восьмого класса гимназии во время летних вакаций приехал к тётке Анфисе Алексеевне в Тверскую губернию. Там, над Волгой, у неё была небольшая усадебка, и ему, Максиму, тётка отвела в мезонине просторную комнату. Старая, с широкой кроной липа росла перед домом, ветви её доставали до самых окон. А если встать на перила балкончика, то можно было влезть на липу и по ней спуститься во двор. Этим способом сообщения Максим частенько пользовался, за что тётка злилась на него и грозила отправить племянника обратно в Москву.
Туда же немного погодя приехала и дальняя тёткина родственница Эмилия, которую тётка и прислуга звали то Эми, то Мила. Милой звал её и Максим, потому что ему она в самом деле была мила. Он влюбился в неё по уши, сразу же, в ту самую минуту, когда она протянула ему для знакомства тонкую смуглую ручку. Он только на миг заглянул ей в глаза – они были, как тёмный мёд, широкие, с янтарным блеском, – и… забыл подать руку в ответ. Мила рассмеялась, поняв причину этого смущения, сама взяла его ладонь кончиками пальцев, легонько пожала.
– Какой ты длинный, – сказала, обращаясь на «ты» на правах старшей: Мила после гимназии успела уже окончить двухгодичные медицинские курсы. Встала рядом, чтобы померяться. – Я тебе только до плеча. И имя твоё, Максим, означает – большой. – Сняла у него с глаз очки, надела себе. – Ой, ничего не вижу, – и тут же отдала.
Белое батистовое платье с лёгким вырезом на груди (он осмелился заглянуть за тот вырез), с короткими рукавчиками было ей, яркой брюнетке, очень к лицу. Лето только начиналось, а Мила успела уже обзавестись смуглым шоколадным загаром, какой бывает только у брюнеток. «Я как таитянка», – хвастала потом все время своим загаром.
Позднее, уже приглядевшись к Миле, Максим заметил, что её личико, прятавшееся в пышных чёрных волосах, было как бы составлено из двух контрастных частей. Детский круглый подбородок с ямочкой, ямочки на щеках, пухлый маленький рот, а над этим – высокий и сильный лоб с густыми бровями. Лицо одновременно и ребёнка, и мужчины. Она то по-детски цвела ямочками, то по-мужски строго и хмуро сводила брови.
Смеялась она звонко, заразительно, смех её вливался Максиму в душу животворным бальзамом, от него сердце щемило сладкой болью.
Дни, проведённые с нею, были ну просто какие-то многоцветные, словно на них лежали яркие радостные краски. Подвижная, как жужелица, категоричная в суждениях и уступчивая в поступках, порывистая – вот такая она была. Часто зачем-то ездила в Тверь, в Старицу, появлялась на два-три дня, словно вспыхивала молнией, ослепляла своей яркостью, энергией, красотой и опять исчезала. Она, конечно, видела, как влюблён в неё Максим, ей это нравилось, и она отвечала искренней приязнью, дарила поцелуи, правда, чаще всего на бегу, потому что всегда куда-нибудь спешила: из дому в сад, из сада в дом, на Волгу, причём часто тащила его за собой, и он был счастлив, что мог исполнять её просьбы, желания, капризы.
«Журавлик мой, – говорила она Максиму, имея в виду его долговязую фигуру. – Радуйся, я скоро тебя полюблю».
Каждый вечер на веранде пили чай. Тётка, полная, властная, бездетная женщина, этакая матрона, с закрученной в корону золотистой косой, садилась во главе стола. Её муж Илья, безвольный, хилый с виду выпивоха, за чаем почти все время молчал. При попытках втянуть его в разговор отнекивался: «Помолчу, так, глядишь, за умного сойду». Его бесцветные глаза, прикрытые припухшими синюшными веками, смотрели в стол, хмельная голова то и дело клонилась вниз, и ему нелегко было её удерживать. Лицо Ильи всегда было мрачно, как будто этот человек отродясь не видел ни чистого неба, ни ясного дня, ни доброй улыбки, ни разу не слышал доброго слова.
После ужина тётка играла на рояле, Мила пела. Максиму одному выпадало их слушать и хлопать в ладоши, ибо Илья всегда, едва начиналось музицирование, уходил в свою комнату и допивал там то, что не успел выпить за день.
Купались на Волге вместе, загорали порознь. Мила облюбовала для себя безлюдное местечко и жарилась на солнце нагишом. И без того смуглая, она, спустя какое-то время, сделалась чёрной, как негритянка. Вечерами, когда прогуливались в саду, лицо и руки её совсем растворялись в темноте и белое платье, казалось, двигалось само по себе, без человека, – фантастическое зрелище!
Милина комната находилась аккурат под комнатой Максима, и когда Мила, бывало, позовёт его, Максим, показывая свою ловкость – надо же было чем-то похвастать, – с балкончика перебирался на липу и спускался по ней вниз. Однажды и ей захотелось так же спуститься. Прошли через комнату Максима на балкон. Она оплела рукой его шею и сказала, глядя вдаль: «Однажды Овидий, будучи со своей любимой наедине, произнёс такие слова: мы вдвоём, нас большинство в мире. Понимаешь, Максим, мы вот сейчас тоже вдвоём, и мы – большинство. Большинство!» Наклонила его голову и поцеловала горячо и коротко. Он хотел было тоже её поцеловать, но она ловко увернулась, встала на перила, перебралась на сук и куда проворнее, чем он, слезла вниз.
Это длилось три недели. Однажды тётка Анфиса известила, что из Петербурга приедет погостить её родич, молодой человек, корнет, только что окончивший кавалерийское училище. Он, как выяснилось, был какой-то роднёй и Максиму с Милой, правда, далёкой. Максим воспринял новость ревниво. Ещё не повидав корнета, уже возненавидел его как возможного соперника и молил бога, чтобы тот офицерик не приехал. Пусть бы его не отпустили, пусть бы началась война и полк корнета отправился бы на фронт…
Но войны не было, отпуск корнету положен был по закону, и тот молоденький офицерик приехал. Не в кавалерийском мундире, а в штатском, стройный, гибкий, каким и должен быть корнет. Он был франт, щёголь до мозга костей, от пуховой шляпы до ногтей с маникюром, от шёлкового галстука с бриллиантовой капелькой на золотой булавке до модных лаковых штиблет. Он то бывал легкомыслен, дурашливо весел и из-за какого-то пустяка, вовсе не смешного, мог хохотать, складываясь чуть ли не пополам, то вдруг становился капризным, злым и тогда походил на нервного, избалованного ребёнка. Но последнее случалось редко – чаще был весёлым и возбуждённым.
«Други мои, други, – хватал он за руки Максима и Милу, – жизнь прекрасна! Вперёд, други, навстречу нашим мечтам, которые вот там, за горизонтом. Ур-ра!» И они втроём, держась за руки, бежали по лугу туда, где синел край небесного купола, будто бы там и впрямь были их мечты, уже осуществлённые.
Как-то Мила сказала корнету, его звали Илларион Шилин: «Ларик, если, не приведи бог, будет война, ты первый вот так же бездумно и ринешься в рубку и первым погибнешь». – «Я верный сын своего отечества, и кому-то надо же погибнуть первым», – ответил тот. Синие глаза его потемнели, лицо стало хмурым, словно на него легла тень, и бриллиантовая капелька на галстуке тоже, казалось, потемнела. Ларик, похоже, уже тогда подписал сам себе приговор, загодя положил свою жизнь на алтарь отечества.
Мила, как казалось Максиму, относилась к ним обоим ровно, никого не выделяла, даже подчёркивала своё внимание и симпатию к нему, Максиму. Называла их мальчиками: Максим был большой мальчик, Ларик – маленький. Имелся в виду, разумеется, не возраст, а рост.
Прекрасное, жаркое было лето.
Радовала Максима и дружба с Лариком. Тот хотя и был старше Максима и определил уже своё место в жизни, отнюдь не пользовался этим своим старшинством, не старался быть первым в глазах Милы. Да Ларик, как считал Максим, и не был влюблён в Милу, поэтому у Максима не было никакого повода его ревновать. Ларик, наоборот, как бы даже поощрял Максима, часто оставлял их с Милой наедине: любитесь, объясняйтесь, я вам мешать не стану.
И Максим любил, как это бывает у тех, кто влюблён впервые в жизни: мучительно-сладко, с тревожным и болезненным ожиданием развязки, естественного финала этой любви. У него тогда не было ни малейшего сомнения, что тоже любим, он верил в искренность Милы, верил с пылкой юношеской романтичностью. И все же интуитивно предчувствовал, что любовь его оборвётся, окончится, как только кончатся вакации и он уедет. Знал, что для него, гимназиста, невозможен венец любви – женитьба на Миле ни сейчас, ни в будущем. А Мила, если хочешь, уже и сейчас чья-нибудь невеста – об этом он не спрашивал, боялся спросить. Думая о таком конце, он однажды целую ночь проплакал, не спал, жалея не себя, а Милу, что не может осчастливить её – повести под венец. Наутро после этой бессонной ночи тётка Анфиса, увидев, как он бледен, испугалась, стала щупать его лоб: не заболел ли.
За тот месяц только раз-другой прошли скупые дождики. Земля жаждала влаги, как и все живое на ней. А в тот памятный день – 13 августа – с самого утра начало припаривать, хотя солнце палило, как и раньше. Тринадцатое число по гороскопу – Максим родился под созвездием Рака – было для него несчастливым, и в эти дни он избегал делать что-либо важное. То ли и впрямь такая была его планида, то ли виною тут простые совпадения, но ему в эти дни не везло. Трудным выдалось для него и то 13 августа.
Все было так же, как и в любой другой день. После завтрака втроём пошли купаться, потом лежали в тенёчке на траве, и Мила, погрузив свою узенькую ладошку в Максимовы отросшие за лето и выгоревшие на солнце волосы, щекотно перебирала пальчиками. Максим, жмуря глаза, томился в сладком волнении. Как ему хотелось повернуться, обхватить Милу, прижаться, слиться с нею, раствориться в ней… Он, может, и решился бы, бросился в пропасть очертя голову, если б рядом не было Ларика. Тот, подперев кулаками подбородок, лежал и сонно глядел на тихое течение реки.
По берегу шла тётка Анфиса в бордовом платье, застёгнутом на все пуговицы от ворота до подола. Остановилась подле них, сказала: «Искупаться хочу. Душно. Хоть бы уж бог дождичка послал». Окликнула Ларика, заметила насмешливо: «Досыпаешь, бедняга, не выспался ночью и другим спать не дал». Ларик промолчал, Мила выхватила руку из Максимовых волос, легла вниз лицом. Максим тогда ничегусеньки не заподозрил в тёткином насмешливом замечании, как не понял и того, что привело Милу в смущение…
Дождя бог послал, он собрался под вечер, накрыл землю серебряной сеткой, сгустился в ливень. Они вчетвером сидели на открытой веранде, раскладывали пасьянс, слушали, как шуршит дождь по крыше, по деревьям, барабанит по коробке, брошенной в траву рядом с верандой.
Тихо, в грустноватой истоме прошёл тот вечер. Первой захотела спать Мила. Попрощалась с молодыми людьми за руку, с тёткой поцеловалась и ушла в свою комнату. Не засиживались и Максим с Лариком. Максим, не раздеваясь, прилёг на свою кровать, утопил голову в подушки и думал, как и каждый вечер до этого, про Милу. Стороной шла гроза. Отблески молний дрожали в окне, на стене, у которой он лежал, гром гремел где-то в отдалении. Дождь усилился, потёками сбегал по стёклам. Спать совсем не хотелось.
Гроза утихла к полночи, и дождь угомонился. Максим встал, раскрыл окно. Дохнуло свежестью, парной землёй и чистым после грозы воздухом. Он жадно, на всю грудь, хлебнул этого воздуха, заряжаясь бодростью и той мятежно волнующей радостью, которая способна охватить в бессонную ночь только влюблённого юнца. Где-то он читал, что все влюблённые – безумцы. «Безумец и я, безумец», – легко согласился он и, как бы в подтверждение этому, вскочил на подоконник, ухватился за сук липы. Капли дождя осыпали его. Полез вверх по дереву, мокрый насквозь. Чего лез, и сам не знал, разве что от избытка сил. Ближе к вершине замер, затаился. Смотрел вниз на тёмное окно, за которым спала Мила. Представлял её в постели, – конечно же, спит, разбросав руки, с обворожительной, такой знакомой улыбкой на устах. «Мила! – окликнул он тихо, только чтобы услышать собственный голос. – Мила, я люблю тебя».
И насторожился: внизу послышались чьи-то шаги. Шёл Ларик в белой исподней рубашке. Возле Милиного окна остановился, стукнул пальцем в стекло, и в тот же миг – ждала, значит! – окно распахнулось, показалась Мила, что-то произнесла шёпотом. Ларик легко, по-кавалерийски, вскочил на подоконник и исчез в комнате. Окно осталось открытым, и Максим слышал все, о чем они говорили. Влюблённым в такие хмельные от счастья минуты кажется, что они шепчутся. «Ларичек, милый, родной. Судьба моя… Бог мой… Что же теперь будет?» – «Приеду в полк – подам рапорт: прошу, мол, дозволения жениться». Они оба перевесились через подоконник. Максим видел их сверху. Смуглые руки Милы, как две змеи, обвили Ларика за шею и контрастно выделялись на его белой рубашке. «Все будет хорошо, все хорошо», – сказал Ларик, и они растаяли в темноте. Окно закрылось.
В том отчаянье, которое охватило Максима, он мог прыгнуть с дерева и разбиться. Поначалу и было такое желание – броситься головой вниз, ибо после того, что он увидел и услышал, жизнь его, казалось, утратила всякий смысл. Не помнил, как он спустился с липы. Шёл потом, как сомнамбула, через сад, отрясая с мокрой травы росу, бродил, пока ночь не протянула руку дню – пока не начало светать.
Утром не вышел к завтраку, сказал, что плохо себя чувствует. Ему поверили – так он был бледен и изнурён. Утром собрался и попросил, чтобы его отвезли на станцию. Уехал, чтобы никогда больше не возвращаться, кляня и тётку, и Ларика с Милой. Догадался, что эта тайная ночная встреча у Милы была не первая и что тётка об этом знала.
Мила с Лариком проводили Максима до большака. Протянули на прощание руки, а он своей не подал. Сдерживаясь, чтобы не заплакать, дрожащими губами только и выговорил: «Змея… Как ты могла?» Милины брови взлетели вверх, она все поняла. «Помилуй тебя бог», – сказала, крутнулась, разметнув юбку куполом, и пошла обратно по дороге. Ларик помедлил, сказал: «Не будь дураком, Максим. Я на ней женюсь. А твоя любовь ещё впереди».
Горькая память осталась от того первого увлечения. Со временем все перегорело, легло на дне души горсткой холодного пепла. Да вот не забылось. А другой любви не было.
Судьба распорядилась так, что им – троим – довелось столкнуться ещё раз.
Прошли годы, мировая война, две революции – февральская и Октябрьская. Максим Сорокин окончил университет, стал историком, работал в наркомате просвещения. В начале восемнадцатого года вступил в партию большевиков.
Было не до женитьбы – то учёба, то работа, партийные поручения. Но, пожалуй, главным, что стояло на пути, оставалось то первое, почти детское чувство. Оно опустошило душу, и долгие годы он подумать не мог о другой женщине, да как-то и робел думать.
Жил Сорокин в доме, который прежде был их собственным, – двухэтажном особнячке на Поварской, занимал одну комнату – остальные были реквизированы и отданы чужим людям. В основном это были одесситы, после революции почему-то скопом хлынувшие в Москву.
Сорокин, как ни зарекался никогда не думать ни о Миле, ни тем более о Ларике, все же невольно интересовался их судьбой. Они в самом деле поженились. Ларик – Илларион храбро воевал, дважды был ранен, лечился в Москве в звании штаб-ротмистра. Все было хорошо у них с Милой, уже матери двоих детей. И казалось бы, за давностию лет взрослому Максиму пора было забыть ту детскую обиду, а он не забывал, хотя и понимал с высоты теперешних своих опыта и возраста, что обижаться смешно и нелепо.
Холодной осенью восемнадцатого года поздно вечером к Сорокину постучались. Он думал, что это кто-нибудь из соседей, и, не спросив, кто там, отворил. Вошёл Илларион Шилин. Сорокин узнал его сразу, хотя шестнадцать лет отделяли их от той первой волжской встречи. Шилин был в офицерском кавалерийском мундире, в фуражке, но без погон и кокарды. Он прошёл в комнату, сел на диван, служивший Сорокину и кроватью, и креслом.
– Прошу, – похлопал Шилин по дивану, уверенным жестом старшего приглашая сесть и Максима.
Максим сел, озадаченный и неожиданностью встречи, и бесцеремонностью гостя.
– Штаб-ротмистр Илларион Шилин, – назвал себя гость. – Ларик. Узнали? Полный Георгиевский кавалер, чьи кровь и храбрость оказались России не нужными. Выходит, что мы не Отечество защищали, а… – Он не договорил, махнул рукой. – Теперь числюсь недорезанным буржуем и контрой… Это я о себе, а вы, слышал, служите у большевиков и сами большевик. Это правда?
Сорокин кивнул, все ещё в растерянности и в неведении, чему обязан приходом этого дальнего родича.
– Это все, что вам осталось от целого дома? – спросил Шилин, поводя вокруг себя рукой. – Одна эта комната?
– Мне хватает и одной.
– М-да… Несмотря даже на то, что вы служите в их министерстве… прошу прощения, в наркомате. Министры – это уже буржуазная категория.
Оба стеснённо молчали, избегая смотреть друг другу в глаза. Максим догадывался, что Шилин не просто пришёл навестить знакомого и родича, какая-то иная, важная причина его привела.
– Эмилия сидит в чека, – сказал Шилин. – Какова её судьба – не знаю.
– В чека? – Максим отстранился, снял очки, лицом к лицу какое-то время всматривался в Шилина. Не верил, ибо не мог представить Милу преступницей. – Мила в чека? За что её взяли?
– Заложницей.
– Не понимаю. Что значит заложницей?
– Искали меня. И ищут. Не нашли – арестовали её.
– А вы… Почему вас ищут? – все так же в упор глядя на Шилина, спросил Максим. – За что?
– Есть за что. Я – не вы, служить в их наркомат не пойду. Я честный русский офицер и патриот. Я – русский, и этим сказано все. Большевизм и русский народ – враждующие стороны, они не примирятся. Их не породнишь.
– И что вы хотите? – Максим встал с дивана, подошёл к окну. Оттуда и продолжал разговор.
– Хочу, чтобы вы сходили на Лубянку и узнали о судьбе Милы. И чтобы, если она ещё жива, добились свидания с нею. Вот ради этого я и пришёл к вам.
Максим молчал и думал о Миле. Представились то далёкое лето на Волге и та Мила с глазами цвета тёмного мёда, маленькая чёрная подвижная жужелица… Волна давнишней радости и боли всколыхнулась в душе, и ему вдруг с отчаянной, неодолимой силой захотелось увидеть Милу, ту далёкую Милу… Словно забыв, что Шилин ждёт ответа, Максим принялся расхаживать по комнате, взволнованный, возбуждённый, – вот какова она, власть первой любви! Не успокаивал себя, а наоборот, бередил ту давнюю рану, которая сейчас, к его собственному удивлению, доставляла скорее радость, чем боль. И вот спустя столько лет ему опять выпадает возможность увидеться с Милой, а возможно, и помочь ей, облегчить её участь. Сорокин остановился перед Шилиным, сказал:








