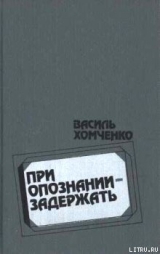
Текст книги "Облава"
Автор книги: Василий Хомченко
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Василий Фёдорович Хомченко
Облава
1
Ранней осенью двадцатого года в Совнарком пришло письмо из Гомельской губернии. Не письмо, а крик души. Секретарь Совнаркома Фотиева, разбиравшая почту, обратила внимание на то, что письмо было написано детской рукой, аккуратным ученическим почерком, с правильным, как требуют прописи, наклоном. И знаки препинания расставлены грамотно. Конечно, ребёнок писал под диктовку взрослых.
«Дорогой наш товарищ Ленин, – читала Фотиева, – советскую власть мы числим своею и желаем ей и вам, как главе власти, нашему дорогому вождю, долгих лет жизни. Мы исполняем все декреты советской власти, живём в мире с её представителями. Но вы же прислали к нам каких-то партийцев-грабителей. Они разоряют церкви, тащат оттуда кресты, дорогие чаши для причастия. А то войдут в хату, приставят ко лбу револьвер и требуют золото. Даже срывают с шеи крестики и с пальцев кольца. У акушерки Авдотьи Столяровой сняли серьги. А когда та назвала их бандитами, её в погреб на ночь посадили. Ицку Злотника тоже сажали в яму, золото вымогали… Они проводят сходы и на сходах говорят правильные речи, призывают за советскую власть, говорят, будто это вы, товарищ Ленин, приказали отнимать у людей все золото для революции. Их, комиссаров, двое…
Наш председатель сельсовета проверил мандат. Он выдан Сорокину Максиму Осиповичу. Там записано, что этому Сорокину предоставлено право выявлять и брать на учёт и сохранность все ценное и культурное, что осталось от царизма. Мандат подписан Вами, товарищ Ленин. Вот они с этим мандатом и грабят направо и налево. Ну пускай бы у богатеев золото отбирали да у разных там торгашей, а то ведь у простых селян…»
Фотиева достала книгу, в которой регистрировались выданные в последнее время удостоверения и мандаты, долго искала там фамилию Сорокина и не нашла. Расспросила других работников секретариата: может, кто-то из них знает что-нибудь о Сорокине. Нет, никто ничего не знал. Взяла папку с бумагами для доклада, сверху положила это письмо и вошла в кабинет к Ленину.
– Владимир Ильич, – спросила она, – вы не знаете Сорокина Максима Осиповича? Он не был у вас на приёме?
– Сорокина? Максима Осиповича? – Ленин на секунду задумался, оторвавшись от бумаг. – Нет, такого, кажется, не знаю.
– Мандат на это имя вы не подписывали?
– Не помню. А в чем дело?
Фотиева протянула Ленину письмо.
Ленин прочёл его, глянул на Фотиеву, пожал плечами, стал перечитывать. Потом положил на стол, прикрыл ладонью.
– Неужели мы этому Сорокину выдали мандат? – потёр лоб. – Не могу вспомнить. А что вы скажете, Лидия Александровна?
– В наших журналах регистрации Сорокин не значится. Я такого тоже не знаю.
– Если тут все написано верно, – Ленин постучал пальцем по письму, – то это бандитизм в чистейшем виде.
– А может, мандат подделан?
– Вот что, Лидия Александровна, – встал Ленин, – срочно познакомьте с письмом Дзержинского. Пусть сегодня же свяжется с Гомельским губчека, проверит, что это там за уполномоченные. Если всё, как в письме, надо их незамедлительно арестовать.
Оставшись один, Ленин ещё какое-то время раздумывал об этом письме и о неведомом Сорокине, которому он якобы подписал мандат. Настораживало то, что письмо анонимное и написано ребёнком под диктовку. Кто-то из взрослых спрятался за детский почерк, побоялся открыться. А кого и чего ему бояться? Мести со стороны бандитов или ответственности за клевету, если в письме неправда.
«Сорокин… Сорокин… Направлен в Гомельскую или тогда ещё Могилевскую губернию для взятия на учёт и сбора культурных и исторических ценностей… И когда же я мог подписать ему мандат?» Думал, силился вспомнить этого человека. Разумеется, за последние недели перед ним прошло множество людей. Принимал их в кабинете, встречался на собраниях, совещаниях, соприкасался по разным делам и вопросам. Сотни фамилий и лиц… Попробуй вспомни этого Сорокина. Многим за это время подписывал мандаты, удостоверения, мог среди них оказаться и Максим Сорокин.
«Культурных и исторических ценностей… – мысленно повторил Владимир Ильич. – Да это же по ведомству Луначарского!» И он наконец вспомнил: не так давно нарком просвещения Луначарский заходил к нему с готовыми мандатами, где была именно такая формулировка. Вот почему в секретариате не нашли никаких следов.
«Мы рассылаем уполномоченных по губерниям, – сказал тогда Луначарский, – и они будут иметь дело не только с учреждениями, подчинёнными нашему наркомату. Поэтому мандат должен иметь более авторитетную силу. С мест идут тревожные сигналы, некоторые местные товарищи изрядно наломали дров – закрывают и даже разрушают соборы, и уже немало утрачено исторических памятников и ценностей…»
Луначарский был в своём кабинете, когда ему позвонил Ленин.
– Знаю Сорокина, – ответил на вопрос Ленина. – Большевик. Интеллигентный и учёный товарищ. Историк, искусствовед, отменный специалист по византийской культуре и по русским древним иконам.
– На этого специалиста-византийца поступила жалоба.
– От какого-нибудь попа?
– Не знаю, от кого, но если написанное соответствует действительности, вашего специалиста по иконам надо судить как бандита.
– Не верю. Что бы о нем ни писали, не верю. Сорокина я хорошо знаю и могу поручиться за него головой.
– Дорогой Анатолий Васильевич, вы раздаёте столько поручательств, что впору опасаться за вашу голову. Берегите её. Зайдите, пожалуйста, ко мне, дам прочесть жалобу.
Луначарский пришёл через полчаса и, едва поздоровавшись, тут же вроде и забыл, что его привело в кабинет к Ленину, – принялся рассказывать о суздальском художнике-самоучке:
– Понимаете, человек почти неграмотный, а – гений. Самородок, у него дар от бога. Рисует на картоне, досках, бересте, стекле. Рисунки продавал на рынке за гроши. Над ним смеялись, в Суздале-то богомазов хоть отбавляй. Покупали сердобольные, из жалости к художнику. И случайно на него наткнулся один петроградский профессор. Собрал его работы, привёз в Москву. Я сегодня посмотрел эти работы. Примитив, но гениальный! Глаз не оторвать. Оранжевые избы, деревья в синем инее, красные снегири на дереве, а из трубы дым зелёный… Черт знает какое торжество красок, буйство фантазии! Смелость, неожиданность в колорите… Вы любите детские рисунки?
– Люблю. – Ленин, внимая этому восторженному рассказу, смотрел на Луначарского с открытой заинтересованной улыбкой. Он хорошо знал своего соратника и товарища как человека увлекающегося. – Однако, дорогой Анатолий Васильевич, о зеленом дыме потом. Сейчас вот это прочтите.
Луначарский взял письмо, повертел его так и этак, но читать не стал – он все ещё был под впечатлением недавно увиденных работ суздальского художника.
– А сколько таких талантов ещё не обнаружено, не замечено! Надо без промедления искать их, помогать, учить. – В кресло он так и не сел, письмо начал читать стоя: – «…советскую власть мы числим своею и желаем ей… Вы прислали к нам каких-то партийцев-грабителей… Войдут в хату, приставят ко лбу револьвер и требуют…» Ну, это чепуха, поклёп, – не выдержал он. – Сорокин на такое не способен. Да у него и револьвера не было. Он интеллигент!
Дочитывал письмо Луначарский молча, сосредоточенно, не отрываясь. Прочёл, положил на стол.
– Тут что-то не то, Владимир Ильич. Собрания проводить, выступать на них с лекциями мог. В это верю. Остальному не верю. Клевета! За Сорокина ручаюсь… головой.
– Мандат Сорокину я подписал? – спросил Ленин.
– Нет. Только моя была подпись, – ответил Луначарский.
Лёгкая усмешка, с которой Владимир Ильич наблюдал за Луначарским, так и не исчезла. Этого первого в мире пролетарского министра – наркома просвещения и культуры, человека мягкого, скромного, даже излишне скромного, эрудита, однако и упрямого, когда касалось каких-то принципиальных вещей, доверчивого к людям, и опять-таки излишне доверчивого, Ленин не просто уважал, а любил. Рад был его видеть, говорить с ним, спорить, а споры возникали часто. Вот и сейчас он испытывал радость. Встал, подошёл к креслу, в которое наконец-то сел Луначарский.
– Так говорите, Анатолий Васильевич, художник гениальный? Дым зелёный, иней синий…
– Зелёный.
Они встретились взглядами, какое-то время так и смотрели друг другу в глаза, потом оба разом рассмеялись, чувствуя, что им хорошо, приятно и что оба рады этой встрече и этому разговору.
– Зелёный дым на фоне красного с синим неба. Дым, как густая крона ветлы… Я предложил устроить в Москве его вернисаж. Показать работы публике.
– Правильно. И я, возможно, выберу время, тоже посмотрю. А с письмом все же надо разобраться. Проверить. Я уже распорядился, чтобы его переслали Дзержинскому.
Они ещё сидели добрых полчаса и беседовали.
Мандат
Выдан настоящий уполномоченному наркомата просвещения РСФСР тов. Сорокину Максиму Осиповичу в том, что он направляется для организации поисков и регистрации предметов искусства и истории, имеющих особую государственную ценность. Тов. Сорокину разрешается производить осмотры в культовых помещениях, учреждениях, а также в частных коллекциях.
При необходимости, если предмет искусства находится в угрожающем состоянии и может быть утрачен, тов. Сорокину даётся право изъять его и сдать на хранение соответствующим государственным учреждениям.
Советским организациям, учреждениям, всем должностным лицам и гражданам надлежит всячески содействовать этому, а также в предоставлении тов. Сорокину жилья, транспорта и пропитания.
Телеграмма
Срочно. Гомель. Губернской ЧК.
Незамедлительно проверьте законность мандата Сорокина Максима Осиповича, законность его действий. Есть жалоба, что Сорокин с группой занимается грабежом. О результатах проверки телеграфируйте ВЧК.
Зам. председателя ВЧК.
Телеграмма
Москва. Лубянка, 11. ВЧК.
На ваш запрос сообщаем. Мандат Сорокина законный. Личность его проверена. Все его действия законны. Ничего враждебного и вредного для советской власти он не совершает. Жалоб на Сорокина от населения нам не поступало.
Зам. председателя Гомельской Губчека – Усов.
2
Трудное, кровавое было то время – на земле Белоруссии шесть лет полыхало пламя войны. Разруха, голод, эпидемии, пепелища на месте многих деревень, стылая немота заводов и фабрик, разрушенных и разграбленных… И когда наконец отгремели войны, борьба не закончилась, покой не наступил. Контрреволюционные и разных мастей бандитские отряды продолжали испытывать на прочность новую власть. Резервы вражеские банды черпали из среды кулаков, всякого уголовного отребья и дезертиров, которых за годы войны скопилось на территории Белоруссии великое множество – счёт шёл на сотни тысяч. Большие и малые банды разгоняли Советы, убивали коммунистов, жгли, взрывали помещения советских учреждений. Во главе многих из этих банд стояли бывшие помещики-поляки, которых до революции только в Минской и Могилевской губерниях насчитывалось до шести тысяч. Паны мстили за отнятые у них имения.
С бандами вели борьбу красноармейские формирования, отряды милиции и чека, группы местной самообороны. Остатки разгромленных банд бежали за границу, там пополнялись, вооружались и снова возвращались в белорусские леса.
Особенно большой размах получили бандитские нападения летом двадцатого года в тогдашней Гомельской губернии – в Мстиславльском, Быховском, Чаусском, Чериковском, Оршанском, Рогачевском уездах. Уезды эти были объявлены на военном положении.
В такое вот тревожное время ранней осенью в Белоруссию и был командирован Максим Сорокин. Приехал, зашёл к председателю уездного исполкома, предъявил мандат. Председатель недоуменно осмотрел долговязого, тощего очкарика в шляпе-котелке, в военном френче без ремня, в штатских, в полоску брюках. Задержал взгляд на башмаках со стоптанными каблуками, хмыкнул:
– Вот так ты и будешь ходить по нашим дорогам от деревни к деревне?
Сорокин тоже посмотрел на свои башмаки, притопнул одним, другим, ответил:
– Они ещё крепкие, выдержат. Да и не всё же пешком, где-нибудь и подъехать удастся.
– Да я не про обувку твою – она, может, и выдержит. Тебя же в первом лесу сцапают бандиты. Тебе известно положение в уезде?
– Читал в газете. Заражён бандитизмом.
– Если б только заражён… У них сила. Две банды человек по сто. Одна – офицера Сивака, вторая – Пшибиевского.
– Да ходить-то надо. Может, держаться подальше от большаков? Как лучше? Мне необходимо осмотреть старые церкви, костёлы.
Председатель пожал плечами, не зная, что посоветовать.
– Перво-наперво мандат свой спрячь. А переймут – придумай, будто ты какой-нибудь там… ветеринар или сродственник попу, ксёндзу. Но лучше не попадайся.
Беседа с председателем была недолгой, и в тот же день Сорокин отправился в путь. С неделю ходил по деревням, заглядывал в церкви и ни разу не нарвался на банду. Прикидывал уже, что этак он сможет выполнить все свои планы – обойти пять ближних уездов. У него была опись церквей, и больше всего его интересовала церковь в Захаричах – самая древняя. Туда, в Захаричи, он и вышел из уездного местечка во второй половине дня.
Шёл большаком в надежде, что и на этот раз ему удастся избежать нежелательных встреч с бандитами. Спустя какое-то время его нагнала подвода. Сорокин поднял руку: подвезите. Возница не остановился, даже не взглянул на него. Ехал себе и ехал, а Сорокин молча шёл следом. Наконец возница оглянулся, зло натянул вожжи.
– Садись, – буркнул Сорокину, задержав насмешливый взгляд на его потёртом кожаном баульчике.
Сорокин сел, подгрёб под себя побольше сена и сказал, что за подвоз заплатит.
– Чем, бумажками? – обернулся возница к Сорокину. – А что мне с ними делать? С них сейчас только и проку, что за пуню сходить.
Был этот возница мрачен, нелюдим, словно на что-то обозлён. Чёрная цыганская борода, чёрные кустистые брови; маленькие, острые, как гвоздочки, глазки так и кололи, когда он смотрел на Сорокина. С таким особо не разговоришься. И все же Сорокин выпытал у него кое-что. Крестьянин был из Самосеевки, что в трех верстах от Захаричей, в местечко ездил с намерением разжиться солью, да не разжился. Боровок ходит в самой поре, под нож бы его, да соли нет. Отвечал возница неохотно, то и дело бросая взгляды на сорокинский баульчик: видно, пытался по нему угадать, что за начальника везёт.
– А ты что за комиссар будешь? – наконец не выдержал он. – Теперека как с портфелем, так и комиссар.
Сорокин ответил, что хочет в Захаричах осмотреть церковь, и крестьянин понял это по-своему.
– И до церквей добираетесь. Все гребёте, а чтобы дать чего, так не-ет. Поразвелось комиссаров. Из местечка все бывшие лавочники да шинкари в комиссарах ходят. С портфелями да с наганами. А соли нет, стекла нет, окна тряпьём позаткнуты.
Высказался и умолк. Молчал упорно, и было его молчание тяжёлым, неприятным, даже тревожным. Сорокин уже наслушался таких жалоб и попрёков и знал, что услышит, и ещё не раз услышит, как люди будут бранить и власть, и его самого как представителя этой власти. А отвечать на такие вопросы трудно, люди ждут не посулов и лекций, с которыми он выступал во многих сёлах, им дело подавай. А что он может сделать, чем поможет вот этому селянину, у которого боровок просится под нож, а соли нет? Ничем. Поэтому Сорокин тоже молчал. Так в молчании и ехали почти до самых Захаричей.
Стояла ранняя осень. Поля убраны, сено с лугов свезено. На ржище паслись коровы, овцы. Пастушок, увидев подводу, подошёл к дороге поинтересоваться, кто едет, сказал «здарс-сте». Потом, демонстрируя своё пастушье искусство, лихо щёлкнул кнутом и, проворно сняв из-за плеча берестяную трубу, заиграл какую-то весёлую мелодию. Коник вздрогнул от неожиданных для него резких звуков, замотал головой, кося глазом на пастуха. Часть стада перешла тем временем на красноватое поле из-под гречихи. «Каша с молоком», – улыбнулся Сорокин, вспомнив, как когда-то в малолетстве его впервые повезли из города в деревню. «Что это?» – спросил он тогда, показывая на полосу спелой гречихи. «Гречка, – объяснил отец. – Из неё гречневую кашу варят». Немного погодя увидели на другом гречишном поле двух коров. Маленький Максим захлопал в ладоши: «Каша с молоком! Каша с молоком!»
«Каша с молоком», – ещё раз грустно улыбнулся он, припомнив своё такое милое и богатое радостями детство. Отца с матерью давно уже нет. Отец погиб на войне с японцами в Порт-Артуре, мать уже в эту войну пошла добровольно сестрой милосердия, подхватила тиф и умерла. И никогусеньки из родных теперь у него нет. Жениться не успел, хотя тридцать три года стукнуло – возраст Христа.
«А хороша гречневая каша с молоком, – вспомнил он. – Вкусна!»
Сглотнул слюну – захотелось есть. В местечке кое-как позавтракал, да ведь и пообедать давно бы пора.
Захаричи были уже недалеко. Возница сказал: вот-вот, за лесом. Проехали лес, в котором по-осеннему уже засох и побурел папоротник, словно опалённый огнём, и действительно вдоль дороги потянулось село. Сорокин слез с подводы, расстегнул баульчик, чтобы расплатиться с возницей, но тот повёл рукой:
– Денег не давай. Если есть, дай аловак. Малому в школу идти, а не с чем.
Сорокин достал из баульчика карандаш, вдобавок ещё перо, тетрадку. Возница охотно сгрёб все это, впервые за дорогу заулыбался, протянул руку на прощание.
Село Захаричи было велико, в длину, пожалуй, версты три, и лежало вдоль Днепра по высокому берегу. Кое-кто в уезде именует его местечком. На выгоне замерла ветряная мельница – крылья без движения. А посреди села на открытом со всех сторон месте высилась церковь, та самая, ради которой и приехал Сорокин. Она, белокаменная, смело и горделиво выставляла напоказ всей округе позолоченный крест, голубые купола, белые стены. Но и не чуралась этой самой округи, не была ей чужеродной, словно сроднилась и с голубизной неба, и с зелёным простором лугов, и с синей гладью реки, в которую смотрелась с высокого берега. Немного левее, на том же холме, раскинулся погост – на многих крестах висели белые рушники. Умели люди выбрать место для церкви и погоста, искали, чтоб повыше. Не затопит вода, не омоет половодье кости покойных…
Сорокин знал, что этой церкви около четырехсот лет и всему, что в ней есть – иконам, крестам, книгам, – столько же. К тому же имеются сведения, что многое из церковной утвари перешло туда из других церквей, ещё более древних.
Он сел на широкий берёзовый пень, отдыхал и любовался церковью и округой.
День был на исходе. Солнце остыло, резко обозначились его красноватые края, посумеречнел луг, и река дышала уже предвечерней прохладой. Высоко-высоко, так что не слышно было щебета, летали ласточки, суля на завтра погожий день. С луга к селу медленно приближалось стадо коров. На лугу возле озерца застыли два аиста. От этих мирных, веющих покоем картин на душе сделалось как-то грустно-хорошо, не хотелось вставать и не хотелось никуда идти. А идти было нужно – к председателю волостного Совета, чтобы определил на постой и пропитание.
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты… —
припомнились пушкинские строки, которые Сорокин и прочёл вслух, отмечая сходство этой деревни с той, пушкинской.
Кто знает, сколько бы он ещё сидел вот так, умилённо разглядывая все вокруг – хаты, стадо красных коров, две баньки с дымами из окошек, мельницу, крылья которой вдруг ожили и медленно пошли описывать круг. А встал из-за того, что увидел миловидную женщину, вышедшую из лесу и направляющуюся к нему, к Сорокину. Невольно вскочил, торопливо стал поправлять френч, шляпу. Женщина по одежде – не крестьянка: на ней чёрная юбка и красная кофточка, на плечах кашемировый платок, обута в ботинки выше щиколоток.
– Здравствуйте! – произнесла она и остановилась. Было ей под сорок или все сорок, глаза прищурены, отчего возле них сетка морщинок. Но вот она улыбнулась и враз смыла улыбкой все эти морщинки.
Сорокин ответил ей, поклонился и, как всегда в присутствии хорошеньких женщин, смущённо опустил глаза, но тут же понял, что смешон с этим своим смущением, – не мальчишка же, поднял глаза и открыто встретил взгляд женщины. В серых красивых глазах её горел тот игривый кокетливый огонёк, который охотно берет на вооружение слабый пол. Надо сказать, она умело пользовалась этим оружием.
– Здравствуйте, здравствуйте, – ещё раз повторил Сорокин и подхватил свой баульчик.
Она стояла, и он стоял. Ей понравилось его смущение, и она рассматривала его уже с весёлым расположением – долговязого, длиннорукого худого очкарика.
– Вы приезжий? К кому приехали?
– К председателю. Он мне нужен.
– Булыга, значит. – Лицо её ещё больше повеселело, серые глаза засветились ярче. – По службе? Из Гомеля? Могилёва?
– По службе. Из Москвы.
– Прямо из Москвы! – была удивлена женщина. – Должно быть, какой-то важный декрет привезли.
– Да нет. А какого вы декрета ждёте?
– Разве мало такого, что надо бы переиначить да исправить? Страшно живём.
– Время суровое, – сказал Сорокин. – Война.
– Война, – вздохнула женщина и помрачнела. – Брат с братом воюют, отец с сыном. И когда это кончится.
Они шли рядом по затравянелой тропинке. У женщины в руке был узелок с какими-то цветами и травами. Сорокину объяснила, что это лекарственные травы и что сама она фельдшер, приехала из Гомеля подлечить отца.
– А я церковью вашей интересуюсь, – объяснил и он цель своего приезда. – Ей же четыре сотни лет.
Женщина остановилась, повернулась к Сорокину.
– И что вы намерены с церковью делать? – спросила с тревогой.
– Осмотреть надо.
– Тут приехали её рушить.
– Как это рушить? – насторожился Сорокин. – Кто приехал?
– Из уезда.
– Ну, это варварство. Вашу церковь надо взять под охрану как памятник архитектуры!
– Вот и возьмите! – Женщина молитвенно сложила руки. – Не дайте разрушить. Вы же начальство?
– Я, разумеется, сделаю все, что смогу, – пообещал Сорокин.
Дальше они шли ещё медленнее, словно нарочно растягивая дорогу и отдаляя час расставания. И все говорили о церкви. Женщина рассказывала о человеке, приехавшем из уезда:
– Такой уж красный, что дальше некуда… Говорит, во всех церквях надо оставить только стены, а что выше – разрушить, посрывать головы рассадникам опиума. И он, право же, это сделает, его не остановишь.
Волнение женщины передалось и Сорокину, он поверил, что захаричскую церковь и впрямь могут разрушить. Такие случаи уже имели место. Совсем недавно в Тверской губернии взорвали древний собор, чтобы кирпичом и щебнем вымостить дорогу. Виновных наказали, а ценнейший памятник древнерусского зодчества утрачен навсегда. Творили это безрассудство неучи, случайно получившие в свои руки власть. Примитивно понимая слова гимна о старом мире, который должен быть разрушен «до основанья», они с усердием претворяли их в жизнь. Но удивляло, что среди этих новоявленных «культуртрегеров» встречались и люди образованные, – с ними бороться было труднее. Сорокин боролся, и именно его решительным вмешательством было спасено немало ценных памятников культуры. Два года назад, например, он не дал уничтожить древние печатные доски. Было это так.
При обследовании закрытой приказом уездного ревкома церкви Сорокин увидел, как из её подвала красноармеец-повар выносил какие-то чёрные доски и сваливал у походной кухни. Сорокин взял одну такую доску и обомлел: по ней бежали ровные строчки букв. Он вырвал из рук повара вторую доску, которую тот уже запихивал в топку, и постарался разъяснить ему, что он жжёт. «Поповский дурман, – ответил повар без тени сомнения. – Мне приказали спалить это». – «Кто приказал?» – «Во-он тот начальник из уезда», – указал повар на смуглого худого парня в очках. Сорокин набросился на парня: «Это же старинные печатные доски, как вы могли отдать приказ жечь их?!» – «Ну и что, – ответил тот, – а вы посмотрите, что на них. Текст „Апостола“. Нужен он народу?» Повар, которого такое сухое топливо очень соблазняло, принялся запихивать в топку очередную доску. А когда Сорокин вырвал у него и эту, он схватил с повозки карабин, лязгнул затвором: «Ах ты, контра недорезанная, поповская! Чего из рук рвёшь! Мне обед варить надо!» На счастье, случился поблизости комиссар, и все уладилось.
Вот и сейчас, когда Сорокин услыхал от фельдшерицы об уполномоченном из уезда, у него защемило сердце. Разрушать церковь, которой без малого четыреста лет? Нет, он не даст этого сделать, постарается не дать, как-никак мандат у него авторитетный.
В начале улицы они повстречали мужчину в матросском бушлате и в тельняшке, без шапки. Тот шёл неторопливо, уверенно, немного враскачку, как ходят по палубе корабля во время болтанки.
– Булыга, председатель, – сказала фельдшерица, и лицо её засветилось, как и тогда, когда она первый раз назвала его фамилию.
Сорокин поздоровался с Булыгой, сказал, что прибыл по командировке, попросил помочь с ночлегом и столом. Достал из кармана мандат.
– Лады, – пробасил Булыга, но мандат читать не стал. – Верю, что командированный. – Говорил с Сорокиным, а сам весёлым глазом поглядывал на фельдшерицу. Та ему тоже улыбалась, и, насколько понял Сорокин, в этот момент им обоим было не до него.
Однако и о Сорокине Булыга не забыл.
– Катерина, – положил фельдшерице руку на плечо, – может, взяла бы товарища на квартиру? Место же есть.
Катерина молча кивнула, не переставая улыбаться.
Булыга пошёл своим путём, а Катерина, проводив его взглядом, сказала Сорокину:
– К батюшке Ипполиту вас отведу:
– Ну и отлично, – ответил Сорокин, – он и расскажет мне про церковь.
Священник захаричского прихода Ипполит Нифонтович оказался отцом Катерины. Это его подлечить она приехала. Дом их стоял в глубине улицы, ближе к Днепру. Дом бревенчатый, с весёлыми окнами, крытый гонтом, или, по-здешнему, дором.
Батюшка Ипполит в полушубке внакидку и в валенках, с острой седой бородкой, сидел на крыльце и читал газету, отдалив её от глаз на всю длину рук. Увидев дочь с незнакомым человеком, встал, спустился с крыльца, вопросительно посмотрел ей в глаза. Катерина рассказала отцу, что за гостя она привела, и Ипполит растерянно спросил:
– Гражданин комиссар, а вам не навредит, что у попа остановились?
– Папа, его Булыга на постой к нам послал.
– А-а, Булыга… Тогда будьте любезны, проходите. Моя обитель – ваша обитель. Дочушка, предложи страждущему гостю попить и поесть. Вы из уезда или, может, из Гомеля? Из Москвы-ы?! И какая же надобность вас сюда привела?
– Церковь меня интересует. Старинные книги, иконы, фрески.
– Вот оно что! – обрадовался Ипполит. – Славно, очень славно. Возраст у церкви действительно весьма почтённый. Выстояла, уцелела к досаде многих лиходеев. Здешний поляк-магнат когда-то рушить её начал, чтобы на месте церкви костёл поставить. Не дали православные.
Ипполит рассказал Сорокину о фресках, иконах, имеющихся в церкви.
– Мне кое-что известно, – заметил Сорокин, – знакомился с историко-статистическим описанием Могилевской епархии.
– Там не все значится.
– Не все? А что же именно упущено?
Прямого ответа не последовало.
– Часть икон и книг попала сюда из любчанской церкви, разрушенной поляками, – сказал Ипполит после паузы.
– Это когда?
– Когда они с Наполеоном сюда приходили.
Больше о церкви Ипполит рассказывать не стал.
Ужинали вместе, втроём. Прислуживала хромая и грузная кухарка Прося. У Ипполита была больная грудь, он сильно кашлял, всякий раз прикрывая рот рушником, который держал наготове на коленях.
– Здоровье подводит. И третий год вдовствую, – жаловался он. – Видно, брошу приход и к Катерине в Гомель переберусь. Отрекусь от сана.
– И от веры? – спросил Сорокин.
– От веры православной не отрекусь. И от бога – тоже. Времена такие настали, что всё против бога поднято. Непонятно это мне и страшно. Война, война… Столько лет кровь людская льётся. Впереди вижу мрак. Страшно… Страшно…
– Отец Ипполит, – перебил его Сорокин, – да вы нарочно пугаете себя такой перспективой. Не мрак, а новая жизнь впереди, светлая и солнечная, – коммунизм.
– Коммунизм? – подался Ипполит к Сорокину, и глазки его синенькие повеселели. – Милостивого господа бога прошу, чтоб скорее ниспослал его на землю, это высшее благо, в котором мир и покой. Коммунизм – это, по-вашему, братское равенство, не так ли? Так вот, сын мой, сие есть заповедь христианская, и она давным-давно возвещена Христом. – Ипполит вылез из-за стола, присел на скамью рядом с Сорокиным, задрал к нему свою острую седую бородку. – Я приемлю коммунизм хоть сегодня, и да живёт он во всем свете. Только скажите, зачем вы бога низвергаете и против православия пошли?
– Религия – тормоз прогресса. Вам самому это известно.
– Только не православная. Скажите, молодой человек, какая вера самая светская, самая терпимая к иным верованиям? Да наша же, тихая, православная! У нас не было инквизиции, не было варфаломеевских ночей, не сжигали еретиков на кострах. Это католическая церковь сожгла и замучила пятнадцать миллионов неугодных. Вот против неё и сражайтесь, и мы вам поможем. Наша церковь будет служить и советской власти, только не рушьте её. Православие объединило Русь и спасло её от жёлтой орды. И не мы ли заклинаем признать власть советскую, ибо всякая власть от бога?!
– Ипполит Нифонтович, – Сорокину не хотелось с ним спорить и переубеждать его, – верьте на здоровье в вашего бога, а мы будем верить в свою идею.
– А бог и есть идея, мечта человечества и надежда. Ваша же идея живыми смертными людьми создана. А человек – не бог, как бы высоко ни вознёсся он над другими. А если этот человек да Драконом кровавым окажется?
Вот так они весь вечер просидели за столом, говорили, спорили, и Сорокин поймал себя на том, что ему даже интересно вести этот диспут. Ипполит был поп эрудированный, с опытом. Видно, что много читал, – не зря столько книг собрано. Катерина хлопотала по хозяйству, Прося время от времени заходила в комнату послушать, о чем толкует гость, застывала в дверях, подперев косяк круглым широким плечом, вся внимание.
Перед тем как пойти спать, Ипполит спросил у Сорокина, показывая на его очки:
– Я свои разбил и теперь маюсь. Там у вас в Москве нельзя достать очки?
Сорокин обещал помочь, сделал пометку в своей записной книжке.
Когда расходились, Ипполит пожелал Сорокину:
– Сын мой, да поможет тебе бог в твоём деле. Доброе дело – сохранить и сберечь святые для Руси ценности.








