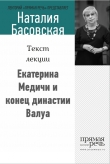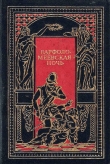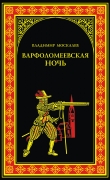Текст книги "Екатерина Медичи"
Автор книги: Василий Балакин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Прения в Пуасси
Екатерина, не желавшая, несмотря на ожесточенное сопротивление недовольных, отказываться от своей политики терпимости и национального примирения, решила свести в Пуасси для открытого обмена мнениями представителей обеих враждующих группировок.
О том, в какой напряженной атмосфере Екатерина приняла это решение, можно судить по инциденту, случившемуся месяца за три до начала прений. 15 мая 1561 года кардинал Гиз, архиепископ Реймсский, совершал обряд коронации ее второго сына, Карла IX. Кардинал, подобно своему брату, герцогу Гизу, и всем католикам вообще, был крайне недоволен тем, какое влияние приобрела протестантская партия на королевское семейство. Перед тем как возложить корону на голову мальчика, кардинал обратился к нему с торжественным наставлением: «Кто бы ни посоветовал Вашему величеству сменить религию, он тем самым лишит Вас короны». Таков был главный политический принцип французской монархии XVI века: во Франции может быть только король-католик. Присутствующие понимали, что слова эти в действительности были адресованы матери юного короля. Карл IX, впечатлительный мальчик, для которого эта корона во всех смыслах была слишком тяжела, не мог удержаться от слез.
Екатерина и вправду заходила слишком далеко в выражении своей веротерпимости, позволяя кальвинистам открыто проповедовать в Сен-Жерменском дворце, служившем королевской резиденцией. Колиньи и Конде блистали там во всей красе, всячески поощряя гугенотов к повсеместной демонстрации своей новой веры. Наиболее развязные из них устраивали настоящие шабаши у стен монастырей с распеванием непристойных песенок о монахах и монахинях. В слепой ярости они нападали на кюре и монахов и устраивали погромы в церквях, разбивая мраморные изваяния Пресвятой Девы. В Орлеане окончательно потерявшие человеческий облик гугенотки на виду у всех мочились в дароносицы. Понятно, что эти святотатственные выходки вызывали вспышки ненависти у католиков.
Вполне вероятно, что в беседах с глазу на глаз с кальвинистскими проповедниками Екатерина давала понять, что хотела бы установления полного равноправия двух конфессий, чтобы гугеноты могли свободно строить свои храмы и беспрепятственно отправлять свой религиозный культ. Кальвин был настолько удовлетворен этим ее намерением, что называл ее «нашей королевой», благодаря коей во Франции восторжествует дело кальвинизма, который уже вошел в моду при королевском дворе. Под влиянием Колиньи готовность обратиться в новую веру изъявляли даже сыновья Екатерины – король Карл IX (не напрасно предостерегал его кардинал), герцог Анжуйский Генрих и младший, Франсуа д’Алансон. Только страх перед матерью, к которой они относились с благоговейным трепетом, удерживал их от опрометчивого шага. Эти принцы, рано лишившиеся отца, видели в Колиньи не проповедника, а скорее мужчину, с которого им хотелось бы брать пример. Карл IX даже называл его отцом. Сыновья ускользали из-под влияния Екатерины, и та, в свое время натерпевшись посягательств на ее материнские права от Дианы, теперь не намерена была безропотно взирать на это. В ее отношениях с Колиньи назревала драма, развязка которой наступит в Варфоломеевскую ночь.
Итак, когда 27 августа 1561 года вновь открылась сессия Генеральных штатов, сразу же наметилось противостояние группировок, так что миряне собрались в Понтуазе, а духовенство – в доминиканском монастыре в Пуасси. Светские депутаты, находившиеся под сильным влиянием Кальвина, были настроены агрессивно. Они отказались выделить новые субсидии короне и предложили пополнить опустевшую королевскую казну за счет средств церкви. Кардиналы, поставленные перед необходимостью понести материальные жертвы, решили, дабы поддержать свой авторитет, взять реванш в религиозном плане. Для этого они превратили в ожесточенные прения предполагавшийся спокойный обмен мнениями, сделав невозможным достижение согласия, к которому стремилась Екатерина.
Если учесть, в какой обстановке взаимной ненависти разворачивалась полемика, желание королевы любой ценой умиротворить страну может показаться наивным и безнадежным, но вместе с тем требующим мужества. Дабы преуспеть в своем начинании, Екатерина готова была поступиться собственной гордостью, демонстрируя, как обычно в состоянии крайней необходимости, гибкость в общении с такими непримиримыми гугенотами, как королева Наваррская Жанна д’Альбре и главный проповедник французских кальвинистов Теодор де Без. В своем миротворческом порыве она умудрилась даже свести лицом к лицу герцога Гиза и Конде, ненавидевших друг друга, но разыгравших на глазах у нее комедию примирения. Екатерина играла по-крупному: совершая поступки, напоминавшие альянс с еретиками, она рисковала престижем католического короля, правителя католической Франции. Свою отвагу она черпала в собственной убежденности в том, что ей предначертано быть опорой королевства Валуа, воплощением которого служили ее сыновья. Непоколебимая вера в возможность умиротворения подданных без различия их религиозной принадлежности возвышала ее над бушевавшими во Франции страстями.
В Пуасси она пригласила шестерых кардиналов, отличавшихся друг от друга по своему характеру и образу мысли, но имевших одну общую черту: преданность дому Валуа, что позволяло надеяться на их готовность искать точки соприкосновения с оппонентами ради умиротворения королевства. Делегацию из двенадцати кальвинистских проповедников возглавил Теодор де Без. Все они отличались образованностью, красноречием, умением дойти до сердца человека – и кальвинистской непримиримостью. Сплотившись в единый блок, они были неуязвимы. Что хорошего можно было ждать от столкновения двух непримиримых религиозных доктрин, представители которых к тому же лично ненавидели друг друга?
И все же Екатерина надеялась на взаимную уступчивость оппонентов. 9 сентября 1561 года трапезная доминиканского монастыря в Пуасси на время превратилась в королевский конференц-зал. В глубине зала на трибуне, украшенной драпировкой с лилиями, восседали, самим своим присутствием подчеркивая важность происходящего, одиннадцатилетний король Карл IX, его мать, брат Генрих и восьмилетняя сестра Маргарита. Вокруг них сидели в парадном облачении прелаты и доктора богословия. В противоположном конце зала за парапетом стояли кальвинистские пасторы. Екатерина, в душе сочувствовавшая им, для отвода глаз подвергла их публичному унижению, не позволив им сесть. Начались прения, продолжавшиеся более недели. Как и следовало ожидать, они не привели к сближению ни доктрин, ни тех, кто эти доктрины исповедовал. Напротив, представители двух конфессий еще больше ожесточились друг против друга. Екатерине дорого обошлась ее миротворческая миссия: так никого и не примирив, она сама стала объектом ненависти. Не остался в стороне и папа Пий IV, заявивший, что королева, устроив это подобие церковного собора, нарушила прерогативу верховного понтифика. Через своего легата он сделал Екатерине строгий выговор за послабления врагам католической церкви. Екатерина от этого будто бы даже прослезилась, но от своей линии на поддержку мирного сосуществования двух религий во Франции не отказалась.
Прямым следствием прений в Пуасси явился отъезд Гизов. На сей раз они не просто покидали королевский двор, но затевали опасную авантюру с далекоидущими последствиями. Опасаясь, как бы все возрастающее влияние Колиньи на Карла IX не привело к превращению католической монархии Капетингов в кальвинистскую монархию с духовным центром в Женеве, они решили взять в заложники одного из членов королевской семьи, и не кого-нибудь, а брата короля, Генриха Анжуйского, который стал бы мощным орудием в их борьбе с еретиками за престол католической Франции. Исполнить это они решили руками своего приятеля, герцога де Немура. Применять насилие к брату короля было немыслимо, поэтому Немур попытался заманить юного Генриха льстивыми речами, но безуспешно, поскольку тот был уже под влиянием Колиньи. Когда же Немур спросил маленького хитреца, не кальвинист ли он, тот, не задумываясь, ответил, что исповедует религию своей матери. Этот уклончивый ответ ничего не говорил о его религиозной принадлежности (к какой религии в тот момент склонялась Екатерина?), зато не оставалось сомнений относительно того, что он послушен своей обожаемой матери. Немур попытался было убедить мальчика, что гугеноты замышляют заговор против королевской семьи, что ему, Генриху, грозит смерть, но заметил, что за драпировкой кто-то прячется, и тут же замолчал.
Продолжил обработку герцога Анжуйского его тезка Генрих, сын герцога Гиза Меченого. Мальчики знали друг друга с раннего детства, посещая один и тот же коллеж. Как и Немур, Генрих Гиз стал уговаривать принца поехать вместе с ними в Лотарингию, где его ждет приятная жизнь, не то что при дворе, где весь почет достается его брату-королю. В Лотарингии же к нему самому будут относиться как к королю. Была затронута чувствительная струна в душе герцога Анжуйского: он уже начал завидовать своему старшему брату, и в дальнейшем эта зависть будет только нарастать. Было отчего закружиться детской голове. Похищение намечалось на 31 октября 1561 года, когда Гизы отправлялись в свою вотчину. Глава клана герцог Гиз вел с собой конный отряд из шестисот всадников в полном снаряжении, готовых отразить любую атаку. Екатерина, наблюдавшая за сборами в дорогу, глаз не спускала со своего сына. Ее, имевшую повсюду глаза и уши, конечно же обо всем известили. Она видела, как Немур, наклонившись к ее дорогому мальчику, что-то шепчет ему на ухо. Королева тут же позвала Генриха, и тот без утайки выложил ей весь план Гизов.
Сколь бы ценные услуги ни оказывали Гизы короне Франции, сколько ни помогали ей самой в трудные времена, с этой минуты они стали для Екатерины врагами. Как могли они покуситься на ее дорогого сына! Слепая материнская любовь переполняла ее столь же слепой ненавистью к людям, с которыми соображения политической целесообразности заставят ее в дальнейшем если и не дружить, то, по крайней мере, ладить, постоянно имея при себе противовес им. В данный момент – Колиньи и Конде.
Мир, подготовивший войну
Показное унижение гугенотов во время прений в Пуасси было с лихвой компенсировано так называемым «Эдиктом веротерпимости», который Екатерина издала 17 января 1562 года. Отныне за гугенотами признавалось право исповедовать свою религию, правда, с некоторыми ограничениями. Так, они могли свободно собираться на свои проповеди в местах компактного проживания, в городах же, в которых они составляли меньшинство, это запрещалось во избежание эксцессов, подобных тем, что имели место в Париже и Орлеане. Там гугеноты должны были собираться для отправления культа вне городских стен. Строительство храмов в городах им по-прежнему запрещалось. Уступки гугенотам пока что были невелики, однако сам факт, что государство вступает в переговоры с ними, можно рассматривать как огромное достижение для них. Екатерина и ее канцлер Мишель Лопиталь надеялись, что представители двух конфессий постепенно научатся мирно сосуществовать, двигаясь в направлении толерантного общества под эгидой короля, у которого не будет надобности делить своих подданных на приверженцев мессы и тех, кто слушает кальвинистскую проповедь. Дабы успокоить католиков, Екатерина заявила, что ее дети будут воспитываться в католической вере, однако для непримиримых это служило слабым утешением: они видели, что реформатская религия признана государством. Парижский парламент упорно отказывался регистрировать эдикт, и королеве пришлось немало потрудиться, чтобы спустя месяц это все-таки было сделано.
И вправду, Екатерина шагнула слишком далеко вперед, учитывая драматизм ситуации, порожденной религиозным конфликтом. Памятуя о том, что в Пуасси именно теологи обеих конфессий торпедировали все ее миротворческие усилия, она, как суверенная правительница, рискнула показать, что не теология определяет политику государства. Главное для нее как государственного деятеля – судьба государства и законной королевской власти, стоящей выше групповых интересов. Нетрудно вообразить себе, какую ярость вызвал эдикт у папы и Филиппа II, обвинявших Екатерину в том, что она превращает Францию в королевство еретиков. Но она не дождалась доброго слова и от гугенотов, ради которых пошла на большой риск. Вскоре они по-своему отблагодарили ее.
Члены Парижского парламента в конце концов согласились зарегистрировать «Эдикт веротерпимости», но с оговоркой, что регистрируют его временно, до наступления совершеннолетия Карла IX, после чего этот вопрос подлежит пересмотру. Долгие препирательства, увенчавшиеся полууспехом, истощили силы Екатерины, и она отправилась в Фонтенбло, где всё напоминало ей о досточтимом тесте, Франциске I, и где она могла отдохнуть душой и телом, наслаждаясь творениями флорентийских мастеров и чудными пейзажами, забыть о пережитых унижениях и разочарованиях, отдавшись любимому увлечению – охоте. Однако всё обернулось иначе: не успела она добраться до Фонтенбло, как пришло известие об инциденте, вошедшем в историю под названием «резня в Васси».
Герцог Гиз, направлявшийся в Жуанвиль навестить свою мать, 1 марта 1562 года сделал остановку в городишке Васси, на территории своих владений, намереваясь, благо было воскресенье, послушать мессу. Около тысячи местных протестантов в нарушение эдикта, запрещавшего им устраивать собрания в городской черте, собралось в риге поблизости от церкви, в которую вошел Гиз со своим эскортом. Словно не довольствуясь одним нарушением, гугеноты пошли на прямую провокацию, принявшись громко распевать псалмы прямо у ворот церкви. Герцог велел одному из своих людей навести порядок, дабы можно было спокойно слушать мессу. Однако на гугенотов это не произвело ни малейшего впечатления, и тогда разгневанный Гиз, выйдя к разбушевавшейся толпе, лично потребовал прекратить бесчинство. В ответ он услышал грубые оскорбления в свой адрес, подкрепленные градом камней, один из которых попал ему в лицо, прямо в знаменитую отметину, оставшуюся от раны, полученной на поле брани, и давшую ему прозвище Меченый. При виде окровавленного лица герцога его люди, вне себя от ярости, с оружием в руках устремились на толпу смутьянов. В результате свыше пятидесяти из них поплатились за дерзкую выходку жизнью, а около сотни были ранены.
Партия Конде незамедлительно воспользовалась резней в Васси, развязав пропагандистскую кампанию против Гиза и возлагая всю ответственность на него, словно бы не замечая очевидного факта: герцог подвергся нападению в своих собственных владениях, а гугеноты действовали в нарушение «Эдикта веротерпимости». Но как бы то ни было, кровь, пролитая в Васси, вскоре разольется по всей стране, положив начало череде гражданских войн. По злой иронии судьбы миротворческие усилия Екатерины Медичи и дарованный ею эдикт, в большей мере отражавший ее иллюзии, нежели реалии того времени, послужили прелюдией к жестокому конфликту, на протяжении тридцати шести лет терзавшему Францию.
Конде наступает на те же грабли
Гиза встречали в Париже как национального героя. Видя энтузиазм парижан, принц Конде сознавал, что ни ему самому, ни его партии никогда не завоевать такой популярности в столице. И тогда он решил повторить амбуазскую авантюру, с треском провалившуюся и едва не стоившую ему жизни. Но это, похоже, его не смущало. Как и в тот раз, королевская семья находилась в Фонтенбло, плохо защищенном и потому делавшем возможным захват Карла IX и его матери, дабы потом продиктовать им свои условия. По правде говоря, у Конде имелись веские основания опасаться королевы-матери, которая, видя провал своих миротворческих усилий, совершила крутой поворот. Отчаявшись вразумить гугенотов, она предстала перед подданными в образе доброй католички, исправно посещала католические богослужения и требовала того же от придворных. И своего любимого сына Генриха она обязала следовать ее примеру. Что же касается короля Карла IX, то он еще раньше и без понукания со стороны матери вернулся на путь истинный. Эти перемены возвещали об ужесточении политики в отношении гугенотов.
Покинув Париж, Конде собрал верные ему отряды и двинулся к Mo, где его уже ожидал Колиньи со своей армией. Объединившись, они были готовы сразиться с королевскими войсками. Наблюдая за концентрацией сил гугенотов между Парижем и Фонтенбло, герцог Гиз понимал, что угроза возникла не только лично для короля, но и для самого трона. Отправившись в Фонтенбло, он принялся уговаривать королеву-мать срочно перебраться вместе с сыном в Париж, где они были бы в безопасности. Отряд в тысячу вооруженных людей должен был обеспечить им беспрепятственное передвижение. Екатерина колебалась, то ли опасаясь довериться Гизу, которого, мягко говоря, недолюбливала, то ли еще надеясь договориться с Конде, который, как она думала, не посмеет причинить вред ни ей лично, ни королю. В конце концов она сочла за благо принять руку помощи, в очередной раз протянутую Гизом.
Конде, видя, что герцог опять спутал его планы, повел свое воинство к Орлеану и на удивление легко овладел городом, сделав его временной столицей гугенотов. Теодор де Без, мастер пропаганды, опубликовал декларацию, в коей утверждал, что Конде является лояльным подданным его величества, тогда как Гиз, мятежник, держит короля и королеву-мать на положении пленников. Это пропагандистское заявление разослали иностранным дворам, и протестанты, в частности Елизавета I, признали дело Конде правым. Из-за границы потекли деньги на поддержку гугенотов, и под знамена мятежного принца стали собираться дворяне, главным образом мелкие провинциальные шевалье, мечтавшие поправить свое материальное положение за счет грабежа и с легкостью обратившиеся в кальвинизм. Екатерина, нравилось ей это или нет, вынуждена была признать, что именно Гизы и их сторонники служат опорой трона ее детей.
Для того чтобы успешно исполнять эту роль, нужна была армия, способная противостоять войску Конде и Колиньи, и герцог Гиз принялся собирать ее, предоставив Екатерине поиск необходимых для этого средств. Она блистательно справилась с нелегкой задачей, сумев убедить римского понтифика и короля Испании в необходимости раскошелиться ради избавления Французского королевства от еретиков. Поучаствовали в финансировании сего благого дела также Венеция и Флоренция. Вооруженным быть хорошо, но оружие, полагала Екатерина, не следует пускать в ход, пока не исчерпаны все возможности для мирного решения спора. Ее коньком были переговоры, а не война, и она посылала к Конде эмиссара за эмиссаром, убеждая его отказаться от кровопролития. Ее упорство в стремлении к миру решительно опровергает легенду о «кровавой королеве» Екатерине Медичи. Конде, полагая, что путем переговоров добьется большего, нежели вступив в войну с неясным исходом, похоже, склонялся к мирному урегулированию, однако натолкнулся на решительное сопротивление со стороны Колиньи и его воинственных шевалье, мечтавших о богатстве и славе, добытых оружием.
Итак, миротворческие усилия Екатерины (в который уже раз!) ни к чему не привели. Католики и гугеноты словно состязались друг с другом в религиозном фанатизме. Особенно отличались гугеноты, не щадившие даже родственных чувств. В Вандоме при явном попустительстве со стороны Жанны д’Альбре были выброшены из могил останки родителей ее супруга Антуана Бурбона. Не трудно было догадаться, что гугеноты воспользуются переговорами не для поиска согласия, а для накопления сил в преддверии неизбежной борьбы. Пока Екатерина склоняла Конде к миру, его соратники захватили Ла-Рошель, Пуатье, Гавр, Дьеп и Кан. Да и сам принц, видя успехи гугенотов, сменил тон, заносчиво заявив королеве, что одержит верх над войсками католиков.
Грозный тон Конде не оставлял выбора, и королевская армия перешла в наступление, заняв Блуа. Дальше военные действия шли с переменным успехом. Целые области оказались под властью гугенотов, и те в поисках средств для продолжения войны принялись распродавать страну. Эмиссары Конде от его имени заключили союзный договор с Елизаветой Английской. Принц уже действовал как глава государства, и королева Англии признавала его таковым. Елизавета обязалась предоставить мятежному принцу шесть тысяч человек в полном снаряжении и деньги на оплату германских наемников, получая взамен французские города Гавр, Дьеп, Руан и конечно же Кале. Колиньи тем временем вел переговоры с германскими князьями: не имея средств для выплаты жалованья наемникам, он в качестве компенсации отдавал им на разграбление французские города.
Над страной нависла угроза чужеземного вторжения. В королевском совете сложилось мнение, что наиболее уязвимым местом является Нормандия, туда и направили войско под командованием коннетабля Монморанси. Однако было уже поздно: объединенные отряды англичан и гугенотов под командованием печально знаменитого Монтгомери захватили Руан. И тогда Екатерина лично повела другие подразделения королевской армии на осаду Руана, не считаясь ни с осенней непогодой, ни со своим ревматизмом. По ее команде артиллерия произвела десять тысяч выстрелов, полностью разрушив городские стены. В образовавшуюся брешь, вдохновляемые примером королевы, устремились ее воины. 20 октября 1562 года Руан был взят. Однако радость Екатерины была омрачена вестью о том, что Монтгомери сумел ускользнуть, уплыв по морю к английским берегам. Она охотно свела бы счеты с человеком, которого винила не только в гибели обожаемого супруга, но и в альянсе гугенотов с Елизаветой.
Тем временем и Конде со своим воинством двинулся в Нормандию, дабы соединиться с англичанами, успевшими занять Гавр. Его войско представляло для королевской армии наибольшую угрозу, поскольку Колиньи сумел, пока Екатерина вела с ним переговоры, пополнить его германскими наемниками. Эта ошибка королевы-матери позволила гугенотам собраться с силами, и теперь для нее было важно не допустить еще одного промаха и не позволить мятежному принцу соединиться с англичанами.
Королевская армия встала на пути мятежников близ Дрё, где 10 декабря 1562 года произошло сражение. Монморанси командовал главными силами, тогда как Гиз со своей кавалерией находился в резерве. Он и решил исход битвы: когда роялисты дрогнули под мощным натиском кавалерии Колиньи, он вывел из леса свой засадный полк и одним ударом сокрушил противника, причем Конде был взят в плен. Колиньи же, побежденный, но не обескураженный, собрал остатки своей армии и направился к Орлеану, где намеревался восстановить силы и возобновить борьбу. Гиз двинулся за ним, дабы добить его прежде, чем он успеет добраться до гугенотской «столицы». Однако дело обернулось иначе.