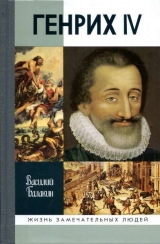
Текст книги "Генрих IV"
Автор книги: Василий Балакин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
После битвы при Кутра Генрих IV, как мы помним, уподобился Ганнибалу, показав, что умеет побеждать, но не умеет пользоваться победой. На сей раз, словно желая доказать, что он – не Ганнибал (кто бы в этом сомневался!), Генрих решил использовать сокрушительный разгром армии Лиги при Иври для овладения Парижем. Шансы на успех казались тем более реальными, что Майенн даже не осмелился войти в столицу, встретившись с вождями лигёров в Сен-Дени, дабы сообщить им о своем намерении отправиться во Фландрию за испанским подкреплением. Чтобы выиграть время, Лига попыталась втянуть Генриха в переговоры, заранее обреченные на провал, однако не сумела отвлечь его внимание от Парижа. Король был полон решимости использовать все представившиеся ему шансы. Вполне сознавая, с какими трудностями будет сопряжена осада большого города, он решил предварительно подвергнуть его блокаде, будучи уверенным, что голод и даже простая угроза голода сломят фанатизм парижан.
Итак, в течение апреля 1590 года Генрих постарался овладеть окрестностями Парижа, заняв Корбей, Мелен, Бре, Провен и Ланьи, взяв под свой контроль мосты ниже по течению Сены, перерезав все пути доставки в столицу продовольствия. 7 мая он подошел к Парижу, установив на Монмартре свою артиллерию. Его армия заняла все высоты севернее столицы. Отправляясь во Фландрию, Майенн назначил 22-летнего герцога Немура военным комендантом Парижа, и тот незамедлительно принялся приводить в порядок оборонительные сооружения, реорганизовав также городское ополчение. Не забыл он и о продовольственном снабжении, ясно отдавая себе отчет в том, что неизбежно столкнется с этой проблемой. Если многие состоятельные парижане предпочли покинуть город, удалившись в свои деревенские имения, то, напротив, множество сельских жителей, опасаясь бесчинств солдатни, искали убежища в столице. Разумеется, богачи заблаговременно позаботились о себе, запасаясь продовольствием, и прежде всего мукой. Также поступали церкви и монастыри. Беднякам же, за неимением денег вынужденным ежедневно добывать хлеб свой насущный, грозила нужда, если не голод.
Руководителям обороны города добавляло беспокойства и то, что разгромное поражение при И ври пошатнуло авторитет вождей Лиги и Комитета шестнадцати, вследствие чего нельзя было исключать народных волнений. Опять обратились за консультацией к Сорбонне, поставив перед ее докторами вопрос о законности борьбы против Беарнца, и опять эти услужливые правоведы высказали свое глубокомысленное суждение. Они заявили, что божественное право запрещает католикам признавать королем еретика, заклятого врага церкви, вероотступника, преданного анафеме Святым престолом. Следовательно, каждый француз обязан воспрепятствовать приходу его к власти. Любой, кто окажет какую бы то ни было помощь Генриху Бурбону, сам станет вероотступником, совершит смертный грех, подвергнется вечному проклятию и должен будет с полным основанием понести наказание как пособник в установлении царства Сатаны. Напротив, кто будет до конца сражаться за истинную веру, того увенчает слава мученика. Тот факт, что подобного рода решение было принято единогласно, давал Беарнцу повод для горьких раздумий.
12 мая, желая прощупать почву, Генрих предпринял атаку на пригород Сен-Мартен. В результате сражения, продолжавшегося около четырех часов, молодой герцог Немур сумел отбить нападение. Дабы восславить эту маленькую победу, 14 мая Лига устроила в Париже знаменитое шествие монахов, переодетых солдатами. Пьер Л’Этуаль, очевидец сего диковинного действа, оставил его красочное описание. Епископ Санлиса, точно армейский командир, возглавлял шествие. За ним колонной по четыре в ряд следовали приоры различных монастырей со своей братией – картезианцы, фельяны, капуцины, минимы, нищенствующие монахи. Каждый приор нес в одной руке крест, а в другой – алебарду, прочее же «Христово воинство» было вооружено аркебузами, протазанами, кинжалами и иными видами оружия, которое они позаимствовали у солдат Немура. Полы их ряс были подобраны, а капюшоны откинуты на плечи. На многих красовались шлемы и нагрудные латы. Кюре Гамильтон, родом шотландец, исполнял обязанности сержанта, то отдавая команду остановиться для пения гимнов, то продолжить движение. Не раз по его команде монахи палили из мушкетов. Весь город сбежался поглазеть на столь невиданное зрелище, кое представляла собой, как утверждали ревнители веры, воинствующая церковь. Прибыл и папский легат, самим своим присутствием благословлявший зрелище столь же небывалое, сколь и смехотворное. Один из новоявленных «солдат», плохо умевший обращаться со своей аркебузой, решил выстрелом поприветствовать легата и нечаянно убил находившегося рядом с ним священника. Папский посланец, ничуть не смутившись, перекрывая своим голосом громкие крики толпы, возвестил, что убиенному несказанно повезло погибнуть во время столь священного действа.
Генрих IV больше не предпринимал атак, довольствуясь артиллерийским обстрелом пригородов и стягиванием кольца блокады. Он рассчитывал на то, что нескольких недель будет достаточно, чтобы взять Париж измором. Недостаток продовольствия в городе уже ощущался. Немур, перед которым стояла задача прокормить 220 тысяч человек, распорядился провести ревизию хлебных запасов. Овес было решено держать в резерве и в случае крайней нужды использовать вместо хлеба. Избегая расточительства, можно было продержаться месяц. Генрих, не желая раньше времени рисковать своими людьми, ограничился тем, что приказал в течение трех дней с Монмартра обстреливать город из пушек, не добившись при этом существенного результата и лишь напугав его население.
Однообразно тянулись дни блокады, однако Беарнец времени даром не терял, скрашивая блокадную скуку привычным для себя способом. Приостановив активные военные действия, он предался баталиям иного рода, более приятным для него. По соседству с его штаб-квартирой на Монмартре находился бенедиктинский женский монастырь, и Генрих без особого труда добился благосклонности его аббатисы, хорошенькой восемнадцатилетней Клод де Бовилье. Позднее, когда штаб-квартира переместилась в Лоншан, король одарил своей благосклонностью 22-летнюю францисканскую монашенку Катрин де Верден, которую позднее вознаградил, сделав ее аббатисой другого монастыря. Не слишком строгие нравы, царившие тогда в женских монастырях пригородов Парижа, были широко известны, и все же Генрих, предавшись разврату с монахинями, дал веский аргумент лигёрской пропаганде, на все лады клеймившей еретика, осквернявшего «Христовых невест». В одном из памфлетов его изобразили в виде похотливого козла с длинной бородой. Объективно выходило так, что Беарнец, твердивший об «умиротворении», своими безответственными действиями подливал масла в огонь католического фанатизма, обостряя и без того сложную ситуацию. Гугеноты также сурово осуждали своего беспутного вождя, хотя и воздерживались от сравнения его с козлом. Католики из числа «политиков», люди более широких взглядов, ограничивались едкими шутками в его адрес. Пьер Л’Этуаль и д’Обинье передают каламбур, авторство которого приписывалось маршалу Бирону. Он будто бы спросил короля: «В Париже говорят, что вы сменили религию?» – «Как это?» – недоуменно возразил Генрих. «Религию Монмартра на религию Лоншана», – пояснил маршал. Смысл каламбура заключался в том, что слово «religion» тогда означало и «религию», и «монастырь». Беарнец весело рассмеялся, видимо, находя смешным не только каламбур, но и ситуацию, сложившуюся вокруг Парижа.
Хотя блокада и не обеспечивалась с надлежащей строгостью (так, Живри за взятку в 45 тысяч экю пропустил через Шарантонский мост обоз с продовольствием), тем временем голод стал давать о себе знать, и беднейшие слои зароптали. Во избежание худшего 31 мая во время большой процессии у собора Нотр-Дам-де-Пари зачитали послание герцога Майенна населению Парижа, в коем сообщалось, что он находится в Перонне с большой армией, хорошо обеспеченной боеприпасами и продовольствием, и со дня на день прибудет на помощь осажденным. Эта духоподъемная новость приободрила тех, кому изменило мужество. Более того, испанский посол Мендоса объявил о раздаче хлеба беднякам. Однако не обошлось без насилия: многих горожан, заявлявших, что было бы лучше заключить мир с Генрихом, бросили в Сену. Спустя некоторое время арестовали прокурора Реньяра и его мнимых сообщников, заподозренных в измене. Недовольство населения нарастало, и контролируемый лигёрами Парижский парламент принял решение запретить под страхом смерти любому, какое бы общественное положение он ни занимал, вступать в переговоры с «королем Наваррским». Предписывалось неукоснительное исполнение распоряжений герцога Немура и его помощников.
Между тем хлеба катастрофически не хватало, хотя выпекали его не из чистой муки, а из смеси ее с овсяными отрубями. Герцогиня Монпансье подбросила оригинальную идею: собирать на кладбищах кости мертвецов, молоть их и из полученной таким способом «муки» печь хлеб. Правда, сама она не питалась подобной пищей, а отведавшие ее, как сообщает Пьер Л’Этуаль, долго еще потом хранивший кусок такого «хлеба», умирали. Чтобы хоть как-то приглушить недовольство, Мендоса раздал населению 50 тысяч экю и отдал в переплавку все свое столовое серебро, за исключением одной ложки. Проезжая по улицам Парижа в своей карете, он останавливался на перекрестках и пригоршнями бросал монеты несчастным, устраивавшим из-за них настоящую свалку. Наконец и это перестало помогать. Изголодавшиеся бедняки кричали, что им ни к чему его деньги – они нуждаются в хлебе. Городские власти созвали кюре и настоятелей монастырей и предложили им поделиться своими запасами, дабы облегчить положение бедных. Когда те начали препираться, было решено провести обыски, чтобы пустить обнаруженные излишки в свободную продажу. У иезуитов нашли в изобилии зерно, сухари, соленое мясо и овощи – продовольствие, которого им хватило бы по меньшей мере на год. То же самое было у капуцинов и монахов других конгрегаций. Комитет шестнадцати обязал духовенство раздавать бесплатные обеды окрестным беднякам, список которых им был вручен. Были реквизированы все кошки и собаки, которых варили в больших котлах и раздавали мясо страждущим. Однако и эти крайние меры не спасали положения. Тут и там на улицах можно было видеть трупы умерших от голода. Когда съели всех собак и кошек, принялись за крыс и мышей. Мясо ослов и лошадей продавалось по баснословным ценам. За неимением лучшего, некоторые ели траву, другие – свечное сало, а третьи жевали размоченную в воде кожу. Недостатка не было, как писал Пьер Л’Этуаль, лишь в лживых проповедях, коими потчевали изголодавшееся население, внушая ему, что лучше умереть с голоду и даже убить своих детей, которых нечем кормить, нежели признать королем еретика.
Расчет Генриха на то, что голод возьмет верх над фанатизмом, явно не оправдывался. Не возымели своего действия и его неоднократные обращения, воззвания к голодающим парижанам, равно как и артиллерийские обстрелы. Что было делать? Без Парижа он не мог считаться королем Франции, но как взять упрямый город? Уморить голодом всех его обитателей, чтобы потом беспрепятственно ступить на опустевшие улицы? Слишком жестоко? Но тогда будь милосерден, оставь католиков в покое, откажись от короны Франции, уйди в свой Беарн и предавайся там своей гугенотской ереси, будь «королем Наваррским», как его упорно называли лигёры. Однако такой оборот дела не устраивал Беарнца – ему хотелось быть именно королем Франции, чего бы это ни стоило. Мастер половинчатых решений, Генрих и на этот раз остался верен себе, решив быть «немножко милосердным» и тем самым, в сущности, продлевая тяготы и мучения гражданской войны. Он позволил, чтобы Париж покинули три тысячи изголодавшихся неимущих. Пропагандистский характер этого «акта милосердия» был очевиден: почему только три тысячи, а, скажем, не тридцать? От врагов «милосердный» Генрих благодарности все равно не дождался, зато его решительно осудили союзники, особенно королева Англии.
Как показали дальнейшие события, Париж был уже на грани капитуляции, и если бы действовать решительно и быстро, то победа была бы за роялистами, однако Генрих с поразительной безответственностью позволил ей ускользнуть. Наконец-то, после прибытия подкрепления имея достаточно сил для решающего штурма города, он дал втянуть себя в совершенно ненужные переговоры с лигёрами. Даже такому стратегу, как Беарнец, должно было быть понятно, что противник пытается выиграть время. Когда армия роялистов стояла уже у самых стен Парижа, а Немур спешно распорядился замуровать ворота Сен-Оноре, наиболее уязвимое место при штурме, предугадать исход битвы за город не составляло труда. Вся надежда осажденных, хотя и весьма слабая, была на скорое прибытие вспомогательной армии, обещанной герцогом Майенном. Поэтому-то Генеральный штаб Священной лиги и затеял переговоры с Генрихом, чтобы выиграть хотя бы несколько дней, а главное – избежать штурма города, против которого парижский гарнизон не устоял бы. Вступать в переговоры с практически поверженным противником накануне штурма, в успехе которого никто не сомневался, – кто еще способен был на такое, кроме Генриха IV Французского?
Он совершил огромную, непростительную ошибку (а вернее сказать – должностное преступление), предоставив противнику недельное перемирие. Представителей Лиги во главе с епископом Парижским, кардиналом Гонди, Генрих принял 6 августа в аббатстве Нотр-Дам-де-Шан. На обращение парижан, просивших умиротворения королевства, Генрих IV ответил длинной речью в манере, которая станет характерной для него с тех пор, как он взойдет на королевский трон Франции. Заверив их, что относится к ним как отец родной, он потребовал немедленного подчинения, но, чтобы продемонстрировать свое великодушие, позволил осажденным провести переговоры с Майенном, обещавшим в скором времени освободить их от осады. Король дал им неделю сроку на переговоры, но потребовал заложников, пообещав освободить их, если обязательства будут соблюдены, в противном случае пригрозил расправиться с ними.
Лигёры, как и следовало ожидать, прежде всего хотели выиграть время. Поскольку срок перемирия исчислялся со дня отбытия переговорщиков из Парижа, они под разными предлогами откладывали свой отъезд до 17 августа. Они знали, что герцог Майенн, уже находившийся в Мо, со дня на день ожидал прибытия герцога Пармского Алессандро Фарнезе с войском. Майенн, в отличие от Генриха не желавший о чем бы то ни было договариваться с противником, отклонил все его предложения по «умиротворению Франции», о чем Гонди и проинформировал короля 21 августа, еще до истечения отведенного недельного срока.
На следующий день Майенн соединился с Фарнезе, и их объединенное войско, не теряя времени даром, двинулось на Париж. Перед Беарнцем стояла дилемма: дожидаться подхода армии герцога Пармского, чтобы внезапно напасть на нее, когда она войдет в долину, или же, временно прекратив осаду Парижа и при этом потеряв все, что было достигнуто за время «осадного сидения», выйти навстречу испанцам, дабы нанести им сокрушительное поражение в решающем сражении, которое ознаменует собой окончание войны. На военном совете обсуждали оба эти варианта, каждый из которых нашел поддержку. К несчастью для себя и своих сторонников, Генрих выбрал решающее сражение.
30 августа, сняв осаду с Парижа, он собрал свою армию, тогда насчитывавшую уже 25 тысяч человек, и двинулся навстречу противнику. Однако Алессандро Фарнезе, блестящий стратег и талантливейший полководец своего времени, предпочел ограничиться лишь достижением своей главной цели – освобождения Парижа, не рискуя собственной армией в открытом сражении. Совершив великолепный маневр, отвлекая внимание роялистов мелкими стычками, он с основной частью своего войска под покровом ночи форсировал Марну и занял город Ланьи, позволявший контролировать реку на всем ее протяжении. Продовольственное снабжение Парижа было обеспечено. От прямого боевого столкновения с армией короля Фарнезе уклонился, вместо этого методически занимая пути, ведущие в Париж. Словно желая возродить рыцарские времена, 3 сентября Генрих направил к герцогу герольда с вызовом на бой. В ответ Фарнезе велел передать королю, что сражается там и тогда, где и когда считает нужным, и не имеет ни малейшего желания доставлять ему удовольствие. Сделав свое дело, герцог Пармский возвратился во Фландрию. На пути роялисты тщетно пытались тревожить его своими атаками: его наемники двигались под защитой двух рядов повозок, нагруженных добычей, точно в передвижной крепости.
Подобно тому как в 1589 году битва при Арке не увенчалась взятием Парижа, в 1590 году преимущества, которые принесло сражение при Иври, породившее у Генриха IV столько надежд, рассеялись, словно туман. Хороший тактик и доблестный солдат, Беарнец заслужил репутацию совершенно никудышного стратега. Фарнезе провел его точно новобранца. Упорство, проявленное парижанами при обороне своего города, и военно-политическая бездарность Генриха IV имели гораздо более далекоидущие последствия, чем это могло бы показаться на первый взгляд. Будь он более талантливым полководцем и политиком, к тому же убежденным протестантом, ему удалось бы взять Париж и, вполне вероятно, стать королем Франции, не отрекаясь от протестантизма. Если бы он удержался на этой позиции, то Франция стала бы преимущественно протестантской страной. Но он не сумел использовать реальный шанс, и Париж ему пришлось добывать ценой мессы. Доминирование гугенотов в стране, одно время казавшееся вполне вероятным даже католикам, сражавшимся в королевской армии, отныне стало немыслимым. Баланс сил в Европе на века сложился в пользу католицизма. Генрих, так много говоривший об умиротворении и единении французов, своими бездарными действиями сделал невозможным объединение страны под знаменем протестантизма, что предопределило неизбежность его перехода в католицизм, так и оставшийся религией большинства. Не увидел он и единой Франции, в конце концов вынужденный признать существование гугенотского «государства в государстве». В этом смысле лавры объединителя достались его внуку Людовику XIV, отменой Нантского эдикта в 1685 году положившему конец протестантизму во Франции.
Новая путеводная звездаПосле провала осады Парижа ситуация могла показаться отчаянной кому угодно, только не Генриху IV. В его облике невозможно было обнаружить и намека на то, что он удручен неудачей. В эти трудные годы, предшествовавшие коронации, энергия, далеко не всегда находившая разумное применение, прямо-таки бурлила в нем. Он отнюдь не был цельной натурой, героизм перемешался в нем с безмерным распутством, и похоть зачастую заставляла его забывать о национальных интересах, не говоря уже об интересах людей, связывавших с ним свою судьбу. В те несколько месяцев, которые последовали после бесславной попытки овладения Парижем, Генрих показал себя во всей своей красе.
В ноябре 1590 года на него обрушилась новая любовь: он воспылал всепоглощающей страстью к Габриели д’Эстре, в увлечении которой не было и намека на то возвышенное чувство, которое довелось ему испытать благодаря Коризанде. Этот роман, отдельные эпизоды которого могли бы показаться позорными и унизительными для кого угодно, продолжался без малого десять лет и едва не закончился самым крупным в жизни Беарнца скандалом, который положил бы конец его карьере еще за десять лет до встречи с Равальяком.
Кто же эта замечательная особа? Современники, то ли искренне, то ли с лукавством и иронией, превозносили ее неземную красоту, которую не в полной мере передают дошедшие до нас портреты Габриели д’Эстре. Ее лицо представляло собой правильный овал с маленьким ротиком, прямым носом, миндалевидными глазами, достаточно высоким лбом и пышной блондинистой шевелюрой. Современников поражала перламутровая белизна ее кожи. До наших дней дошло такое описание: «Хотя она была одета в платье из белого атласа, оно казалось черным по сравнению с ее белоснежной кожей. Ее небесного цвета глаза сияли так, что трудно было понять, берут ли они свой живой свет от солнца или же прекрасное светило обязано им своим сиянием. Добавьте к этому правильные дуги черных бровей, с легкой горбинкой нос, цвета рубина рот, грудь белее и глаже слоновой кости, а также руки, оттенком кожи напоминающие розы и лилии, перемешанные в столь дивной пропорции, что являют собой шедевр, сотворенный природой». Другой автор прославлял ее «коралловые уста и жемчужные зубы», а также, сколь ни парадоксально, «ее прекрасный двойной подбородок».
Как бы то ни было, Генрих с первого взгляда безумно влюбился в нее, точно желторотый юнец, а не муж зрелых лет, в равной мере поднаторевший в служении как Марсу, так и Венере. К его огорчению, новая пассия не сразу ответила ему взаимностью. И понятно, отчего: в этом взъерошенном, неряшливо одетом солдафоне, воняющем чесноком и попахивающем конюшней, не было ничего такого, что могло бы сразу же соблазнить девицу восемнадцати лет, сознающую свою красоту и не лишенную смекалки. Она принадлежала к семейству, в котором галантные дамы специфическим образом помогали своим покладистым мужьям делать карьеру, заслужив в общественном мнении малопочтенное прозвище «семи смертных грехов». Ее двоюродная бабушка по материнской линии побывала в любовницах у Франциска I, Карла V и у папы Климента III. Ее мать, Франсуаза де Ла Бурдезьер, дала повод к пересудам, бежав со своим любовником. Ее отцом был Антуан д’Эстре, губернатор Ла-Фера. В своих мемуарах Бассомпьер рассказывает неприглядную правду о Габриели д’Эстре: «В возрасте 16 лет ее при посредничестве герцога Эпернона продали Генриху III, заплатившему за нее шесть тысяч экю, из которых Монтиньи, королевский казначей, удержал для себя две тысячи. Король быстро пресытился ею, и мать продала ее Замету, после которого та досталась кардиналу Гизу, прожившему с ней год. Затем прекрасная Габриель перешла к герцогу Лонгвилю, от него – к герцогу Бельгарду, порадовав также своими прелестями многочисленных благородных господ, проживавших по соседству с имением ее отца. Наконец, герцог Бельгард презентовал ее Генриху IV».
Генрих ввязался в очередную любовную авантюру, когда Франция переживала тяжелые времена. Смерть кардинала Бурбона делала в глазах католических суверенов Европы королевский престол Франции вакантным. Первым заявил о своих притязаниях Филипп II, вторым браком женатый на дочери Геннриха II Елизавете Валуа, от которой у него родилась дочь Клара Изабелла Эухения. По праву первородства она была бы наследницей престола Франции, если бы не Салический закон, который испанские юристы склонны были рассматривать как не имеющий силы. Ради обеспечения прав инфанты Филипп II согласился оказать военную помощь Лиге, дабы сокрушить короля Наваррского. Его заверили, что Генеральные штаты примут соответствующее решение, и он, обнадеженный, в феврале 1591 года направил во Францию войско, которое разместили в Париже, отдав тем самым столицу под контроль испанского короля.
Герцог Савойский Карл Эммануил, сын Маргариты Французской и внук Франциска I, хотя и не имел намерения занять трон Франции, однако решил захватить территорию между Роной и Альпами. Натолкнувшись на мощную оппозицию парламента Гренобля, признавшего в декабре 1590 года власть Генриха IV, герцог Савойский нацелился на Прованс, но и там в апреле 1591 года потерпел поражение. Тогда он вторгся в Дофине, но Ледигьер 6 сентября в сражении при Поншарра пресек его агрессию. Однако и после этого угроза, исходившая от правителя Савойи, не была устранена окончательно.
Третьим претендентом на французский престол был клан Гизов. Карл III, герцог Лотарингский, супруг Клод Валуа, второй дочери Генриха II, имел бы все шансы на успех, если бы семейство проявило больше сплоченности. Однако Майенн решительно не желал видеть племянника королем Франции. Меркёр, глава младшей ветви Лотарингского дома, действовал в собственных интересах, поскольку хотел выкроить для себя независимое княжество в Бретани. Возмущенный притязаниями лотарингцев, Генрих IV открыто объявил им войну. Угроза расчленения страны требовала решительных и незамедлительных действий, однако влияние семейства Габриели д’Эстре не позволяло ему действовать достаточно эффективно. Главное вредное последствие этого влияния состояло в том, что затянулся процесс умиротворения Франции и освобождения ее от вмешательства извне.
К моменту первой встречи Габриели с Генрихом ее отец Антуан д’Эстре, изгнанный лигёрами из Ла-Фера, лишился своей должности губернатора, а ее дядя месье де Сурди – губернаторства в Шартре. Что же касается любовника мадам де Сурди, месье Филиппа Юро де Шеверни, бывшего канцлера Франции, то он горел желанием вновь заполучить эту должность. В руках этой бесцеремонной троицы юная, хотя и немало повидавшая уже Габриель служила лишь инструментом, разменной монетой и козырной картой в их нечистой игре. Как бы то ни было, господин Шеверни внезапно, совершенно непостижимым образом оказался в фаворе у короля. В этих любовно-криминальных шашнях надо искать и причину того, что Генрих IV к великому изумлению и разочарованию соратников по борьбе вдруг принял решение отказаться от осады Руана.
Ни для кого не являлось секретом, что этот город, можно сказать, сам был готов упасть, точно перезрелый плод, в руки короля: в нем недоставало боеприпасов, крепостные сооружения не поддерживались в надлежащем порядке, гарнизон был слаб и плохо управлялся. Более того, парламент Нормандии изъявлял готовность финансировать операцию по взятию Руана. Окружение короля торопило его принять это нежданное предложение. Овладение Руаном, ключом к господству в Нормандии, несомненно, позволило бы в какой-то мере загладить негативные последствия провала Парижской операции. Однако как бы случайно канцлер Шеверни и господин Сурди настоятельно посоветовали Генриху заняться осадой Шартра. И король согласился на это предприятие, в равной мере пагубное как для его репутации, так и для дела, вождем и знаменем которого он считался. Не менее красноречив был и тот факт, что Габриель сопровождала, наряду со своей доброй тетушкой, дядюшку Сурди, отправившегося осаждать Шартр, хотя для нее это было далеко не самое подходящее место. Стоит ли напоминать, что и Генрих IV не пренебрег своей обязанностью главнокомандующего. И пошла забава: каждый вечер пиры и танцы до упаду. В надлежащий срок Шартр капитулировал, месье де Сурди вновь занял должность губернатора, а король получил свою вожделенную награду.
Теперь вроде бы можно было заняться осадой Руана, о чем постоянно напоминали Генриху люди из его ближайшего окружения. На этот раз и Елизавета Английская предложила свою помощь, обещая прислать четыре тысячи солдат. Однако опять верх взяла прекрасная Габриель, отправившая царственного любовника осаждать Нуайон. В августе 1591 года этот город капитулировал, и Антуан д’Эстре стал его губернатором. Может быть теперь, когда в Дьепе высадились англичане, король подумал об интересах дела и приступил, пока еще не поздно, к осаде главного города Нормандии? Ничуть не бывало. Сначала он направился в Седан, а на обратном пути надолго застрял в Нуайоне, не в силах расстаться с любовницей. Даже наиболее преданные ему гугеноты, элита армии, начали роптать. Что же касается католиков, то они откровенно задавались вопросом, правильно ли они сделали свой выбор и не лучше ли было бы воевать на стороне Лиги.
Когда же, наконец, королевская армия в начале декабря подошла к Руану, было уже слишком поздно. В городе распоряжался Виллар де Бранкас, талантливый военачальник и убежденный сторонник Лиги. Пока Генрих бездарно тратил время на любовные похождения, у Бранкаса была возможность должным образом организовать оборону города. Кроме того, жители Руана, как и парижане годом ранее, ожидали прибытия Фарнезе, который помог бы снять осаду с их города. И опять король, не щадя себя, развивал свою бесполезную, хотя и весьма самоотверженную активность, днем и ночью командуя на батареях и в окопах. Хотя он демонстрировал личное мужество, не обращая внимание на свист пуль, осада Руана велась из рук вон плохо. Генрих совершил все промахи, какие только можно было совершить при осаде города. К тому же он то и дело отлучался на охоту или на свидания с любовницами и подолгу пропадал в Дьепе, где находилась его ненаглядная, хотя и не единственная Габриель.
Герцог Пармский прибыл во Францию в январе 1592 года во главе многочисленной и хорошо обученной армии испанских, валлонских и германских наемников. И опять Генрих столкнулся с той же самой проблемой, что и в 1590 году, во время осады Парижа. Провал той кампании ничему не научил его, и он совершил ту же самую ошибку: вместо того, чтобы продолжать осаду Руана, он предпочел двинуться навстречу Алессандро Фарнезе, чтобы навязать ему бой. Ближайшие соратники, прежде всего Рони, как могли, отговаривали его, но все было тщетно. Хуже того, он вбил себе в голову, что надо провоцировать противника, дабы вынудить его вступить в сражение. Во время одной из таких бестолковых стычек, случившейся 5 февраля 1592 года и позднее получившей ироническое название «битва при Омале», Генрих был настолько безрассуден, что едва не попал в плен и получил пулевое ранение в поясницу.
Едва поправившись, он решил продолжить провоцирование Алессандро Фарнезе, но у того было достаточно времени, чтобы укрепить гарнизон Руана и обеспечить город продовольствием. Верный своей тактике, он, выполнив главную задачу, собрался отходить, повторяя собственный тактический прием 1590 года. Генрих со своей кавалерией устремился за ним, однако Фарнезе сумел под покровом ночи форсировать Сену и удалиться во Фландрию. Сколь бы потом ни злословили, утверждая, что отход герцога Пармского больше походил на бегство, неудача, вновь постигшая Генриха, не стала от этого менее горькой. Фарнезе опять показал себя лучшим стратегом, чем Генрих, уже в третий раз проигравший решающую кампанию. Он и несет основную ответственность за неутешительные итоги 1591 года. Провал очередной кампании объясняется его плохой стратегией, выбор которой, в свою очередь, определялся тем, что действиями короля руководил не разум, а либидо. «Умиротворение страны», которого Генрих якобы желал больше всего на свете, вновь откладывалось.








