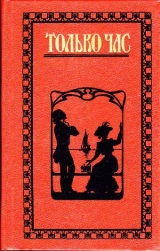
Текст книги "Династия"
Автор книги: Варвара Цеховская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Жаргон у тебя, Маргоша.
– Кому не нравится, пусть не целует. Или не слушает. А, гляди, уже просинь на небе? Я права, набежной был дождик. О, я знаток природы... Боже мой, я дома? Какое это приятное сознание. Дома – на целое лето.
– А потом?
– Потом что-нибудь выяснится. Мама зовет жить с нею в Киеве. Но это не подходит. Не уживемся мы, слишком разные. У нее свои фантазии, у меня свои. Я ее стеснять буду. Она теперь увлекалась негром. Всю зиму.
– Как негром? Каким?
– Каким... черным. Не знаешь, какие негры бывают? Настоящий, как деготь. Из цирка. Со слонами там, что ли... дрессировщик слонов, кажется. Я в пост приехала, он по целым дням у мамы. Жюстина говорит, всю зиму так. Нахал отъявленный. Туп, развязен, держит себя, как дома. И вообрази, мне вдруг вздумал делать умильные глазки? А? Ах, дрянь какая, эфиопская рожа. Я его так проучила... не скоро забудет. А мама с ним возится, как с болячкою. И вообрази...
– Ну, Христос с ним,– морщась, как от дурного запаха, остановил Марго Павел.– С мамой, пожалуй, действительно тебе неудобно.
– Мне не нравится. Одна Жюстина сколько крови испортит. Тоже нахалка у мамы. Бестия большой руки вертит всем домом. Спекулирует на том, что обожает маму. Льстивая – до дерзости. В Алупке, например... уверяет, будто маму за гимназистку приняли. И мама верит. Верит всему, что бы ни сказала Жюстина. Та ее гипнотизирует лестью.
Павел опять поморщился.
– Ты лучше скажи мне: ну, лето пройдет, а потом? Что потом думаешь делать?
– Почем я знаю, что будет потом? Может, виллу свою продам.
– И проживешь деньги?
– Проживу, разумеется.
– А потом?
– Опять потом? Какой несносный. А потом умру, может быть. Не два же века мне жить?
– Ты хуже ребенка, Марго.
– Подумаешь, какой ментор. Тогда видно будет. Что-нибудь да придумаю.
_______________
Дней через десять после приезда Марго неповоевская семья вся оказалась в сборе. Прикатил с Беатенберга и Вадим Алексеевич с женою.
Он занял свою половину в отцовском доме. Но так тихо было возле этого дома, что дом и теперь казался необитаемым. Ни детей, ни собак, ни голосов – ничего не слышно. Изредка, подражая Падеревскому, играет Марго Шопена; остерегаясь шуметь, толпятся у бокового крылечка по утрам больные Вадима Алексеевича, ждущие облегченья от его гомеопатических лекарств. В остальное время дом стоит точно покинутый. Белый, с серыми верандами и серыми жалюзи, одноэтажный, выстроенный покоем, с площадкой и боковыми проездами перед крыльцом,– он больше походит на грандиозный памятник, чем на что-то жилое. Цветут заготовленные с весны клумбы перед верандами, открыты двери и окна, зеленеют в вазах по бокам каменных ступеней крыльца столетние, если не старше, исполинские кактусы, мясисто-сочные, словно обсыпанные бело-зеленой пылью. А все кажется, что в доме никого нет и он лишь прикидывается, будто в нем живут люди.
В честь съехавшихся гостей устроен был пикник на скошенном лугу среди леса над Горлею.
Отправились с утра на целый день. Мягко зеленел заливной луг после сенокоса, как ровно обрезанный, бархатистый ковер зеленой окраски. Дядю доставили в коляске. Остальные приехали на лодках по Горле. Едва причалили к берегу, мужчины с детьми пошли купаться. Луг наполнился раскатами громового голоса Вадима Алексеевича, плеском воды, взвизгиваньями Гори и Славы, с которыми дурачился в реке Вадим Алексеевич, его громким, сочным, довольным смехом:
– Хо-хо-хо...
Дамы размещались поудобней у длинного стола, на пригорке, в тени деревьев. Дядя – весь в белом, с красной бутоньеркой на груди – занял место в центре стола. Рядом с ним – Агриппина Аркадьевна. Она была в ударе сегодня. Ни в лодке, ни на лугу не стихали мелодические переливы ее искусственно звонкого голоска. Шутила, как резвая девочка. И платье было на ней юное, девическое. Полукороткое, беловато-голубое из японского прозрачного шелка с вышитыми букетиками выпукло-синих васильков. Они с дядей и любезничали, и пикировались друг с другом. Зато солидничала Марго – в солидном платье из суровой парусины. Ей не хотелось выделяться своим мальчишеством среди молчаливо скромных невесток. Ксения Викторовна старалась поговорить с каждым ровно столько, сколько требовало приличие. Видимо, была поглощена своими какими-то думами. А Лариса молчала без церемоний, не обращая ни на кого внимания, уставившись в пространство задумчивым невидящим взором. Недаром была захолустной поповной, она не думала о приличиях. Высокая, худощавая, плоская и бледная, гладко причесанная, небрежно одетая, она имела не то нигилистическую, не то разгильдяйскую внешность. Казалось, для нее решительно безразлично, как на нее посмотрят, что будут думать о ней в том родственно-чуждом обществе, куда она случайно попала. Это равнодушие ей особенно ставили в вину почти все Неповоевы. Из-за него, главным образом, к ней не хотели привыкнуть.
Дядя говорил Агриппине Аркадьевне:
– В том-то и состоит секрет моложавости английской королевы Александры...
В это время за его спиной раздался громоподобный голос Вадима:
– Моложавость не есть молодость, дядюшка! Моложавость – это уже хв'альсификация... Хо-хо-хо...
Мужчины подходили к столу позади Вадима. Голиаф по сложению, мускулистый силач, ширококостный, плотный блондин с красивым, типично русским лицом и чудесными зубами,– Вадим не смеялся, а гремел, не ходил, а тяжко попирал землю.
– Хв'альсификация, дядюшка и мамаша. Хо-хо-хо... Агриппина Аркадьевна зажала уши.
– Вадим, ради бога... Не труби. Я оглохну.
– Виноват, маменька. Не буду. Никак не могу обуздать свои голосовые средства.
– Лучше бы упражнял их в Думе,– шутливо сказал Павел, подходя разом с Арсением.
– В Думе? В Думе говорить, братья мои, не хот'ца мне что-то. Не могу изнасиловать себя. Да не всем же говорить. Надо кому-нибудь и слушать, братья мои? Я двенадцать тысяч и семь раз имел возможность заговорить. И все...
– Не решался? – подсказал Павел.
– Нет, братья мои. Не не решался, а не хотел. Не находил нужным. А будь воля моя, двенадцать тысяч и семь раз имел возможность.
Повторять "двенадцать тысяч и семь раз" было привычкой Вадима Алексеевича. Так и звали его многие из знакомых: двенадцать тысяч и семь раз.
Расселись вокруг стола с яствами.
Дети с гувернерами и русским учителем в конце стола, немного поодаль. Братья – трое в ряд, визави с дамами. Повар и поварята уже суетились за кустами вокруг передвижной плиты, раскаленно шипящей. Лакеи подавали чай, шоколад, кофе и одновременно холодный завтрак.
Арсений Алексеевич сказал Павлу, продолжая недоговоренное раньше.
– Так и не добился ничего. Сколько ни ходил возле него. Никакого личного впечатления и из этой сессии.
– Чудаки вы, братья мои,– спокойно возразил Вадим.– Да что я буду рассказывать? Ведь все в газетах было?.. Дума как Дума. А о моем личном впечатлении... оно то же, что и в прошедшем году. Нудно, братья мои. Толчение воды в ступке. Что она, Дума, сделать может? При существующих беспорядках? Оглянитесь на наш город. Беззаконие на беззаконии, взятка на взятке. Из главенствующих лиц, кажется, один ты ничего не берешь, Арсений. Законы – сами по себе, жизнь – сама по себе. К чему тут Дума? Да еще такая, как она есть? У нас полицмейстер приедет к N. "Я тысячу раз говорил тебе, жидовская морда, такой-сякой, то-то и то-то"... Следовательно, надо дать тысячу. И все знают, что надо. И знают, что когда К. он запустил: "Я пятьсот раз говорил тебе, собачьему сыну",– К. сказал: "Ижвините, господин паличмейстер, ви говорили тольки двести раз". И дал двести. Так вот, когда жизнь пестрит такими сценками... Когда им уже и не дивится никто,– ты о Думе? Силен ли подъем национального чувства? Солидарно ли дворянство? Каковы мои впечатления? Зачем? Кому они занимательны, впечатления мои? А хочешь знать, я же сказал: мне в Думе нудно. Будто сижу в присяжных заседателях на се-е-еренькой сессии. Дела-то все больше о мелких кражах со взломом. Или на сумму свыше трехсот, но меньше тысячи рублей. И уйти нельзя, и сидеть тошно. Вот как мне там, братья мои, коли знать хотите.
– Ты, верно, сидишь в Думе, а сам все о своей пасеке мечтаешь? – спросила Марго через стол, улыбаясь.
– Ну, не непрерывно. А скучаю. До бесчувствия скучаю. Не об одной пасеке. Вообще. Я там, как в ссылке. Здесь у меня все мое осталось. Тут и с гомеопатией мне раздолье, лечи, сколько хочешь. Не успел приехать, так и повалил народ. И пасека у меня, и купанье. Рыбная ловля, гимнастические упражнения. По вечерам – ракеты. Все мое, самое любимое. А там – чуждо как-то, неприютно. Как подошла весна,– до чего я пасечнику своему, деду Лукашу, завидовал! Ей, право... Что смеетесь, братья мои? Помилуйте, девятого мая там снег еще шел. Зелени – ни намека. Иду я в драповом пальто по своей Фурштадтской и думаю: счастливый, счастливый дед Лукаш! Сидит он хозяином на моей пасеке, и горюшка ему мало. Солнце ему светит, мокрой землей, весною пахнет. Поди, уже и черемухи, и груши у нас отцвели. Пчела небось с яблонь несет хватку. Может, и то отошло уже... До акации дело доходит... А я в драповом пальто по каменным улицам фланирую. Так-то, братья мои.
– Скучать-то ты скучал... А после Думы не на пасеку свою, а на Беатенберг помчался? – упрекнул Арсений Алексеевич.
Вадим ответил:
– Ларочке захотелось. Я было и согласился. После гляжу: невыдержка, тоска одолевает, тошно. Чего мне тут, на курортниках, думаю. И взмолился рак щучьим голосом: "Ой, до дому!" Уступила сейчас. Женка у меня, спасибо ей, добрая. Сговорчивая. Чего ни попроси, все уважит. А в Думе мне хотя бы о гомеопатии поговорить? Может, удалось бы убедить, хоть немногих. Так и того нельзя. Запечатано. Давши слово, держись, обошел ты меня, Арсюша... Вырвал тогда слово это. У меня уже как раз возник теперь проект...
– Ради создателя, Вадим. О гомеопатии? Да что ты!
– Да я молчу. Я не скажу, не тревожься. Но если бы вернул ты мне слово мое... Проектец знатный, хороший, братья мои. Обучить всех сельских учителей леченью гомеопатией. И затем – преподавать в школах. Чтобы народ имел возможность сам лечиться.
– Не срамись, Вадим. Сделай одолженье.
– Ну-ну... Чего доброго, заплачешь еще? Я же сказал и сдержу слово, если не освободить меня от него. Сдержу. Но это предрассудок у тебя, Арсюша. Предубеждение. Непродуманное. У нас в России современная медицина не в состоянии помогать простому народу. Сами земские врачи признаются. А земства тратят 30–40 процентов своего бюджета на санитарное дело. Что же получается? Игра впустую. Между тем как гомеопатия...
– То же знахарство,– подсказал Павел, грызя в зубах стебелек зеленой зубровки, случайно уцелевшей от косы.
– Зна-хар-ство?
– Само собою.
– Ошибаетесь, Павел Алексеевич. Далеко не знахарство. Основатель гомеопатии, доктор Самуил Ганеман...
– Заметь: еврей был, должно быть?
– Это все равно. Образованнейший человек своего времени. Его признавали огромным авторитетом. Профессор Ведекинд писал о нем: гениальный.
– Когда это было? Сто лет назад.
– Тем лучше. Идея, которая выжила сто лет, это уже не мираж, не заблуждение. Тут уж есть, над чем подумать. Книга Ганемана "Органон" до сих пор показывает всем, что мы имеем дело с титаном. Так мощно потрясти столпы старой медицины...
Павел Алексеевич рассмеялся.
– Смеяться надо всем нетрудно,– побагровел Вадим.– А излечение по закону подобия признают и сейчас даже многие аллопаты. Как неоспоримый факт. Как результат опытов. Да что. Гениальный Пирогов не расставался с гомеопатической аптечкой, путешествуя по Кавказу. И он же давал совет одному тяжелобольному врачу прибегнуть к гомеопатии.
– Может быть, тому уже больше нечего было посоветовать?
– Ничуть твоя ирония не ядовита. Разумеется, нечего. Ибо только гомеопатия и могла помочь. А с тех пор – какие шаги вперед. Теперь гомеопатия пользуется всеми медицинскими науками, которые стоят на высоте. Отвергает лишь фармакологию да терапию. Но это же науки туманные? Бредущие на ощупь, еще не разработанные? Их негодность признает и сама аллопатия.
– Разве?
– А почитайте Вересаева! Ведь это же полное отчаяние! Полная беспомощность врача перед болезнью. Врач, леча болезнь, разрушает мне организм. В одном месте пытается помочь, в другом портит. Благодарю покорно. Я пришел к тебе в дом оказать помощь. Дать денег взаймы, что ли... И, проходя,– произвел у тебя маленький,– а то и большой,– пожар? Хороша помощь. Не ожидал. Благодарю покорно. Лечение, которое не выдерживает самого основного своего принципа – не вредит больному... оно, по-вашему,– научное?
– Браво, Вадим! – подзадоривающе крикнул через стол дядя.– Да ты оратор? Вот бы так в Думе. Жаль, жаль, что ты связан!
– Но гомеопатия еще менее может претендовать на научность? – скучливо и раздраженно проговорил Арсений.
– Кто тебе сказал? Неправда. Неверно, заблужденье. Косность человеческого ума и натуры. Гомеопатия выжидательный способ лечения. Он зиждется на благотворной, целительной силе природы. Similia similibus curantur. Лечи подобное подобным. Клин клином вышибай, иначе. Выбирай наиболее подобное болезни средство. Потому что самородная болезнь устраняется подобною же болезнью, вызванной искусственно. Вот и все... Аллопаты сами не вполне знакомы с действием своих лекарств. Еще меньше с истинным значением лечимых симптомов. Гомеопатия же... она знает, что делает. Если я даю больному арнику, ноготок-календулу, ромашку-хамомиллу, то...
– Ты знаешь, что даешь безвреднейшие средства,– опять невозмутимо просуфлировал Павел.
– Восхитительные средства! Их крадет у нас уже и старая медицина. Смеяться легко. А предубежденность говорит о незнакомстве с предметом. Почти всегда... Смех невежды самый неукротимый.
– Как пыл правоверного гомеопата.
– У нас смеются, острословят... А вот в Вашингтоне... где культура – и вы согласитесь, надеюсь? – почище нашей... Так там на открытии памятника Ганеману присутствовал сам президент, Мак-Кинлей. В тысяча девятисотом году. И даже выступил с речью. Да. Там не боятся показаться отсталыми. И Ганеману воздвигнуто еще три памятника. Кроме Вашингтона. В Лейпциге, в Париже и...
– В Кетене,– невинным голоском с дурачливой подобострастностью докончила Марго.
Вадим Алексеевич посмотрел на нее изумленно, одобрительно, полунедоверчиво.
– Ты откуда знаешь?
– Да ты же сам, Вадя, двенадцать тысяч и семь раз говорил...
Все засмеялись. Вадим Алексеевич тоже.
– Вот так всегда,– сказал он потом с укоризной.– В самом серьезном деле все только и ждут у нас смешного коленца. Почему наш народ не может сам лечиться гомеопатией? Только бы немножко подготовить его, и дело в шляпе. Разве те фельдшера, что его лечат, подготовлены серьезно? Я воочию знал одного, который отсыпал лекарства "на глаз расстояния", как он выражался. Восемнадцать гран хины отвалил на один прием беременной бабе! Все на глаз расстояния. И он же говорил: хирургия – моя стихия. Страшно охоч был до операций. Так это, по-вашему, разумная медицинская помощь населению? И не лучше разве вооружить такого гомеопатией?
– Такого-то, пожалуй, лучше,– согласился Павел.– По крайности, вреда не причинит. Если не поможет.
Вадим отходчиво смирился. Он махнул рукой, будто говоря: э, да что с вами! И мощно выкрикнул Славе и Горе:
– А ну, хлопцы! Не пойти ли нам с удочками? Парит, братцы! Как бы дожж'а не собрался. Самая ловля перед дождиком.
Вадим Алексеевич, стоя возле мальчиков, развязывал удочки.
– Ну, ребята... Вот вам. По удочке и марш. Айда. В ногу. За мною... Левой! Правой! Левой! Та-эк-с. Я одобря-я-яю! А теперь, ну-ка, ребята, трио: ммы-ы-ы...
Мм-мы-ы на-ло-овим для-я ушицы
Зо-ло-ти-истых о-оку-не-ей!
Весело смеясь сверкающими разноцветными глазками, Горя подхватил беззаботно и звонко:
Мы наловим для ушицы
Золотистых окуней...
Слава с удочкой на плече шагал молча, полувопросительно посматривая краешком глаза в непроницаемое на этот раз лицо мистера Артура.
_______________
До обеда удачно удили рыбу, купались еще раз, играли на отрастающей бархатистой траве в крокет. И Павел Алексеевич, привыкший к метким бильярдным ударам, загонял бог знает куда чужие шары, выигрывал все партии.
Обедали очень долго. Дольше, чем обыкновенно. Ели полевой кулеш с дичью, шашлык, карасей в сметане, уху из рыбы, пойманной на удочки! И еще много блюд, приготовленных не здесь, среди леса, а доставленных сюда уже готовыми. За десертом Вадим Алексеевич жаловался, что у него болят от еды челюсти и жевательные мышцы. Но и после того и он, и другие еще долго сидели за столом, пили черный кофе с ликером.
Вадим говорил, говорил, говорил. Точно хотел вознаградить себя за все петербургское молчанье. Его остроты и шутки были избитые, общеизвестные, но сыпались они как из рога изобилия, и Вадим Алексеевич смеялся первым над ними. Вроде: "Ваше звание, сударь?" – "Высочайше утвержденного общества Санкт-Петербургских железных дорог империальный пассажир".
Или еще:
– Беседуют двое, оба на взводе. Один – идеалист, другой – человек земных настроений, без лишних иллюзий! Первый напевает, сентиментально убеждая второго: "На заре ты ее не буди!" А второй, в ответ, несколько придирчиво: "П-п-почему?" – "На заре она сладко так спит!" – "Ну, так что ж?" – "Утро дышит у ней на груди!" – "На-а-аплевать!"
– Ой, Вадя! – кричит Марго умоляюще.– Двенадцать тысяч и семь лет этому твоему дуэту.
Но Вадим неуязвим. Он говорит невозмутимо:
– Что за беда? Хорошую вещь и повторить можно.
– Я знаю иначе,– подхватывает игриво дядя.– Хорошую вещь и посмотреть не грех. Архиерей... На вечернем торжестве каком-то... Возле сильно декольтированной губернаторши.
– Эээ... ну...
– Дядя, дядя... Это не при детях. Здесь – дети,– смеется Марго.
– И дамы,– сурово напоминает Арсений.
– Э, молчу, молчу.
Обед кончен.
Перед вечером собирали в лесу для костров дрова. Лакеи свалили собранный хворост в кучу, подбавили сухих березовых и дубовых привезенных из дому дров, и на лугу запламенели с приятным треском огромные костры.
Monsieur Жюль Козе вызвался показать Ивана "Купаля". И перепрыгнул с разбега самый обширный из костров. Ему единодушно зааплодировали. Но прыгать через огонь не нашлось больше охотников. Затеяли игры с участием мальчиков и гувернеров. Играли в кошки-мышки, в подбрасыванье платка, в колечко, наконец, в горелки. Бегали все, кроме дяди и Агриппины Аркадьевны. Агриппина Аркадьевна много раз объясняла, что она разучилась бегать.
– Совсем, совсем разучилась. Потом так мускулы болят. Не поднять вверх ни ноги, ни колена. Вот этого движения никак потом не сделать.
Она шаловливо показала перед французом Козе, какого именно движения. Француз сделал соболезнующую мину, а дядя ехидно повел глазами и сказал кротко, будто покоряясь велениям судьбы:
– Мы с вами уж посидим, дорогая. Куда уж нам, старикам, бегать? Кости-то уже хрупкие. Того и гляди, ногу сломишь.
Агриппина Аркадьевна сжала зубки, но села.
У Павла Алексеевича Слава поймал его даму, Ларису Андреевну. Павлу пришлось гореть.
Бежала очередная пара, Ксения Викторовна и Арсений. Несмотря на излишек полноты, Павел бегал, как и танцевал, легко и быстро. Он погнался за Арсением. Но у сухощавого Арсения оказались юношески-крепкие ноги. Он ловко ускользнул из рук Павла, значительно опередил его и повернул назад, стремясь навстречу отставшей Ксении. Тут только заметил Павел, что Ксения Викторовна отстала, что бежит она плохо, нетвердо, неуверенно. Павел, сделав поворот, отрезал путь к ней Арсению. Через минуту Ксения Викторовна в руках у Павла, ее голова слегка ударяется о его грудь. Всю ее Павел ощущает так близко. И эта близость сжигает его сознание. Подкашиваются ноги, исчезает дыхание. Горячая, блаженно-сладостная, отважная до дерзости волна подхватывает Павла и увлекает куда-то глубоко в пропасть, минуя все препоны сознания, парализуя задерживающие центры. Павел стремительно сжимает обеими руками свою добычу. Он чуть не падает с ног, увлекая за собою и Ксению Викторовну. Томительная, годами назревавшая в нем потребность в близости именно этой, а не другой женщины – затемняет все. Но это длится момент, не более. Сознание вспыхивает с обостренной силой. Павел выпустил из рук Ксению Викторовну: он переполнен тревогой и опасением: не заметили ли? С тревогой в глазах оборачивается он к подбегающему Арсению. Тот спокоен, в хорошем настроении, доволен своим уменьем бегать.
– Что? Поймал меня, толстый? Туда же гнался... Вот Ксенаша – скороход по твоим силам.
Прошло, миновало. Никто не заметил.
Павел Алексеевич смелее взглядывает на Ксению. Она безмятежна и чуть рассеянна. Ей не то нездоровится, не то скучно среди этой беготни и шума. Бледна, немного вяла, чем-то озабочена.
В паре с Ксенией Викторовной и опять вблизи нее Павел до того волнуется, что ему трудно дышать. Теперь Ксения Викторовна примечает это, но говорит утомленно:
– Как вы запыхались. Вам вредно бегать.
Павлу неприятны ее слова. Инстинктивно ему хочется, чтобы Ксения Викторовна считала его гигантски мощным, несокрушимым, полным энергии и силы.
Горит Арсений и сейчас же ловит проворного, как зайчик, Горю.
– Папа? Вот молодец!– увлекшись, кричит разгоряченный игрою Горя.– Вот хорошо бегаешь.
Гореть остается monsieur Жюль Козе. Он пропускает несколько пар. Будто умышленно никого не ловит, будто поджидает кого-то. Снова пора бежать Павлу и Ксении Викторовне. Козе погнался за Ксенией, но не настиг ее, хотя настигнуть было легко. Опять Ксения Викторовна в объятиях Павла, опять горячая волна заливает его сознание. И так же быстро, как налетела, уступает очередь отливу. Не успевают Ксения и Павел стать на свое место, как Козе уже поймал быстроногую Марго, разъединив ее с мистером Артуром.
Ксения, увидев, что горит Артур, сдвигает брови и говорит Павлу:
– Я устала. Отведите меня незаметно в сторону. Не хочу больше играть.
"Словно испугалась англичанина? Или не хочет, чтобы он поймал ее?" – бегло подмечает Павел. Но ему некогда задерживаться на этой мысли.
Несколько шагов, и они за густым терновником, позади играющих в горелки, на извилистой лесной дорожке, что спускается вниз к речке.
– Я сяду,– говорит Ксения Викторовна.– Не могу идти. Дрожат ноги.
Павел усаживает ее тут же на дорожке, у кустов лесной калины. И сам опускается на траву рядом с Ксенией.
С поляны несутся взвизгивающие голоса. Выделяется пискливый тенорок Жюля. Потрескивают костры. Дядя чему-то громко смеется, насмешливо и злорадно. Горя кричит возбужденно:
– Дядя Вадя... а фейерверки? Скоро ракеты? Вадим Алексеевич басит в ответ:
– Подожди, брат. Пусть стемнеет. Какие же фейерверки среди дня?
– А римские свечи будут? А звезды Неповоевки?
– Будет, будет. Все будет. И звезду Неповоевки сожжем. Погоди ужо, не горячись.
Еще день, но солнце за облаками. Побледнела речка, темнее кажется зелень дубов. Под кустами калины у заросшей дорожки пахнет чебрецом, раздавленным под ногами. Цапля прокричала где-то вверху, как капризный ребенок. В воздухе – запах земли, остывающей от солнечного жара.
Павел не отводит испуганного взгляда от побледневшего лица Ксении Викторовны. Но той горячей, сжигающей сознания волны уже нет, несмотря на близость Ксении Викторовны, несмотря на то, что они одни. Теперь Павел и сам опасается, как бы не налетело недавно пылавшее ощущение: наедине с нею труднее овладеть собой, легче забыться, прорваться. И ей, Ксении, легче заметить все, что осталось незамеченным там, в толпе играющих. Да и здесь она как бы под опекой Павла. Павел спрашивает заботливо и пугливо:
– Вы устали, Ксения Викторовна? Ксения отвечает с усилием:
– Устала. Очень устала. Нехорошо мне сегодня. Не следовало бегать. Я так ослабела.
– Нехорошо? – повторяет Павел, бессознательно вкладывая в свой вопрос много нежности, тревожной заботы, любовного опасения.
Ксения Викторовна утомленно вздыхает.
– Вам нездоровится? Вы больны? – настойчиво добивается ответа Павел.
– Да... вроде того. Хотя... может быть, пройдет.
В ее тоне что-то необычайное. И сердитое, и испуганное одновременно.
Павел не понимает. Он смотрит вопросительно-удивленными глазами. Ксения Викторовна добавляет, не доканчивая:
– Я боюсь...
– Боитесь? Чего?
– У меня какое-то непонятное предчувствие. Все время. С весны еще. Все кажется, будто я умру скоро. Вот, вот, вот... и меня не станет.
– Бог с вами! Вам умирать? Вам?!
Голос Павла, сорвавшись, доходит до шепота. Дрожит рука, которой он упирается о землю. В волненье он не знает, что сказать.
– Если вам умирать, вам, полной сил, в расцвете...– говорит он наконец,– кому же жить после того? Тогда таким ненужным тунеядцам, как я, например... живьем, значит, ложиться в землю?
Помолчали. Ксения Викторовна покачала головой.
– А кому я нужна? – произнесла она и докончила с несознаваемой жестокостью: – Тоже никому.
Павлу мучительно хотелось крикнуть: "Мне!" И потом сказать ей что-то необычайно нежное, задушевно-теплое, нечто такое, что защитило бы, согрело и утешило эту суеверную женщину среди ее тоскливых предчувствий.
Но опять у него не хватало слов, опять он молчал. А Ксения Викторовна повторила:
– Тоже никому. Дети? Они и при мне без меня живут. Арсений?.. Поплакал бы сперва, зато после... потом ему без меня будет покойнее. А для себя самой? Для себя хорошо жить, когда есть счастье. Или кажется, что оно будет, что оно еще может быть.
Она не договорила, испугавшись сказать лишнее.
– А все же страшно. Пугает... Я боюсь. Как представлю себе, что никогда не увижу Гори. Не увижу аистов весною. Не услышу музыки, шума деревьев. Много и важного и мелочного приходит на мысль. Но главное, что все исчезнет. Для меня исчезнет. Самое страшное в слове "никогда" Что я никогда не увижу, не услышу, не буду ощущать, чувствовать, что я исчезну. Перед этим сознаешь себя такой побежденной, такой бессильной. И такой протест закипает против этой побежденности. Так хочется бороться, осилить. А понимаешь, что нельзя, что не в твоей воле. Нет я боюсь... Страшно!
– Да что вы, Ксения Викторовна,– остановил ее Павел, уже рассердившись.– Этак забрать себе в голову... так и в самом деле доведешь себя...
– Но это же извне, независимо от меня,– ответила она более спокойно.– Ничего я не забирала в голову. Напротив. Мне самой страшно. Я ведь вовсе не желаю... Я боюсь умирать.
– А я нет,– вырвалось у Павла.– Может быть, оттого, что это всегда в моей воле.
– В вашей воле? Как?
– Ну, как... Как у всякого. Каждый может, когда захочет...
– Аа... вы про это.
– А разве нет?
– Нет, не каждый. Я бы не решилась – первая. Добровольно? Нет, никогда. Как бы плохо мне ни было. Все перенесла бы... Но это? Нет. И многие не смогли бы. А вы?
– Думаю, что смог бы. Если бы жизнь стала совсем невмоготу. Или если несчастье... Большое, непоправимое, которое нестерпимо больно и не к чему нести. Тогда бы..
– И вам не страшно? Даже говорить? Даже думать?
– Наоборот. Приятно. Приятно сознавать себя хозяином над собой же. Думать, что вот... один лишний укол моего шприца и я освобождаюсь.
– Но от чего?
– От всего. От плохого, от хорошего, от...
– Но и плохое, и хорошее, оно проходит. Может возвратиться, опять пройдет. Оно изменяется, теряет значение, оставляет надежды. А тут: никогда.
– Но это же закон природы, Ксения Викторовна!
– То-то и страшно. То-то и пугает, что неотвратимо. Я как подумаю, что вы все останетесь... будете жить, играть в горелки, смеяться, а я... там... одна? Что я буду уничтожена... что меня похоронят. Одна – в этом склепе? О-о!
– Ну, хорошо,– полушутя сказал Павел,– даю вам слово переселиться к вам в склеп. Чтобы не оставлять вас одну. Вас это утешает? Хоть немного? Если да – я готов. Уж коль вам умирать... матери детей, молодой, сильной,– такой бездельник, как я, не имеет права жить. Никакого. Лягу и я подле вас костьми. Обновим склеп вместе.
Ксении показалось это неправдоподобным. Она улыбнулась.
– Раньше вашего срока не ляжете,– пошутила и она.– Небось не захочется. И смотрите... вдруг я явлюсь тогда в фосфорическом свете и скажу: "Павел! А помнишь? Павел! Помнишь твое обещание?"
– Я и без напоминанья не забуду.
– Но срок, срок?..
– Его можно ускорить. У меня, в аптеке моей, есть ценное снадобье. Кураре называется. Когда я гляжу на него, мне нравится думать: вот захочу... и всему конец!
Ксения Викторовна повела плечами, содрогаясь.
– Сильное оно? Снадобье ваше?
– О, очень! Растительный яд. Из коры одного растения, сейчас забыл названье. Чрезвычайно быстро всасывается из подкожной клетчатки. Достаточно помазать им ничтожную царапину, и человека нет. Паралич дыхания. Ценно, что чрезвычайно быстро. Не успеешь оглянуться...
– Это страшно, а не ценно,– вздрогнула опять Ксения.– К чему вы держите такие средства? Может подвернуться минута слабости, уныния. И вдруг после захочется назад? А уже будет поздно...
– Ну что ж? Тогда несколько ужасных мгновений. Но коротких, весьма коротких. А вернее всего, не успеешь подумать о возврате. Но даже в случае малодушия нельзя ничего предпринять. Концу предшествует паралич. Полная недвижимость. Значит...
Он хотел еще что-то добавить, но из-за калиновых кустов, чуть не вплотную наскочил на него Арсений.
– Ты? – крикнул Арсений Ксении Викторовне озлобленно.– Ты уже здесь? И Павел? А где же он?
– Кто?!
Ксения Викторовна надменно повысила голос. Глянула, будто прокричала: "Мы не одни, опомнись!"
Глаза Арсения блуждали. Крепко сжатые челюсти двигались ускоренно. У него было растерянное, бледное лицо, трясущиеся губы.
Локализируя вспышку, Павел заговорил недальновидно и благодушно:
– Ксения Викторовна устала бегать. Сказала мне неприметно увести ее. Я уж боялся, не сделалось бы дурно, до того побледнела. К счастью, прошло скоро.
– Вы здесь... все время были? – спросил Арсений виновато стихшим и уже ласковым голосом.
– Ну, да... а где ж? Говорю же: нехорошо Ксении Викторовне стало.
– А я пошел... Артура искать,– начал объяснять, путаясь, Арсений.– Исчезли вы с Ксенашей, Артур и Марго. Я думал, Ксенаша, ты и Марго вместе, а Артур, думаю, как заблудится один в лесу...








