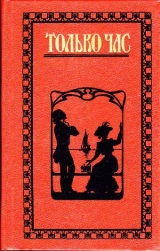
Текст книги "Династия"
Автор книги: Варвара Цеховская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Она отошла.
Павел заглянул в перекошенное лицо Ксении Викторовны.
– Да вас, кажется, серьезно встревожило это? – сочувственно спросил он и невольно улыбнулся.
– Стыдитесь, Ксенаша,– пристыдил дядя.– Этакая абракадабра. Чепуха явная. И загубишь, и загинешь... А что? Где? Когда? Каким образом? Нельзя постигнуть. И вы, светская женщина... Женщина образованная, современная, вы вдруг верите в подобный вздор?
– Я не верю,– поспешно сказала Ксения, оправдываясь.– И не думаю верить. Просто у меня... закружилась голова. От нее так противно пахнет. Голова закружилась, вот и все. Идемте. Пора к чаю.
Вечер неприметно перешел в ночь.
После чая Ксения Викторовна осталась с дядей на веранде играть в шестьдесят шесть. Она играла рассеянно, думая о другом. Дядя попевал: "Иэ-э-буду тебя я ласка-эть! Цэ-эло-ва-эть! Ааэ-эбнима-эть!" И трунил, уверяя, будто еще Ксения вся во власти гаданья цыганки.
Павел Алексеевич опять очутился над речкой.
Месяц – молодой, похожий на отрезанную половину арбуза, медленно двигался по небу. От него еще было мало света. Звезды отражались в темной глубине затихшей Гор-ли, горели там глубоко, блестящими, как пылающие угли, точками. За рекой лежали освещенно серебристые пятна вырубленных лесов. На одной линии с парком, но подальше, у поворота реки, стоял лесок, густой и высокий. Под ним темнел берег, и вода у берегового подножья казалась черною. Как раз на фоне этого затененного поворота то и дело переплывал узкую речку паром с фонарем посередине. Громыхая, вкатывались на паром повозки и арбы, гулко стучали копытами кони по деревянной настилке. Павел Алексеевич следил за движеньем на переправе. Издали ему отчетливо был виден большой, огненно-желтый фонарь на пароме, выхваченные из темноты фигуры, на которые падал свет. Вот выделилась голова серого вола с широко изогнутыми рогами. Даже можно было разглядеть выражение воловьей морды, спокойно-задумчивое, точно беспристрастно наблюдающее, и часть его серо-белой, крутой спины, остальная половина которой сливалась с чернотою воды и берега. Еще не двинулся паром, но вол повернул голову в сторону и исчез в темноте, будто его сняли с экрана. Расцветали шатристые молодые липы вдоль береговой аллеи. Они уже белели желтоватыми букетами под скупыми лучами неяркого месяца. Роса блестела на траве, на виноградных листах беседок, на перилах мостков, на спинах скамеек.
Было грустно – непонятно почему.
Ужинали так же торжественно и сытно, как ели за обедом. Только не было Арсения Алексеевича, да дети с гувернерами не выходили к ужину. Ксению Викторовну тревожило что-то. Какая-то скрытая мысль, забота или огорчение. И Павел, глядя на нее, не мог понять, отчего это? Неужели в самом деле расстроила болтовня цыганки?
Ночью после ужина он, томимый бессонницей, долго еще бродил одиноко над рекою. Хотел утомиться в надежде, не уснет ли тогда без наркотика.
И все время мечтательно думал о Ксении Викторовне, о ней одной.
_______________
А дома как всегда поджидала его Оксана.
Оксана проскучала вечер. Давно заперла она на болты ставни и двери, по-ночному душно становилось в низких комнатах, а Павла Алексеевича все не было.
И как всегда Оксана сердилась.
– Ну, чего шляется, прости господи? Деревьев не видал, что ли? Добро бы в компании, а то один же?
Если бы Павел Алексеевич "шлялся" в компании, Оксана была бы недовольна еще больше. Но теперь ей думалось, будто ее досада оттого, что он гуляет один. Было же обидно, что вот он и один, а все равно не торопится домой, потому что дома его не привлекает ничто.
Оксана переходит от одного запертого окна к другому, прислушивается, вздыхает. Но легких, знакомых шагов не слышно. Пусто и тихо за окнами в парке. Свистят лишь в кустах соловьи, допевают летние песни. Или изредка прошелестят листья на деревьях, когда набежит ночной ветер.
Оксане скучно.
Ее комната – самая уютная в доме. Горит синяя в золотых звездочках лампада перед иконами на угольнике, покрытом вязаной скатертью. Иконы – старинные, барские, в киотах. Одна – в серебряной потемневшей ризе. Свет от лампадки голубоватый, приятный, ласковый. Оксана любит этот свет, и Павлу Алексеевичу он нравится. Лампадка перевозится то в город, то в деревню, как и сундук Оксаны. С ними она не расстается. Сундук – необъятных размеров, серый, с белым мраморным рисунком,– занимает весь простенок от печки до платяного шкафа. Чего в нем нет! Сколько белья, тонкого, полотняного; рубашки цветного батиста – дюжинами. Вышитые на досуге полотенца и наволочки, простыни, салфеточки, скатерти. Платья летние и зимние, нижние шелковые юбки, лисья шуба с суконным верхом, черный плюшевый жакет. Сколько ботинок лакированных и шевровых, платков, шарфов, косынок, шарфиков. Оксане из-за ее сундука завидуют женщины мужицкой Неповоевки. И много по этому поводу толков, пересудов, осуждений.
А все же Оксане не по себе, ей грустно.
Мирно освещает голубым светом лампада липовую кровать под белым одеялом с башней подушек в кисейных наволочках на голубых шелковых чехлах. Кровать старинная, тоже барская, такая широкая и глубокая, что пуховая перина Оксаны тонет здесь, почти не возвышаясь. А в городе перина дивит своими размерами городских знакомых Оксаны.
При голубом свете кажутся менее громоздкими, чем днем, и гардероб, и комод, отделанные под карельскую березу, и туалет на комоде с ненужными Оксане ящичками, и тусклое зеркало туалета за кисейными занавесками. Мирно пахнет мятой, чабрецом, еще какой-то душистой травою от букета, что стоит в стакане перед иконами.
Казалось бы, все так благополучно, привольно.
Сегодня были в гостях мать с невесткою, и сестра при них подоспела, замужняя, из дальнего села. Ехала в город на ярмарку, зашла проведать. И все говорили чуть не разом:
– Ты – как в раю. Чего тебе? Тебе – счастье, ты – барыня.
Мать денег на ярмарку приходила просить, взяла, сколько хотела. И сестре нужно было денег. Оксана дала ей десять рублей не без скрытого тщеславия. Сестра была старшая, когда-то помыкала Оксаной, гоняла на посылках, драла за уши. А теперь завистливо, с почтеньем качает головой и все вздыхает:
– Тебе счастье... счастье. А у нас...
Жалобы на жизнь лились у всех трех, не утихая. И после вздохи:
– Тебе счастье. Ты – как в раю. Благодари бога. Ты – барыня.
– Не забывай родичей, Оксана. А то и тебя бог забудет.
Эти женщины считали себя как бы посредницами между богом и Оксаною. Точно бог для того уготовил рай для Оксаны, чтобы она помнила о родичах...
Они ушли, выпив два самовара чаю, много водки и наливок, уничтожив запасы закусок, горячих и холодных, много сластей и орехов.
Ушли с деньгами и щедрыми гостинцами, с благодарностями и пожеланиями.
А Оксана, оставшись одна, промаялась, скучая, вечер. Одна в доме она боялась воров. Но теперь, в половине летней ночи, отперла дверь, вышла на крылечко послушать, не идет ли? Было тихо. Ей послышались шаги в аллее со стороны дома старой барыни. Она обрадованно прислушалась, забыла о досаде ожиданья.
– Идет?
Но шаги не Павла Алексеевича. Тот ходит легко, хотя и толстый. А это кто-то ступает, как десять пудов несет, и сапоги простые, твердые. Сторож, верно, возле старого дома?
Колотушка сторожа застучала именно там, откуда раздавались шаги. В селе на колокольне прозвонили двенадцать раз.
– О, господи... Двенадцатый час. Скоро светать будет. И чего шляется, прости господи?
Опять заперта дверь, Оксана опять у себя в комнате. И опять щемит у нее в душе.
Летом, как-никак, а ждать его легче. Хоть знаешь, где он, с кем. Тут все свои... А зимою? То – в клубе, то пойдет – кто его знает куда. Может, с барышнями где-нибудь?
"Барышни" – это девушки из приличных, вернее, помещичьих семейств. Иначе говоря, те, на которых Павел Алексеевич мог бы жениться. Они грезятся Оксане в ревнивых сновиденьях, ими отравлена ее жизнь, как ядом. Первые два года Оксана не боялась женитьбы Павла. Как-то и не думалось об этом. Началось с того, что выходила замуж кузина Неповоевых, Бетси.
Венчали в городе зимой, сейчас после крещенья. На свадьбу съехалась родня. Приехала из Киева и старая барыня, Агриппина Аркадьевна, с горничной, Жюстиной.
Старая не любит русских горничных, говорит: кувалды. И Жюстина у нее – полька. Служит лет пятнадцать уже. Носит шляпу, по-французски знает, ездит с барыней за границу. Некрасивая, сама из шляхтенок, но угодливая, пройда, подлиза, около барыни – как вьюн... Жюстина перед тем еще летом сблизилась с Оксаной. Все прибегала пить шоколад и кофе, учила, как держать себя не по-деревенски. Прибежала и теперь в городской флигель Павла Алексеевича. Повертела хвостом и говорит:
– А твой "фацет" шафером? Не боишься?
– Чего? – не поняла Оксана.
– Ну, как чего? Сколько барышень будет, весь уезд. То он нигде не бывает, теперь всех увидит. Еще и сам разохотится жениться. Такой жених, первый в уезде. Перед ним вон как будут крутиться.
Оксану будто резануло что-то.
Но она не хотела показать, что испугалась. И ответила угрюмо:
– Куда ему жениться. Такому толстому.
– Эге, сердце мое. Не посмотрят, что толстый. Еще какую красавицу возьмет. Лишь бы его охота. Первый жених в уезде. Не век же ему с тобою...
Жюстина ушла, а Оксана осталась как угорелая.
С тою же Жюстиной пошла она в церковь посмотреть венчанье. Жюстина и билеты достала. Пришли поздно, Жюстина старую барыню одевала долго. Церковь была полна, хотя впускали по билетам. Яркий свет всех паникадил, богатые наряды, блеск камней, цветы букетов среди зимы, розовый бархатный ковер от входа до аналоя – все ослепило Оксану. Она отдалась зрительному наслаждению, впитывала в себя никогда не виденный блеск и яркость, парадную выставку барского тщеславия. Невесты еще не было, ее ждали. Головы всех обращались ко входу: скоро ли? В толпе возникло легкое движение, словно пробежала волна. Кто-то спросил вблизи:
– Уже? Приехала?
И одновременно вырвался крик у Оксаны:
– Ой, мамочко!
– Тш-ш! Тихо!– строго прижала ее к церковной стенке Жюстина.– Тихо-о, говорю тебе. Тихо, варьятка! То шафер с дружкою, а не...
Оксана опомнилась.
По нежным цветам розового ковра среди расступившихся зрителей шел к аналою Павел Алексеевич под руку с молоденькой барышней. Она несла белый букет, была в белом с золотом платье, и сама напоминала золотое сиянье, и улыбалась счастливой, сияющей улыбкой. И Павел Алексеевич был совсем не тот, что дома. Не распущенный, расстегнутый и сонный, не с колючей щетиной небритых щек, а праздничный, подтянутый, щеголеватый, даже красивый. Дорогой фрак скрадывал его полноту. Все на нем сидело так, будто было приклеено. Он, как и его дама, не шел, а плыл, словно не касаясь земли, и тоже улыбался кому-то, но не сияющей, а почтительно восхищенной улыбкой.
– Смотри мне, варьятка! – шипела в ухо Оксане Жюстина.– Только пискни... я тебя зараз в полицию. Там тебе покажут, как скандальничать.
– Да чего вы? Я – ничего. Меня придавили,– хотела оправдаться Оксана.
– Но, но. Дури тех, кто глупее тебя. Знаю я, что тебя придавило.
Этот вечер отравил душу Оксаны. С того дня она уже не знала покоя. Если Павел Алексеевич уходил из дому, а уходил он постоянно, Оксана упрямо поджидала его, жестоко терзаясь. Не ложилась спать, как бы поздно он ни вернулся. Часами простаивала перед окнами клуба, когда Павел Алексеевич играл там на бильярде, бродила вокруг тех домов, где он бывал изредка на званых вечерах. Но перед ним стойко молчала, ничем не выдавая своих мучений. О ее поведении заговорила прислуга в городской усадьбе Неповоевых. Через Артамона слух дошел до Валерьяна Мстиславовича, а тот оповестил всех, кто хотел и не хотел слушать. Павлу житья не стало от дядиных насмешек. Малолюбознательный и равнодушный, Павел теперь только начал понимать, почему до его возвращения никогда не ложится спать Оксана. Открытие и рассердило, и удивило его, он был огорчен. И жаль было Оксану, и оставалась еще надежда, что все это – неправда, преувеличение. Он, наконец, прямо спросил у Оксаны:
– Послушай... Правда ли, что ты дежуришь возле клуба, пока я там играю? И куда бы я ни пошел, ты бежишь к тому дому, под окна? Неужели это правда, Оксана?
Оксана растерялась, прорвалась, заплакала... Павел Алексеевич повторял ей обескураженно:
– Оксана... слушай, Оксана. Да, право же, этого не нужно. И я вовсе не думаю жениться. Уверяю тебя. Если бы я желал... что бы мне помешало? А не женюсь же? Вот видишь. И никогда не женюсь... Уверяю тебя. Перестань же, не нужно это вовсе.
А она, плачущая и вздрагивающая от рыданий, вышла из терпенья и, захлебываясь, закричала злобно:
– Я знаю, что вам не нужно! Ну и убейте меня! Убейте, убейте... Лучите убить, чем так... мучить!
С тех пор Павел стал держать себя с нею несколько настороже. Начал щадить ее, считаться с ее привязанностью. Отчасти это тяготило его, порой же такое чувство ее вызывало в нем растроганность. Чаще всего, особенно при дяде или при посторонних, он обращался с Оксаной, как барин с горничной. Говорил холодно, повелительно, даже подчеркивал сухость тона. Еще чаще не примечал ее совсем. Но перестал засиживаться вне дома до рассвета. А иногда старался быть помягче, повнимательней, чтобы вытравить подозрение, не причинять лишней боли.
Зато Жюстина, угадав больное место Оксаны, изводила ее, разжигая ревнивый бред.
Только и разговоров было у Жюстины – что-то будет, когда пан Павел женится? При Жюстине Оксана упорно сдерживалась, отшучиваясь замечаниями, вроде:
– Куда ему такому толстому жениться?
Она рассказывала, будто к слову, но с целью возбудить зависть, позлить Жюстину:
– Вон – прошлый год пиджак сделал, уже не годится. Руки не влазят. На животе вот как не сходится. Мне отдал – на кофточку. А пиджак как есть новый. Посмотрите– какой... чесучовый, по два с полтиной.
Но уходила Жюстина, и после того долго и горько плакала Оксана над чесучовым пиджаком.
Сама она была верна Павлу Алексеевичу до приторности. Сердилась даже, когда попристальней смотрели на нее мужчины. А соблазнов было у нее немало при ее внешности и положении. За это время один раз даже выйти замуж представлялся случай. И неплохо могла бы выйти. Когда в деревне мужики "бунтовались", у Арсения Алексеевича больше года жили на постое казаки, караулили экономию от пожара. Старший из них – вроде как офицер – проходу не давал летом Оксане. Все околачивался около желтого флигеля. Как Павел Алексеевич обедать, гулять или купаться,– он, казак, уже тут как тут. Сперва так подбирался. После, говорит, погоди малость, выйдет срок, женюсь на тебе... Оксана только рассмеялась в ответ. Мужик мужиком, как его ни поверни. Хоть и старший. Никакого благородства обхождения в нем нету. И забраковала. Казак после запил с горя.
_______________
Оксана задумалась до того глубоко, что не слыхала приближающихся шагов Павла Алексеевича. Ждала столько часов, а тут не услышала. Очнулась лишь, когда щелкнул его ключ в замке у входа, и Павел Алексеевич впотьмах вошел в прихожую.
Оксана обрадовалась, но рассердилась на себя: и как она прозевала? Ведь не спала же! Нашла спички, чиркнула о коробочку одну, другую, третью, чтобы зажечь свечу. Спички ломались, не хотели зажигаться. Наконец зажгла-таки и вышла в прихожую.
– Ты еще не спишь, Оксана? Отчего ты не ложишься?
– Так. Вот свечка. Может, квасу?
– Нет, благодарю.
Павел рассеянно взял у нее свечу. Он шел к себе в спальню, но приостановился на половине прихожей. Оксана стояла у открытой двери своей комнаты, чуть освещенная синей лампадкой. С минуту Павел вглядывался в лицо, будто изучая его или сравнивая с кем-то. Потом вернулся обратно, приблизился к ней и спросил мягко:
– Так тебе не спится?
– Не спится.
– Мне тоже. Скучно тебе было одной? Посидеть с тобою? Я не усну тоже.
Оксана посторонилась, пропуская его в комнату, тускло залитую голубоватым светом. Павел Алексеевич на ходу погасил свечу, бросил на сундук подсвечник и сел в углу на твердом диванчике.
– Присядь, Оксана.
Она села на диване рядом с Павлом, там, где он указал, приглашая.
– Как у тебя хорошо тут,– снова очень мягко сказал он.– Этот свет голубой. Тихо, чисто... Будто в келье.
Оксана вздохнула.
Павел Алексеевич помолчал. После осторожно, словно боясь обидеть, придвинулся к Оксане и робко, едва прикасаясь, погладил поверх кисейных рукавов ее плечи. Оксана посмотрела на него удивленно, потом сердито сверкнула глазами. Павел Алексеевич не видел выражения ее глаз. В странном полузабытьи он ласкал плечи Оксаны молча, нежно и бережно, как что-то очень, очень хрупкое. И с мягкой робостью чуть слышно проговорил, задыхаясь:
– Ксения... Ах, Ксения... дорогая!
Но вдруг вспылившая Оксана с неудержимой жестокостью разрушила его иллюзию.
– Опять?! Вы – опять?! – громко, хрипло и злобно выкрикнула она.– Опять: Ксения?! Я вам не Ксения, а Оксана! Вы сколько раз обещались. Нужно вам Ксению, и ступайте к ней. Она барышня, а я – Оксана, мужичка! С ними вы – вон как. А со мной: "Оксана! Квасу! Оксана! Побриться!" Ну и идите к ним. А я не хочу. Не надо совсем, убирайтесь.
Как только что проснувшийся, Павел глядел на Оксану. На ее покрасневшее от гнева лицо с полувыпуклыми, коровьими, как мгновенно определил он сейчас, глазами, на высокую грудь, на наливные под прозрачными рукавами плечи. Глядел равнодушно, немного недоброжелательно. Под его взглядом Оксана стихла, съежилась. А он поднялся с диванчика и медленно пошел к двери. Тогда Оксане стало страшно расстаться с ним после того, как он рассердился, может быть, обиделся.
– Куда же вы? – испуганно остановила она. Павел шел, не отвечая.
Оксана прыжком бросилась к двери и очутилась на дороге, заграждая путь.
– Куда вы? Павел Алексеевич... Барин? Вы сердитесь? Я не буду больше.
У нее был вид провинившейся, но не избитой за свою вину преданной собаки. Она была готова на все, лишь бы удержать его. Пускай даже думает, что это не она, а другая. Та – другая... какая-то, верно, барышня, которая знать его не хочет... может, смеется над ним. Не Оксана, а та, Ксения. Пусть все, что угодно. Но лишь бы не уходил, остался. Чтобы опять стал ласковым, непохожим на себя, таким особенным, как был только что. Чтобы гладил ее руки и повторял: "Ксения... ах, Ксения..."
– Барин, Павел Алексеевич. Не уходите.
– Оставь, Оксана. Пусти меня.
Оксана заплакала.
Слез не переносил Павел Алексеевич, и теперь слезы были кстати. Он смягчился тотчас же.
– Оксана, да что с тобой? – сказал он, уже вполне владея собою.– Что это, право? Хуже ребенка. Истеричкой становишься. То прогоняешь, то плачешь: не уходите. Ну, я не уйду, не уйду... не ухожу, видишь? Перестань только. Ведь я не хотел уходить, сама же прогнала?
Он вернулся к диванчику.
– А вы зачем меня опять "Ксения" зовете? Я ж просила вас? Я – Оксана.
– А затем, что не люблю коверкать твое имя.
– Да-а. Всегда говорите: Оксана. А тут: Ксе-ни-я. Не нравится Оксана, зовите всегда Ксения.
– И звал бы всегда. С удовольствием. Но....– Павел запнулся и договорил, решившись на самое рискованное, наиболее опасное средство:
– Но ведь Ксения Викторовна – тоже Ксения? И ты же должна сама понимать... В больших домах нельзя звать одним именем и хозяйку, и тебя, например. Ну, поняла? Поняла, почему не зову всегда?
Он говорил успокоительно, с полным самообладанием. Оксана с пылающими щеками кивнула головой. Но глаза ее были опущены вниз, она прятала их, чтобы не выдать свое подозрительное недоверие.
– Поняла, Павел Алексеевич. Не сердитесь. Я не буду больше. Вы не сердитесь? Ну, скажите.
– Да не сержусь я. Не сержусь нисколько. Довольно, Оксана. Какая ты, право, нервная. Вон уже рассвет за ставнями. А ты все не спишь.
_______________
Не спала в эту ночь и Ксения Викторовна. За обедом ее расстроил муж, перед вечером – цыганка. Впечатления дня отслоились в душе и угнетали. Слова цыганки, непонятные для других, много сказали самой Ксении Викторовне, коснулись ее беспощадностью ясновидца самых сокровенных сторон ее интимной жизни, испугали пророческой угрозой.
Горничная Малаша закрыла окна, притворила изнутри ставни на окнах в нарядной спальне Ксении Викторовны, спустила шторы, помогла Ксении Викторовне снять платье и корсет, накинула на нее зеленый батистовый халатик с рисунком в персидском вкусе, расшнуровала сквозные переплеты ботинок, надвинула на ноги мягкие туфли из зеленого сафьяна.
– Причесать на ночь? – спросила она.
– Нет, я сама. Больше ничего. Идите.
Ксения Викторовна заперла за Малашей дверь. Походила в задумчивости по спальне, неслышно ступая по блекло-серому ковру в розоватых и палевых розах. Она не переставала думать о цыганке.
– Но не могла же она знать? Да и откуда? Здесь никто не знает. Значит, что же? Ясновиденье? Предсказание?
Делалось жутко, холодели руки, хотелось отвлечься от этих мыслей; Ксения Викторовна приблизилась к трюмо, зажгла у зеркала электрические лампочки, поглядела на себя в зеркало прямо и в профиль, вынула из волос осыпанные гранатами гребенки и шпильки, аккуратно сложила их у трюмо на колонке. После тряхнула несколько раз головой, расправила пальцами рассыпавшиеся по спине и по плечам волосы, еще раз провела по волосам, распутывая их, руками потянулась к полочке сбоку, чтобы достать гребень, да так и замерла, перегнувшись. В трюмо ясно отражался Арсений Алексеевич. Он стоял там, сзади, в глубине комнаты, в щели между шкафиком ампир и углом камина. Стоял недвижимо в притаившейся, словно что-то подстерегающей позе. Истомленное, побледневшее лицо, сжатые губы и челюсти и неподвижность... неподвижность каменная.
"Призрак",– не подумала, а скорее ощутила Ксения Викторовна.
Потом их глаза встретились в зеркале, взгляды скрестились и отразили на лице Ксении дикий ужас, у Арсения Алексеевича – смущенность и тревогу.
Призрак поспешно отделился от стены, подбежал к зеркалу.
– Не пугайся, Ксенаша. Это – я. Живой я, не призрачный.
– Арсений?
– Ну, я. А то – кто же? Живой, не бойся.
– Но... ты же... в городе?– не понимая, что говорит, произнесла Ксения.
– Значит, нет... если стою возле тебя. Вернулся с полпути. Раздумал. Приди в себя, Ксеничка, успокойся.
Он обнял Ксению Викторовну, отвел от зеркала и посадил на софу. Пошел за альков к кровати, принес оттуда стакан с водою.
– Ксенаша. Да напейся ты. Как ты дрожишь. Опомнись. Ну, что это?
Ксения напилась и опомнилась.
– Как ты напугал меня, Арсений.
– Виноват. Прости. Я не хотел. Не ждал, что увидишь.
– Не ждал?
Ксения Викторовна, что-то медлительно соображая, привстала с софы.
– Так чего же ты хотел? Чего ждал там, в углу? – гневно крикнула она, выпрямляясь.– А, понимаю. Опять караулил? Вернулся с полпути, пробрался сюда... Хотел проследить, не впущу ли любовника? Кого же? Кого? Артура? Жюля? Или кого-нибудь из лакеев?
– Ксенаша...
– Нечего, нечего! Довольно я прощала. Теперь из-за Артура, я видела... поняла за обедом. Боже мой, да когда же конец этому?
– Ну, я виноват. Прости меня. И на этот раз прости...
– Надоело мне прощать! Довольно. Твои сцены... Твои упреки... Без конца, без конца. Каждый день, каждый час новые вариации.
– Но если это моя болезнь... мое проклятье? Имей же и ко мне хоть жалость, если не снисхождение. Разве я сам не страдаю? Не извожусь? Не мучусь? Если бы ты знала... Я вижу пред собой до того реально... Ты и он... Такие отвратительные, чудовищно гнусные картины... И мне так больно... Надо же пожалеть и меня, Ксенаша.
– А меня кто-нибудь жалеет?
– Я. Всегда. Постоянно. Даже когда терзаю... когда наиболее оскорбляю тебя.
– Спасибо за ласку.
Ксения иронически рассмеялась. Хотела встать и отойти, но Арсений Алексеевич удержал ее за руки. С усилием посадил на софу обратно, сел на полу у ее ног, продолжая держать за руки.
– Ну, будет, Ксенаша, ласточка, зоренька моя, ненаглядная. Я опять обидел тебя. Но это же болезнь, ты знаешь. Как винить человека за то, что он болен?
– Однако человек не бьется головой о стену от того, что он болен.
– Не бьется? Почем ты знаешь? А может, бьется и не раз? Может, и сегодня бился? Это – такое страданье... Если бы ты могла понять! Нечеловеческое! Ты добрая, сжалилась бы... Раз навсегда простила бы.
– Не могу. Слишком обидно. Тебе не следовало жениться.
– Если бы знал раньше, что во мне сидит это проклятье... ни за что бы, никогда, ни на ком не женился.
– А я на твоем месте... если бы я считала, что у моей жены такие наклонности потаскушки, как ты про меня думаешь... ни за что не стала бы жить с нею.
– Кающегося не бьют, Ксеничка. Я признал себя виноватым.
– А мне, думаешь, легче от этого? Завтра опять провинишься. И опять будешь каяться.
– Не буду. И сегодня ничего не было бы. Дядя днем разжег во мне это. Как начал, как начал...
– Дядя?! Ты способен придать значение даже его словам? Он нарочно говорит. От скуки издевается над всеми. А ты...
– Я цену дяде не хуже тебя знаю. Но знаю и другое.
– Интересно узнать и мне, наконец, что?
– А то, что ты кокетка. Потайная... Почему чуть ли не каждый мужчина с вожделением пялит на тебя глаза?
– В твоем воображении.
– Нет, нет... Мое воображение ни при чем тут. Это факт. И ты знаешь, что правда. Почему с другими женщинами,– тоже красивыми,– не бывает этого? По крайней мере, в такой степени? Потому что каждый угадывает твою чувственность. Это и привлекает к тебе всякого.
– В твоем воображении.
– Не дразни меня. Плохо будет.
– Опять? Господи... Арсений! Да проследи всю мою жизнь с тобою. С первого дня. Был ли хоть крошечный повод к подозрению?
– Поводов, может, и не было. Не знаю. Они, может, и воображались мною. Но почва для них была, есть и будет. Возделанная, глубокая...
– Какая? Какая, спрашиваю я у тебя!
– Не будешь ли ты уверять, что вышла за меня по пламенной любви?
– Ах, вот что. Но и ты же не по любви женился? Всего два-три раза видел меня до того. Не было времени воспламениться. Женился оттого, что нашел подходящей для себя партией. А я же не подозреваю тебя ни в каких мерзостях? Я не говорю, что выходила по любви. Мама тяготилась мною, оставляла в тени, хотела спихнуть с рук скорее. Ей самой еще жить хотелось... а тут я, живая улика ее возраста. Я ей мешала. Меня держали в черном теле, тяжело было. Ты заговорил по-человечески, и я тому была рада. Но после... разве после я не любила тебя?
– О, как ты всегда хорошо скрывала это!
– Ты несправедлив. В чем я не уступала тебе? В чем отказала за эти десять лет? Даже прихоти твои, даже...
– Не хочешь ли ты напомнить, что вот и дом этот, в котором я, изверг, терзаю тебя, невинную жертву, даже и он возведен на средства жертвы?
– Стыдись, Арсений. Дом возведен для детей наших. Они не только твои, а и мои дети. Я не о доме. Я хотела сказать... что и всячески старалась украсить нашу жизнь... Сделать ее теплее, сердечнее. Скрыть от всех все, что портит ее. Я иду на все уступки. На все решительно. От пустяков до крупного. Ты не хотел, чтобы я играла и пела...
– О-о? Еще что? Еще какая жертва возложена тобою на алтарь семьи?
– Не о жертвах речь, об уступчивости. Тебе неприятно было, что я пою и играю...
– Еще бы. Какому мужу приятно, если жена его завывает с любым встречным лоботрясом: "Так и рвутся уста навстречу дрожащим устам"?
– Ничего подобного я не завывала.
– А твоя игра в четыре руки с Химичевым?
– Он серьезный музыкант. И никогда не относился ко мне, как к женщине.
– Не верю я в вашу серьезную музыку.
– Пусть так. Ты не хотел, чтобы я играла? Я подчинилась. Сколько лет не прикасаюсь к клавишам. А я любила играть, Арсений.
– Умилен столь тяжкой жертвой.
– Дальше...
– Есть и дальше?
– Есть. Много есть. Тебе неприятно было, что я танцую.
– Еще бы. Обниматься на моих глазах со всяким болваном!
– Но это принято во всем мире! Ну, дело не в том. Я с удовольствием плясала... Но оставила и танцы. Навсегда. Нигде не танцую. Не выезжаю никуда, где надо быть декольтированной. В самую большую жару не надену ничего прозрачного. Мы живем, как в монастыре. Никто чужой не бывает у нас, и все-таки ты недоволен?
– Я же говорю: тиран, деспот, изверг, злодей. Отелло... Есть и еще продолжение?
– О, есть. Я с мелочей начала. Ты отстранил меня от детей. Как ни больно было, я подчинилась. Заметь: подчинилась, хотя не разделяю твоих взглядов на воспитание. По-моему, ласку, нежность ничто не заменит для ребенка, я сама выросла без этого. Знаю, как больно. Но ты захотел, и дети не у меня, а у Артура. Как я не люблю этого человека. Он словно отнял у меня самое дорогое. Точно, обсчитал меня в чем-то. С наслаждением вышвырнула бы его из нашего дома. Чтобы не выламывать души моим детям. А ты...
– Ксенаша... довольно!
– Нет, мало. Еще не все, еще мало. Ты поступаешь со мной, как с последней тварью. И это – единственный близкий мне человек? Отец моих детей... Мой муж, так сказать, защитник.
– Остановись. Будет. Мне больно. Я не могу больше.
– А мне не больно? И я не могу больше. Не могу терпеть молча. За что я должна переносить такие унижения? Где бы мы ни были, кто бы у нас ни был, я вечно как на иголках. Не уверена в себе. То ли я говорю, то ли делаю? Не показалось бы тебе что подозрительным. Я не знаю, куда смотреть, потому что ты следишь за моим взглядом. Не знаю, отвечать ли, когда со мной заговаривают. Ведь потом за каждое слово, за каждый случайный вздох, за взгляд – придется держать ответ, выносить сцены. Я одичала, стала бояться людей. Мне уже в тягость общество. Наконец...
– Но, Ксенаша, голубка... Ну, умоляю тебя, пощади. Не надо остальных "дальше". Их можно насчитать много, я признаю. Но надо же снисходить к...
– А разве я не снисхожу? Не стараюсь все понять, все сгладить?
– Что ж мне делать, если это сильнее меня? Не осуждай строго. Я так люблю тебя. Так хочу понимать тебя всю, без остатка. Знать каждую мысль твою, каждую мечту, причину каждого вздоха, чтобы все принадлежало мне, одному мне... Ты иногда задумаешься и молчишь, а на губах улыбка. Будто мечтаешь о чем-то. А я не знаю, о чем. И не узнаю никогда, вот что убийственно: этот иной, замкнутый в себе, целый мир отдельный. В человеке, с которым я слился воедино, к которому прирос неразрывно. Кажется, размозжил бы себе или тебе голову, лишь бы узнать: да что же там? О чем она думает? Где витает? Что в ее душе таится? Ну, скажи, о чем ты мечтаешь? Вот так, наедине с собою?








