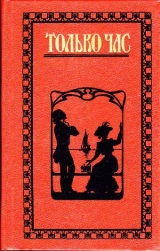
Текст книги "Династия"
Автор книги: Варвара Цеховская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– А что Павлику сожительствовать с девкой Оксаной не следует, это и я разделяю,– ехидно и подстрекающе вмешался дядя.– Живя с простой бабой, человек опускается, грубеет. Наконец, возможность появления детей? Простая баба... Фи! Для этого есть более подходящие персонажи. Есть жены своих мужей, при мужьях состоящие. Сколько угодно. Еще удобнее – жены, не живущие с мужьями. По закону ее дети – дети ее мужа. И баста. У тебя никаких обязанностей, всегда ты свободен. Дивлюсь я твоей нетребовательности, Павлик. Как? Баба? Простая баба? Извини меня, но это вульгарно. Я бы не знал, как приступить к ней. Как начать всю эту... игру? Ну, вот – Оксана – как ты говорил с нею на первых порах? Как сближался? Как разыскал ее?
– Я и не искал вовсе. Сама нашлась. Привела ее мать, к маме в горничные. Мама не взяла. Я случайно проходил мимо и похвалил ее. Говорю кузену Мише: вот экземпляр хороший. Сказал и забыл. А на другой день ее ко мне приводят, не желаю ли взять в горничные? Я и взял.
Дядя помолчал чуточку и сказал внезапно:
– А экземпляр, правда, недурной. Она красива. Только – баба, простая баба. Но идеал здоровья. Отдаленно на Ксенашу похожа.
– Не нахожу,– небрежно произнес Павел с отлично разыгранным спокойствием и закурил папиросу.
Дядя в упор глядел на него.
Глаза у дяди были светлые, старчески-выцветшие, с крошечными, черными зрачками, похожими на булавочные головки, но пытливые и любопытные, как у молодого.
Павел думал, задерживая дыханье: "Только бы не покраснеть, не побледнеть, не измениться в лице".
И сам чувствовал, что лицо у него остается, как всегда, ленивым, массивным, иронически спокойным. Он уже понимал, что подходец дяди не удался, что он – Павел – не выдаст себя. От этого было смешно и радостно.
Но дядя поджал нижнюю губу, точно хотел сказать: "Не проведешь". И сделал еще попытку смутить Павла:
– Неужели же ты до сих пор не приметил? Есть, есть сходство... И немалое. Разновидность того же типа. Оксана более грубое его выражение. Первобытное, сильно упрощенное. Но тип – один.
– Не нахожу,– еще раз сказал Павел и сладко потянулся, зевая так, что пошатнулась и закачалась качалка под его грузным телом.
– Ой, женит она тебя, в конце концов, на себе. Вспомнишь мое слово.
– Никогда. Я умру неженатым.
– Тем лучше. Хоть буду знать, кому завещать в наследство свои коллекции.
– Спасибо. Я не любитель порнографии. К чему мне гадость эта?
– Ах ты, профан! Гадость? У него это – гадость? Почему гадость? Жанр как жанр и не хуже других жанров. А если насчет ценности, то и ценность немалая. Редчайшие есть уники. Со всех международных рынков. Из-за этого я два раза вокруг света объехал. Собирал в Индии, в Турции, в Японии, в Китае. Японцы, шельмецы, и в этой области виртуозы. На пальмовых листах, на папирусах, на чем только нет у меня рисунков. Попади на знатока – капитала не пожалеет. А ты говоришь: гадость?
Звуки гонга понеслись от замка в парк, к реке и над речкою, сзывая к обеду.
Сзывать начинали в три без четверти. Четверть часа полагалось на ожидание. После того нельзя было явиться к столу, хотя бы и самому хозяину дома.
– Артамон! Артамон? Ты здесь?– закричал из беседки дядя.
– Здесь, Валерьян Мстиславович,– откликнулся Артамон где-то поблизости.
– Стань передо мною, как лист перед травою.
– Есть, Валерьян Мстиславович.
– Молодец. Хвалю за муштру.
– Рад стараться, Валерьян Мстиславович.
Под жарким солнцем покатил Артамон кресло извилистыми дорожками молодого парка среди ярко-зеленых газонов с цветущими розами, олеандрами и фуксиями, мимо обсаженных цветами бассейнов с фонтанами, мимо пестрых цветочных куртин. Арсений и Павел Алексеевичи шли за креслом дяди. Миновали белую аллейку жасминов в цвету, обогнули огромную ковровую клумбу с вензелем Ксении Викторовны и очутились у восточной веранды, примыкающей к столовой. Вблизи веранды встретились на площадке с мальчиками и гувернерами.
В белых пикейных костюмах с голыми от туфель до колен ногами, в плоских английских шляпах и плоских туфлях без каблуков мальчики возвращались с рыбной ловли.
– Дядя Павля!– обрадовано закивал головой и всплеснул руками младший, Игорь. У него были золотые волосы и лицо красивой матери. Но лицо несколько болезненное, не такое яркое и дышащее здоровьем, как у Ксении Викторовны. А фигурой он удался в отца, худенький, тонкий, пропорциональный, но с живыми, быстрыми, не похожими на отцовские движениями. Если Игоря тянуло к кому-нибудь или увлекало что-либо, он забывал про остальное. И мистер Артур, при всей своей непреклонной настойчивости, чувствовал себя бессильным искоренить эту черту в ребенке.
Игорь и сейчас вмиг забыл об Артуре, о присутствии отца, о прочих гувернерах. Отшвырнув удочку, он бежал навстречу Павлу.
– Дядя Павля! Дядя Павля! Мо-ой доро-ого-ой! – захлебываясь и ликующе кричал он.– Где ты был все утро? Праздник ведь, а я тебя не видел сегодня! Отчего не пришел к нам удить рыбу? Знаешь Славе как повезло, четырнадцать штук поймал. Одна – вот така-ая. Право, хочешь, посмотри в ведре. А у меня не клюет и не клюет. Только клюнуло – зовут обедать. Я заторопился, и сорвалось, такая досада. Здравствуй же... дядя Павля!
– Горюшка,– нежно, от души сказал Павел, растроганный этой встречей.– Здравствуй, милый.
Склонившись вниз, он медлительно поцеловал пухлые губы и разгоряченные щеки мальчика. Погладил его круглую, похожую на шар голову, близко заглянул в сияющие детские глаза, такие блестящие и немного смешные от неодинаковой их окраски. Один глаз у Гори был темный, материнский, другой посветлее, золотисто-карий. Игорь не выпускал Павла Алексеевича, обхватив руками за шею. Легкая панама Павла свалилась с головы, шляпка Игоря слетела на землю еще раньше, когда он бежал к Павлу.
– Дядя Павля! Дядя Павля! – повторял мальчик в восхищении.
И тут оба они одновременно встретились взорами с холодно-синими глазами мистера Артура, с его взглядом, призывающим к порядку их обоих.
– Вы балуете его,– укоризненно-вежливой скороговоркой шепнул Артур по-французски, так как Павел Алексеевич не говорил по-английски.
Руки Игоря сами собой разжались, освободив плененную шею. Павел неуклюже и смущенно нагнулся за панамой, которая откатилась в сторону по дорожке.
Потом Артур чуть приметно указал своими синими в черной оправе глазами, что если уж так, то Павлу надобно поцеловать и старшего Мстислава. И Павел Алексеевич послушно обернулся к Мстиславу.
– Славушка, здравствуй.
Но это уж был не тот тон, не та нежность.
Румяный, рослый, крепко сложенный, похожий на дядю Вадима, Слава поцеловался с Павлом прилично и выдержанно, как подобало питомцу мистера Артура.
– А меня? А меня-а? – шаловливо и жалобно прокричал дядя Валерьян у ступеней веранды.– А дядю Валю забы-ыли?
Он не позволял называть себя дедушкой и всегда подчеркивал, что он дядя.
Дети поцеловали и его.
И на этот раз мистер Артур мог бы похвалить обоих.
На веранде Арсений Алексеевич разобрал самолично только что доставленную в запертом портфеле почту. Отложил в сторону на столик газеты и журналы. Переглядел письма и оставил их на столе, не читая. Распечатал лишь одно, самое интересное, бегло пробежал его глазами и сказал недовольно:
– Вот те раз. Вадим прямо из Петербурга на Беатенберг едет, не заезжая домой.
– Это почему? – изумился Павел.– Он так тосковал по Неповоевке! Так рвался к своей пасеке! Так ждал думских каникул!..
– Ларисины штучки,– пожал плечами Арсений Алексеевич.– Ее, конечно. Вадим выносить не может заграницы. Да и не сезон теперь. Лето в начале. Кто сейчас за границей? Никого, кроме евреев. Евреи и свободные профессии. Но Лариса потащила, и он, по обыкновению, не сумел отказать ей. Лариса не любит Неповоевки.
– Неповоевка ни разу не была гостеприимна к ней,– укоризненно возразил Павел.
Арсений Алексеевич твердо ответил:
– Неповоевка не имела никаких для того поводов.
Обедали при открытых окнах в столовой орехового дерева, убранной на старинный лад, за красиво сервированным столом со старым серебром и старинной посудой. Обед шел, как священнодействие. Два лакея служили в белых перчатках, большие букеты в хрустальных вазах на столе наполняли комнату свежим запахом белых лилий и роз.
Ксения Викторовна сидела во главе стола. На ней было белое, вышитое белым по тюлю платье на глухом, тоже белом чехле, доходящем до кистей рук и до самой шеи. На груди у нее и у пояса были пришпилены палевые розы, и больше никаких украшений. Ее яркое лицо, золотоподобные волосы, карие, почти черные глаза, высокий рост и пышная фигура, ее особенная, горделивая и в то же время отчасти застенчивая манера держаться – все в ней точно просилось на картину. Говоря о ней – красавица,– дядя не впадал в преувеличение. Но угадывалась при взгляде на нее какая-то странная раздвоенность: помесь пылкой женщины и безвольного ребенка. Было что-то бьющее в глаза, раздражающее, действующее на чувственность в ее чересчур подчеркнутой, как будто даже излишней красоте. Она знала это, и сама застенчиво тяготилась впечатлением, какое производила ее внешность.
В начале обеда с каждым из присутствующих перекинулась она несколькими приветливыми фразами, как полагалось хозяйке дома. Потом замолчала, потупилась. Лишь изредка, словно ненароком, останавливала глаза на лице Арсения Алексеевича. Она уже уловила его подозрительно присматривающиеся взоры. Угадала обычное, ревнивое волнение, которое он искусно прятал за ширмой неразговорчивой величавости. Он мог укрыть это от других, но не от нее. Она-то знала хорошо, что означает, если он крепко-накрепко сожмет зубы и быстро задвигает челюстями. После этого быть буре. Будет для нее всенощное бдение, тягостное, унизительное для обоих объяснение наедине. Будут в спальной топанье ногами, площадная брань, отвратительные упреки беспочвенных подозрений. Одна резкая выходка будет вытеснять другую, одно оскорбление превосходить другое. Недоверчивые, злобные и сумрачные глаза, глаза взбесившегося животного. Сдавленный голос, свистящий шепот незаслуженного презрения... А после – раскаяние, может быть, даже слезы. Горячие поцелуи и ласки, которые надо сносить, делая вид, будто уже не помнишь только что причиненных обид. И обещания, что это в последний раз, что больше это не повторится.
"Но почему? – беспомощно спрашивает у себя Ксения Викторовна.– Какая причина? Ведь никого нет чужого? Все свои, привычные?"
После спаржи разошелся дядя, он не смолкал до конца обеда.
Ксения Викторовна будто бы улыбается его прибауткам, а сама подмечает и подмечает. И наконец, улавливает: Артур, вот кто причина.
"Скоро до лакеев дойдет очередь",– обидчиво думает она.
Ей больно, хочется заплакать. Но дядя шутит, и она улыбается. А сама уже боится смотреть на Артура. Но против воли часто взглядывает на него. Не хочет, а присматривается к гувернеру. Артур же, ничего не подозревая, сидит против мальчиков, безмолвно дрессируя их еле заметными движениями спокойных синих глаз. И дети понимают его безошибочно. Игорь раскрошил было свой хлеб. Спохватился и аккуратно собрал крошки со скатерти на тарелку с остатками рыбы. Покраснел, сконфузился, глянул сперва на Артура, потом на отца виноватыми глазами.
Ксении Викторовне жаль Игоря.
"Бедный, Горюшка. Дрессируют, как щенка или кролика".
Игорь ее любимец. Он, в свою очередь, обостренно привязан к матери. Порой не выдержит и при всех бросится к ней на шею с криками: "Моя дорогая! Моя золотая! Моя! моя! моя!.." Расплачется до судорог, до спазм в горле. Тогда его трудно успокоить, и Ксении Викторовне впору плакать тоже. А то – проснется среди ночи и заплачет, крича: "К маме! Хочу к маме! Позовите маму! Мамулю!" И Артур холодно и строго увещевает его, пока мальчику не станет стыдно за свой порыв. Бедный Горюшка, одинокое сердечко. Отчего он не такой спокойный, не такой уравновешенный, как Слава? Вот и сейчас... ерунда, мелочь эти хлебные крошки, а он из-за них страдает. Колотится в груди сердчишко, недоволен собою: опять опростоволосился. А вон и Слава чуть не попал впросак. Не вовремя хотел попросить квасу, уже протянул стакан, но глянул на Артура и остановился. У этого нет виноватого вида. Но связан и этот. Оба – бедные, оба в неволе. Шесть глаз неотступно следят за каждым движением мальчиков. Во-первых, Артур... Этот – главный. Ксения Викторовна испытывает к нему такую острую неприязнь, точно англичанин приставлен и к ней воспитателем. Разговаривать с ним и то еле заставляет себя... Иногда кажется, будто это он отнял у нее детей, лишил ее детского общества, детской ласки. Затем дрессирует детей еще француз, плотный брюнет, Жюль Казе, лет под сорок, большой щеголь с красивым парижским акцентом. И худощавый немец, шатен в веснушках, Эрнест Миллер, любитель пива, гимнастики и шахматной игры. Один русский учитель – Николай Митрофанович – отдален от детей. Тот, бывший преподаватель гимназии, пострадал за что-то политическое и с большим гонором. Держится особняком, боится очутиться на положении наемника. Обедает и чай пьет у себя в комнате, отзанимается свои часы, и дети больше не видят его. Эти же трое не отходят от малышей.
Бедные дети...
Ксения Викторовна чуть вздыхает, глядя в сторону гувернеров. И вдруг соображает, что вздох ее может быть истолкован превратно. Смущается и краснеет, как провинившийся Игорь, и виновато глядит вокруг испуганными глазами. Арсений Алексеевич спокойно говорит о чем-то с дядей. Но когда молчит, у него не перестают двигаться плотно прижатые одна к другой челюсти. Скверный признак, будет всенощная... И за что? За что? Все больней и тягостней Ксении Викторовне. Она уже не знает, в какую сторону смотреть, с кем говорить, куда девать самое себя? Все валится у нее из рук, пропадает аппетит и ровное настроение духа...
А обед идет своим чередом. Подают мороженое. На столе – парниковые дыни, персики, крупнейшие вишни, бычачье око – из своих грунтовых сараев. Блюда с клубникой, земляникой, ранней малиною. Ксения Викторовна не сводит глаз с мальчиков. Игорь – лакомка и любит фисташковое мороженое. Но ему, как всем, дали сливочного пополам с фисташковым. Он красноречиво глядит на мать. Только-только что не попросит: давай поменяемся? Ксения Викторовна с невыразимым удовольствием проделала бы этот обмен. Но не решается и не решится. Баловство ведь непорядок? Ее желание нежданно осуществляет Павел Алексеевич.
– Горюшка,– говорит он через стол просительно и невинно.– Хочешь, возьми мое фисташковое, а мне дай твое сливочное? Хорошо? Я не ем ничего зеленого.
Горя так доволен, что не в состоянии выговорить ни слова. Он лишь усиленно кивает головой в знак согласия. Не глядя на Артура, спешно протягивает свою тарелочку с мороженым. Боится, как бы не запретили. Или не передумал бы Павлик.
"Смешной",– говорит себе Ксения Викторовна и улыбается, не замечая, что у нее на глазах слезы.
Мена совершена. Артур неодобрительно прикрывает свои глаза розовыми веками с черной опушкой. Недоволен и Арсений Алексеевич. Но Горя ничего не видит, набросился на мороженое, увлекся. Когда он раскрывает рот, чтобы отправить туда ложечку с зеленоватой массой, так и сверкают его неправильно расставленные белые, заостренные, как у грызуна, зубки. Горя достиг своего, он доволен.
– Игорь! – строго обращается к нему отец, чтобы отвлечь его от наслаждения лакомством.
– Что, папа?– растерянно переспрашивает Игорь, думая, будто отец уже сказал ему что-то, а он не расслышал.
– Вы с Мстиславом по-аглицки говорите сегодня? Или по-французски?
– По-аглицки, папа.
– Значит, завтра по-немецки?
– Да, папа,– отвечает Игорь, уже не боясь своей русской речи. Он вспомнил, что отвечать старшим нужно на том языке, на каком спрашивают.
Арсений Алексеевич интересуется узнать, как провели дети время до обеда.
И Игорь обстоятельно лепечет ему, что до завтрака они были на гимнастической площадке. Играли в крокет, бегали на гигантских шагах, лазали по лесенкам, упражнялись с трапецией. После завтрака удили рыбу. Купались в купальне перед обедом.
Арсений Алексеевич заговаривает с Славой о результатах рыбной ловли.
Ответы Славы спокойно-почтительные, точные, без лишней интонации, без лишнего слова. Он говорит немного медлительно, потому что временами заикается и боится заикнуться. Но отвечает так, что хочется похвалить его за точность ответов.
За черным кофе Арсений Алексеевич спрашивает у дяди:
– Вам ничего не надо в городе? Я через час еду.
– В город? – поражается Ксения Викторовна.– С каким же поездом?
– Без поезда. На велосипеде. Своих людей проверить хочу на ярмарке. Скота продавать отправил много. Послал и лошадей. Не мешает наведаться. Доверять – хорошо, проверить еще лучше. Завтра утром домой буду.
Ксения Викторовна сбита с толку. На лице у нее недоумение, но краска удовольствия заливает ей щеки, лоб, уши, даже подбородок.
"Ошиблась,– решает она уверенно.– Если бы было то, не уехал бы на ночь. Ошибка, слава богу. И как мне померещилось ярко? В первый раз ошиблась. Удивительно".
_______________
Перед вечером Павел Алексеевич долго сидел на диванчике под низким навесом своего покривившегося крылечка. Сидел и пил золотистый квас, наливая стакан за стаканом из запотевшего от холода хрустального кувшина. В широком чесучовом пиджаке, без жилета, в малорусской вышитой сорочке с расстегнутым воротом, грузный и лениво сонный,– Павел казался теперь живым олицетворением бездеятельности и лени.
Время от времени появлялась из сеней Оксана.
Рослая, цветущая, крепко сложенная, она была одета уже на городской лад. В серую юбку английского, неважно выполненного фасона, в белую кисейную в мушках кофточку с присобранными к обшлагам рукавами. Черный бархатный кушак, желто-красные туфли на французских каблуках, прическа с локончиками, со множеством гребенок – все городское, скорее – подгороднее, мещанское. Но даже эти полузабавные претензии не портили ее внешности. Соблазнительно просвечивали сквозь кисейные рукава ее наливные бело-розовые руки, мягко округленные, с ямочками у локтей. Золотились густые волосы бронзоватого оттенка, сверкали при улыбке превосходные зубы. У нее были плавные движения и легкая походка, немного грустное выражение лица, полунедоверчивая усмешка. А в общем, она была одной из тех женских фигур, которые всегда замечаются мужчинами, хотя бы в самой большой толпе. Когда кувшин с квасом опустошался, Павел Алексеевич говорил отрывисто:
– Оксана, квасу!
Оксана исчезала с пустым кувшином и приносила его еще более запотевшим. И Павел Алексеевич опять вливал в себя стакан за стаканом.
Наконец он сказал также отрывисто:
– Оксана. Умываться!
Оксана послушно ответила:
– Сейчас.
Павел Алексеевич ушел в спальную мыться.
Он жил в дедовском доме на опушке парка, в самой неказистой из неповоевских усадеб. Отцовский дом в глубине парка занимал летом Вадим пополам с матерью. У них было все подновлено, благоустроено: и мебель хорошая, и цветы из оранжерей Арсения Алексеевича, ковры, пианино, портьеры. Домик же Павла носил отпечаток запустенья. Приземистый, ветхий, с тростниковою крышей, когда-то рубленный, а не так давно обложенный, как футляром, желтым кирпичом,– он не имел непроходной комнаты. Весь его беспрепятственно можно было обойти кругом, переходя из одной комнаты в другую. Свет в нем был мрачно-серый, напоминавший тюрьму. Низко нависшие потолки со сводами, небольшие, старинные оконца, группа перистых белых акаций перед самыми окнами, тяжелая, топорно прочная мебель домашней выделки времен крепостного права. Кто заходил сюда, тому казалось, что здесь живут временно, как на постоялом дворе.
Павел Алексеевич долго мылся и переодевался. После ушел гулять перед вечерним чаем.
Он не любил молодого парка с его показной красотою и порядком, называл новый парк вокруг замка – сквером. Павла больше тянуло в старый парк, полный тени и влажности, задумчиво тихий, словно грустящий о чем-то. Там блестели среди зелени три проточных пруда, обсаженные тополями и вербами. Хорошо было бродить возле них молча и думать свои думы. А то и вовсе не думая, сидеть и дышать прохладой, пока где-то вверху, за густыми деревьями, ослепительно светит и жжет палящее солнце. Все здесь было обычно для помещичьих насаждений прежнего времени. Переброшенные между прудами горбатые мостики, пересекающие аллеи, овальные зеленые берега прудов, зеленые отражения деревьев. Насыпной искусственный островок на одном из прудов, высоко выступающий над водою, с шумливыми осокорями, с болотно-яркой травой. Ничего оригинального. Но хорошо. А еще лучше было у прудов в лунные ночи, когда становилось особенно тихо и жутко и деревья пропускали сквозь листья пятнистый свет на дорожки, а пруды недвижимо блестели, как насыщенные чем-то золотым, расплавленным. Тогда реяли вокруг опоэтизированные тени былого, отошедшие в небытие, и так хотелось прислушиваться подольше к тишине или к ночным звукам. Хорошо было и теперь над прудами. Аромат, влажная свежесть, предзакатная тишина... Павел не заметил, как побежало к вечеру время.
Он вышел к реке в парк Арсения, когда садилось солнце. Оно уже не припекало, но еще ярко блестело в речной зыби, освещало косыми лучами и сиреневый замок, и зеленые беседки, стеклянные квадратики оранжерей, молодые деревца шатристых лип, каштанов, дикой оливы, шелковицы, акаций, иолантусов, кипарисов. Уже садовники поливали из водопроводов клумбы, деревья, газоны. Воздух был пропитан запахом цветов. Цвели жасмины, доцветали бульденежи, красноватой дымкой подернулось розовое дерево, развернулись к вечеру каприфолии.
На дорожке над Горлей стояла Ксения Викторовна и возле нее дядя в кресле с Артамоном позади.
Дядя глядел только что умытым, освеженным, с юношеским tainom* на розовом лице. В петлице у него была живая гвоздика совсем неестественного, зеленовато-голубого цвета.
__________________________________
* краска (франц.).
– Давно гуляете? – спросила Ксения Викторовна у Павла.
– Давно. Я там, в старом парке. Мне та часть больше нравится. На месте Арсения я там бы где-нибудь и дом построил. Пять, десять десятин,– можно выбрать место. Зачем ему понадобилось сюда, к реке? Здесь, на берегу, была такая чудесная поляна. С такой массой полевых цветов... Даже вспомнить жалко.
– Но ее каждый год смывало водою,– напомнил дядя.– Если бы Арсений не бросил двенадцать тысяч на укрепление берега, здесь, где мы стоим, текла бы Горля. А после и парк начала бы резать. Арсений отвел в сторону течение. Это его большой успех.
– А все-таки жалко,– повторил Павел.
– Вы любите все старое,– улыбнулась ему Ксения Викторовна.– А я – нет. И того парка не люблю. Там грустно, точно умирает кто-то. Все кажется: вот здесь когда-то всем хорошо было, а теперь не стало хорошего. Через пятьдесят лет и тут будет так же. Пройдет кто-нибудь новый, чужой и подумает: а славно жилось им когда-то! И не догадается, не придет ему на мысль, что это вовсе не так. Не верю я старым паркам. Не верю, что кому-то там хорошо было. И старых усадеб не люблю. В них горем пахнет. Плакать хочется... Отзвучали стоны, отболели муки, а след остался. Какой-то тонкий, неуловимый след чего-то грустного, опечаленного.
– Вы декадентка, Ксенаша,– пошутил дядя.– Смею вас уверить, что там жилось не так уж плохо. Особенно хозяевам. И вообще, лучше иметь все эти латифундии,– дядя обвел глазами вокруг себя,– чем не иметь их. Верьте мне. Я говорю по горькому опыту. Вы рассуждаете как женщина. А женщине – что? Ей одно нужно. Нет этого одного – и она блажит... она недовольна.
– Что же это одно, дядя?
– Э, ma belle...* к чему слова? Они понижают настроение.
__________________________________
* моя милая (франц.).
Он плутовато улыбнулся, заиграл кольцами, понюхал свою неестественно голубую гвоздику. Потом негромко запел с игриво-залихватским пошибом, покачивая в такт головою:
Иэ-ээ бу-уду-у те-бя-а я-а лэс-ка-эть,
Цэ-э-эло-о-ова-эть!
Аа-эбни-ма-э-эть!
Ксения Викторовна всмотрелась в конец береговой аллейки и сказала:
– А это что за живописная фигура?
Поглядели и дядя с Павлом.
– Цыганка,–догадался первым Павел.
Дядя подтвердил:
– Цыганка. В город на ярмарку, верно, пробирается. А ярмарка – бойкая. Я катался после обеда, у парома не протискаться. Ждут гуськом переправы, в очередь. Возы, арбы, шарабаны. Все шоссе заняли, до конца села хвост чернеет. Хорошо работает паром сегодня.
– Пойдем, взглянем на нее? – указала Павлу Ксения Викторовна на цыганку.
Но цыганка и сама шла навстречу гуляющим.
Она была еще не стара и по-своему красива. Умеренно полная фигура, смягченно правильные черты темно-оливкового лица, черные волосы, вьющиеся и не тонкие. Даже на выпуклых губах был у нее черноватый налет, словно насела угольная пыль, мельчайшая и легкая, почернившая губы. Только синеватые белки глаз и два ряда крупных зубов не чернели на ее лице. На ней нарядно смешивались желтый, синий и красный цвета. Дорогие кораллы, дукаты и мониста покрывали грудь и черную шею. Шелковый пестрый платочек чуть держался на голове, оставляя открытыми уши. Костюм цыганки был не из дешевых. Но лежала печать неряшества на этой принарядившейся женщине. От нее несло испареньями грязного тела, давно не мытого, потного.
Цыганка поклонилась Ксении, угадав в ней хозяйку.
– Здравствуй, красавица. Хочешь, погадаю? Дай ручку. Всю правду скажу.
– Не надо, милая. Не о чем. Все уже разгадано.
Цыганка глядела на Ксению Викторовну пристально, пытливо. После сделала жест, будто сказала: не все разгадано, есть еще о чем.
Почему-то взгляд ее волновал Ксению Викторовну. Захотелось погадать, и неловко было признаться в этом.
– Погадай лучше мне,– игриво предложил дядя.– Скоро ли я женюсь? И какая будет у меня невеста?
– Черная,– мельком глянув на него, ответила цыганка.
– Че-орр-ная? Не ты ли, мой ангел?
– Твоя невеста – могила черная! – повысила голос гадалка, будто зная, что говорит с глуховатым. Дядя побледнел до синевы под своим tein'oм. Рот его беспомощно раскрылся, да так и остался полуоткрытым.– Только еще не скоро тебе жениться,– пророчески продолжала цыганка.– Поживешь еще, не бойся. Еще ты как малое дитя станешь и долго так будешь. Потом уже... Тебе не скоро.
– А мне скоро?– сорвалось у Ксении Викторовны.
– Тебе?
Опять пристально глядела на нее цыганка неподвижным взглядом черных, как черника, глаз.
– Тебе не знаю. Дай ручку. Скажу по правде.
– Нет, нет. Не надо. Я и так...
Ксения опустила руку в парчовый мешочек, что был у ее пояса. Вынула крошечный кошелек и не могла открыть его: дрожали руки. Цыганка остановила ее.
– Спасибо, красавица. Если погадаю, заплатишь. Милостыни цыганке не надо.
– Ей поцелуй горя-ачий нужен! – запел, дурачась, уже оправившийся дядя.– А вот ты и соврала, чернуха,– заговорил он скептически и весело.– Моя могила не будет черная. Когда придет мой час, меня положат в склеп из серого камня. Серый же камень не черный, как тебе должно быть известно.
– А думаешь, тебе там не черно будет? – ответила полунебрежным вопросом гадалка.
Дядя не расслышал.
– Что такое? Что она говорит? – заволновался он.– Павел, что она сказала?
– Пустое, дядя. Все то же. Вам не скоро еще. Цыганка снова повернула лицо к Ксении и настойчиво повторила:
– Так не дашь ручку?
Ксения Викторовна насильственно улыбнулась, бросила на гадалку недоверяющий взгляд, но протянула руку. Цыганка схватила ее обеими своими оливково-черными руками, повернула ладонью кверху. Ослепительно белая рука Ксении Викторовны так резко отличалась от соприкасавшихся с нею пальцев гадалки, точно это были не две женские руки, а совершенно различные предметы из совершенно несхожих материалов.
– И богатая, и добрая, и красивая, и несчастливая,– гортанно затараторила цыганка, сыпя словами, как чем-то металлическим.– Есть все, только счастья нема. Очи ясные, а много слез знали. Много плачут. Так, что никто не видит. Кто тебя любит, тот мучит. От него и... Нет, постой... дай разглядеть лучше.
На весу дрожала рука Ксении Викторовны. Ксения Викторовна боялась чего-то, что-то жадно рвалась услышать и тут же наблюдательно, почти насмешливо различала мелкие, мелкие капельки пота на черных пальцах и кистях рук цыганки, ощущала кисловато-едко-клейкий запах ее давно не мытого тела. Было противно до гадливости от близости этого неряшливого существа. А не хотелось вырвать руку, хотелось дослушать до конца.
Цыганка пристально глядела ей в лицо, изучая не столько ладонь, сколько глаза, лоб, губы, подбородок, линию затылка. Она будто хотела выиграть время, чтобы всмотреться получше в черты Ксении, проникнуть в ее душевную жизнь, определить характер. Более опытная, искушенная жизнью женщина старалась прочесть на лице другой, менее искушенной, главнейшие тайны всегда несложной, специально женской доли.
Нехотя перевела гадалка взор на руку и начала торопливо:
– Все есть у тебя, а доли не видно. Нема счастливой доли. Не видала в пеленках, не увидишь до гроба. Кто тебя любит, тот мучит. От него – твои слезы. От него и погибель твоя. Еще запомни: если загубишь – сама загинешь.
Ксения Викторовна, потеряв самообладание, с силой вырвала свою руку. Губы у нее посинели, лицо стало мертвенно-желтое. Глядя на нее, взволновался и Павел. Ксения Викторовна, казалось, больше, гораздо больше, чем остальные, понимала слова цыганки. И растерялась от испуга, переходящего в ужас.
– Что за чушь! – повелительно и строго, совсем по-помещичьи прикрикнул на цыганку дядя.– Ты, матушка, ври, да знай меру. Этакая шарлатанка. Какую чушь порет, пугает только. Урядника захотела? Или к приставу?
Цыганка стояла спокойно, не обращая внимания на окрик, словно не слыша его.
– А скоро? – спросила у нее Ксения Викторовна, еле двигая посиневшими губами.
Гадалка отрицательно покачала головой.
– Не знаю, красавица, не знаю.– Ей как будто жаль было Ксению Викторовну.– Прости глупую. Может, и не то это. Ну, позолоти ручку, дай что-нибудь. Я тебе еще скажу. Там еще много есть... хорошее. Я не все сказала.
– Не надо, не надо... не нужно больше.
Ксения Викторовна достала из кошелька рубль и подала цыганке.
– Спаси тебя бог, красавица. Прощай, добренькая. Спасибо.








