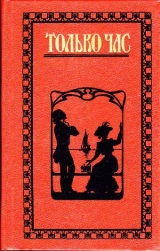
Текст книги "Династия"
Автор книги: Варвара Цеховская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– О покое, Арсений.
– Не может быть. Ты неискрення и теперь. И теперь не говоришь правды. Ты чересчур молода, чтобы думать о покое.
– Это оттого, что я никогда не знала его. Мечтаем всегда о недостижимом.
– Ксенаша, деточка моя, ты несчастлива со мною? Я измучил тебя. И продолжаю мучить. Да, да, сознаю и не смогу сделать тебя счастливой. Одно то, что ты шла за меня, не любя... Что ты как бы заставляешь себя переносить меня, ласки мои и недостатки... Нет, тебе не понять этого. Ведь что такое ревность? Боязнь утраты. Боязнь потерять близкого человека. Его любовь, его присутствие, его покорность.
– Я понимаю. Но чего ты хочешь? Есть ли хоть одна сторонка в моей жизни, устроенная по моему, а не по твоему вкусу? Нет, нету. И, однако, ты недоволен. Все, что у меня есть,– все твое. Даже жизнь моя, здоровье. И их я ставлю на карту, лишь бы ты был доволен. Ты не хочешь больше детей, не хочешь дробить имение? Я подчиняюсь и тут. Сколько операций за эти последние годы? В такое короткое время. А мне так хотелось иметь девочку. Уж ее бы не отняли у меня для Артура. Но ты сказал: какая гарантия, что будет девочка, а не мальчик? И я согласилась. Да, гарантии быть не может. Все, все по-твоему. Я подвергаю себя смертельной опасности, лишь бы...
– Но, Ксенаша? Ведь профессор...
– Что ж профессор? И профессор говорит то же. У меня железное здоровье, но и для него есть пределы. Ткани дряблеют, надрывается организм. Нельзя насиловать его до бесконечности. Вот, перебои сердца появились... Откуда? У меня было богатырское сердце. Никогда не чувствовала, есть оно или нет. А теперь перебои. Ты говоришь: нервное? Хорошо, допустим, но откуда они? Я не хочу больше этого риска. А ты подозреваешь гадость. Будто я жажду научиться секретным средствам. Чтобы изменять тебе с безопасностью. Ведь я знаю: ты не позволил профессору...
– Опять упрек? Я же просил: довольно корить, не будь жестокой. Когда ты хвораешь в X.,– разве я мало терзаюсь? Сколько страха. Какая жалость к тебе. Какие угрызенья. Не для меня же это? Все для них, для детей. Для их будущего. Я седеть начал из-за тех операций.
– Лучше бы ты не седел, Арсений. А вот странно, я забыла рассказать тебе. Перед вечером была здесь цыганка. В парке. Взялась гадать мне и сказала: "Если загубишь, сама загнешься". Ты понимаешь? Поразительно ведь? Правда? Мне стало очень жутко.
– Вот ерунда. Как она проникла сюда? Чего Ефрем смотрел? Собаками бы ее.
– Эх ты... помещик. Собаками... Однако, день на дворе? Уже четыре. Я так устала. Вся, вся разбита. По всем швам, по всем суставам. И голова кружится...
– Помочь тебе раздеться?
– Не надо. Я сама. Уходи, Арсений. У тебя сенокос сегодня. Иди, тебе пора. А я вся, вся разбита.
_______________
Сенокос был в разгаре.
Звенели, сверкая, на лугах косы, косили траву в старом парке.
Рано утром шел купаться Павел Алексеевич, пока не исчезла ночная свежесть в воде и в воздухе. Он любил купаться на открытом месте и по утрам ходил не в купальни, что стояли у подножия молодого парка, а подальше, на песчаную косу за поворотом реки. Дышалось пока свежо. В тени над прудами висел туман, как сплошное облако. И над струистой рекою под солнцем еще не рассеялся пар, похожий на золотой дымок, хотя уже отделился от поверхности воды. Тенисто было в аллеях, поблескивала роса на траве, на не скошенных пока полянах еще не свернулся от солнца нежно-голубой цикорий. Напоминая звуки флейты, посвистывали вблизи Вадимовой пасеки иволги. Горлинка по-утреннему, без умолку и передышки, укоризненно и сокрушенно повторяла свое настойчивое: кру-кру-кру...
В мешковатом полотняном пиджаке, в смятой ночной рубахе, без жилета и нараспашку благодушествовал на свободе Павел, уже подбодренный утренним впрыскиваньем. Он отпер калитку у ворот, вышел на дорогу и остановился, глядя вдаль. По дороге кто-то катил в отдаленье, коляска сделала поворот с большой дороги к парку. Павел Алексеевич приложил к глазам козырьком руку.
– Не Вадим ли раздумал за границу?
Но солнце на новом изгибе дороги осветило за спиной кучера три дамских шляпки, цветных и пестрых, как громадные бабочки. Одна из шляп – белая, с серебряно-белыми блестками, похожая на опрокинутый ушат,– взвилась с головы в воздух и приветственно заколыхалась.
– Марго! – крикнул Павел громко и радостно. Он тоже замахал в воздухе мохнатой, толстой простыней и своей панамой. Из свернутой простыни летели на землю полотенце, мыло, гребешок, мочала. Павел, не видя этого, смешно топтался на месте, размахивая простыней и шляпой.
– Марго, Марго! Маргоша...
Коляска приближалась. Уже были видны лица Марго, Жюстины и Агриппины Аркадьевны. Доносился знакомый голос Марго:
– Павлик! Павля! Поль, Павлуша, Павленька... Павла, брат мой возлюбленный...
Еще миг – и Марго выпрыгнула из экипажа.
– Павлик! Павля, Поленька, здравствуй. Все такой же неповоротливый? Мой моржик, кубик, тюлень, крокодил... Рыба-кит, слоник...
Марго без шляпы, запыхавшись от крика,– небольшая, стройная, ловкая,– висела у Павла Алексеевича на шее, теребила его во все стороны, целуя куда попало. Вся она была в белом с русскими прошивками: белое манто, юбка и блузочка, припыленные в пути. Мать оставалась в коляске, по обыкновению, непостижимо молодая. Недаром звали ее в Натальинском уезде Иммортелькой: она не увядала. Даже как будто стала с прошлого года еще моложе, розовее. Или это падала на ее лицо тень от блекло-розовой газовой шляпки с розовыми лентами, завязанными под подбородком? В тускло-розовом легком платьице не то ампир, не то директуар с поясочком под грудью, без единой морщинки на лице, высокая и худощавая, с такой тонкой талией, что, по сравнению с нею, фигурка Марго кажется более возмужалой,– мать все та же, какой помнят ее дети лет двадцать назад. Те же волосы, выкрашенные в прошлогодний угольно-черный и угольно-ровный, красивый цвет. Те же, как из мелких жемчугов, зубы, тот же голосок и смех. Все те же искусственно юношеские, вошедшие в привычку живые движения, прежнее щебетанье, заученные улыбки, нарочитые суживанья миндалевидных глаз...
Павел с трудом освободился от Марго и подошел к коляске поздороваться с матерью. Приложился к ее душистой руке, обтянутой ажурной, блекло-розовой митенкой. Поцеловал руку почтительно, но холодновато.
– Здравствуй, Павел. Как живешь? Бог мой, на кого он похож? Опять потолстел. Еще больше. Небритый, нечесаный, распоясанный... Совсем хулиган какой-то.
– Не ожидал встретить вас, мама. Отчего не телеграфировали? Выслали бы экипажи.
– Да мы так внезапно собрались. Москиты одолели в Алупке. В один день собрались.
– Мама хотела телеграфировать, я удержала. С тех пор как у Арсения конский завод, у него лучше не спрашивать лошадей. Я уж заметила: у кого завод, тому всегда лошадей жалко.
– Садись, Маргоша,– попросила Агриппина Аркадьевна с нетерпением.– Спать адски хочется. Еле ворочаю языком. Могу недоесть, недопить, но недоспать – выше сил моих. На рассвете вышли из вагона. Что за варварское расписанье! Садись, Марго. Едем.
– Я, мамочка, пешком приду? Я потом... с Павликом.
– Трогай, извозчик. Экипаж двинулся.
– Ты куда, Павля?
– На косу купаться.
– Ух, и я бы выкупалась. Жаль, не взяла полотенца. В бауле у меня сверху. Извозчик, подожди! Останови его, Павлик.
– Не стоит. Возьми мою простыню. Чистая.
– А ты как?
– Со мной еще полотенце. Собрать вот надо. Как тебя увидел, все растерял на радостях.
– Павлик... милый.
– Тебя назад свести? К купальням?
– Не на косу же. Повернули назад к парку.
– Павля, голубчик... как я рада тебе!
– Бессовестная Маргошка. Не приезжала два года. Зиму целую ни слуху ни духу. Как в воду канула. Хотя бы мне написала.
– Ага! Тебе напиши – и все узнали бы, где я. А я не хотела.
– Это я бы предал тебя? Да я за тебя...
– Знаю. А все ж боялась. Могло всплыть, помимо тебя. Как-нибудь случайно. В прошлом году не могла приехать, постройкой была занята. Виллу свою строила в Одессе. Ух, и влетела я с нею, Павлик. Ну да после... потом расскажу. Слушай, что это у нас на кладбище? Церковь построили?
– Какую церковь. Всего часовню. Родовую усыпальницу воздвиг Арсений.
– На королевский манер?
– В миниатюре. Можем все помирать, беспрепятственно. Всем хватит места. Склеп внизу наподобие манежа.
– Давно готова?
– Еще осенью освятили. Внутри художник расписывал. Васнецовские копии. И старые могилы отца, деда, бабушек – все приведены в порядок. Видишь, какие памятники, цветники? Все лето прошлое кипела работа.
– Решетка кругом изящная.
– Четыре тысячи одна она стоит.
Марго, вздохнув, юмористически тряхнула каштановыми завитками своей прически.
– Блажь,– сказала она.– Вроде моей одесской виллы. Или замка Арсения. Ну, к чему замок с башнями над Горлею?
Павел улыбнулся. Они обогнули прилегающее к парку кладбище и вошли в ворота.
– Ах, Павлик... но как же я рада тебе!
– А я?
– Хочется все поскорей рассказать. А с чего начать, и сама не знаю. Ну, ты слышал, конечно. Я своего Постромцева в трубу. Тю-тю. Побоку. К черту!
Марго быстро, будто что-то вычеркивая, провела рукой перед своим лицом и глазами Павла.
– А чертыхаться все не разучилась?
– Ууу! Еще лучше умею. Но сдерживаюсь теперь. Теперь я в обществе такая приличная. Прямо не узнать. Слежу за собою. Знаешь, как я невоздержанна на язык? Бывало, такое ляпну... дядя – отставной гусар и тот чуть не краснеет. А посмотрел бы ты теперь меня на людях. Все молчу, молчу... будто немая. Неудобно, знаешь. Соломенная вдова, щекотливое положение... И что бы я ни выкидывала, со мной ничего нельзя себе позволить. А тут всякая дрянь на тебя, как на легкую добычу, смотрит.
– Правильно, Маргоша. Не дальше, как в воскресенье, дядя мне реприманд читал. По поводу Оксаны моей. Девка, говорит,– неэстетично, вульгарно. Для этого есть, говорит, жены разные, не живущие с мужьями. Ее дети – дети ее мужа, сама же она изящнее простой бабы.
– А, старый эротоман! Жив еще?
– Что ему? Нас переживет. Так Постромцева в тираж? Решительно?
– К черту, к черту! Бесповоротно. Денег от меня так и не получил до конца. Ни сантима. Назло ему все на свою виллу простроила. А вилла, Павлик, несуразная. По образцу одного из шале королевы Виктории. Но пшик вышел. Надули меня с участком. Дрянь участок, в этом месте кругом земля ползет в море. Года через два может ничего не остаться. Все будет в море. Уже и сейчас дачники не снимают, боятся обвалов. Но – пусть. В море выброшу, а Постромцеву ни сантима. Ничего. Вот: кукиш. Выкуси.
– Марго!
– Чего ты? Мар-го-о... А он хорош? Пусть выкусит. Ага? А что? Женился на богатой? Обошел влюбленную Маргошку? Получай, мой ангел. У, дрянь какая. Я не из жадности, Павлик. Ты же знаешь. Я и жадность? Огонь и вода. У меня хуже, чем у мамы, все сквозь пальцы плывет. Но обидно мне. Как? Я его, дурня, люблю, а он мне: денег?! Ах ты, черт бы тебя побрал. Мразь подлую... Да убирайся ко всем чертям, чтобы и духу твоего подле меня не было! К счастью, детей нет. Вдруг удались бы в папашеньку? Брр... Одна мысль в дрожь вгоняет. Кабаки, карты, лошади, скачки, женщины... Очень милый фруктец. А я одна, как старый пень, дома сижу. Дни и ночи одна. Подумай сам, Павля, на что он мне, ананас такой? К черту, понятно. А какие он мне сцены устраивал. Горящими лампами в меня швырял.
– Негодяй.
– Ну, и я, положим, не оставалась в долгу. Тоже и я с коготком. Если захочу кому насолить... ну, сумею. Он у меня в синяках, как свинья в репеях, ходил. У меня свой метод: скок – прямо в глаза с ногтями.
– Маргоша... ты ли это?
– Я, я, Павля. Не ужасайся.
– Развод тебе взять следует.
– Вот этого-то мне бы и не хотелось.
– Значит, думаешь опять?..
– Ничего не значит. К нему опять? Ни за какие ковриги. С голоду помру, не вернусь. Да он уже и безразличен для меня. Давно. Как вон дерево это. Вытравила я в себе к нему все чувства. Сошелся, говорят, с кем-то. Мне на досаду. Тоже со средствами дура. А я услышала, даже сердце не екнуло. Не завидую ей ни в каком отношении. Лгунишка, фат, пустельга, мелкота, ничтожество. Убила дура бобра. Я – одна; она – другая. А развода не дам. Не дам на пакость. Потанцуй у меня. Поищи невест богатых. Не дам, не дам. Все равно он никого не осчастливит! На ком бы ни женился.
– Тебе-то до него что? Тебе бы самой освободиться?
– Да я не хочу освобождаться вовсе. Боюсь опять наделать глупостей. А так я бронирована. В любовницы не пойду из самолюбия. Замуж – нельзя. Отлично. Для меня же лучше, чтобы были преграды. А я – ненадежная. Хоть бы постареть скорее. Мне бы только до сорока лет добраться. Там уж не страшно. Не будет искушения. Я сама не надеюсь на себя. Боюсь споткнуться. Хорошо рассуждать да философствовать, пока никто не нравится. До первого увлечения. А начнет ухаживать, да еще настойчиво кто-нибудь, кто понравится... тогда трудно. Тогда как бы моя философия кувырком не полетела. Сердце у меня привязчивое, легко разбухает от нежности. Я и то уж оберегаю его. Как поймаю себя раз, два на мысли: увидеть бы такого-то,– так и начинаю избегать. Умышленно, систематично. За себя боюсь, Павлик. Не влететь бы опять. Ведь себе дороже стоит.
– А финансы твои как?
– У, скверно. Очень, знаешь, трудно. Свободной наличности – никакой. Имущества – одна вилла на Малом Фонтане и та – бездоходная.
– Бери у меня, сколько надо.
– О, Павлик. Ты все тот же... славный? Нет, спасибо. Будет обирать тебя.
– А куда мне? Своей части все равно не проживаю.
– Нет. Не хочу. Обойдусь. Может, еще и дача не провалится. Потом работать буду.
– Ты? Работать?
– Ух, как презрительно. Да ведь я и эту зиму вовсе не за границей была. Я на сцене служила.
– Что ты говоришь?
– Только это секрет, Павлик. От всех, от всех. Тайна. Даже мама не знает. Не приведи бог, Арсений услышит. Убьет. Укокошит своею рукою. Как! Рожденная Неповоева? И вдруг?.. Смотри не проговорись, родненький.
– Где ж ты служила?
– Какой у тебя оторопелый вид, Павля. Ха... Смешно, ей-богу. Чего же ты испугался? Ну, служила. А где? Черт знает где, собственно говоря. В С. Город губернский, будто большой, а глушь. Дыра изрядная. И не понравилось мне на сцене. Тошно вспомнить, не вернусь, верно. Помнишь, какой успех я имела в любительских?
– Как же. Видел тебя в "Сорванце". Очень недурно играла.
– Ай, ай, Павлик. Лучше ударь меня... но не говори... не смей говорить этого слова!
– Что? Какого?
– Слова недурно. Никогда не произноси. Я ненавижу его. Пусть меня изругают, повесят, высекут... но не говорят недурно. Не могу. Меня преследует это слово. Убивает, жжет. У меня везде, все, всегда – недурно. И никогда хорошо. Все по-дилетантски. Я и картину нарисую недурно, и Шопена сыграю тоже. В Одессе моего Шопена сам Паде-ревский хвалил. Специалист от Шопена и тот сказал: недурно. Только техники, говорит, мало, Я и спою, и в "Сорванце" выступлю. Но все лишь недурно, не больше того. Ты знаешь, Павел: я и писать могу. И тоже недурно. Как-то на своего Постромцева разозлилась, думаю, постой, я тебе покажу, что я такое! Взяла и написала повесть. Сгоряча, в две недели. Послала N – писатель ведь? Настоящий?
– Ого. И какой. Ну? Ну? Что же он?
– Да что? Все то же. Сказал и он: недурно. Написал мне. Осторожно так... чтобы не завоображала лишнего. Недурно, говорит, у вас вышло. И представь, передал напечатать! В журнал, в хороший... И деньги заплатили. По семьдесят пять рублей с печатного листа. Ей-богу.
– Молодчина, Марго. Честное слово, ты у нас самая умная.
– Умная, умная... А кроме глупостей всю жизнь ничего больше не делаю.
– Отчего ж ты еще не пишешь? Это лучше сцены. Приличнее.
– Да так. Поостыла я. Тогда, после повести, и сама думала, что умная. Вот была счастлива. То есть подвернись он мне тогда, N этот... зацеловала бы его, кажется. А потом призадумалась. Начала соображать: чему я так радуюсь? Ведь это все то же, мое прежнее, старое недурно. Напишу еще десять, двадцать, сорок вещей, опять то же? Немножко хуже, немножко лучше, а все лишь "недурно". Я и бросила. И без меня таких писак достаточно. Зачем у них хлеб отбивать? У меня хоть вилла в Одессе. И в Неповоевке, и у мамы я всегда могу приютиться, есть где голову преклонить. А у другой – такой, как я,– может, теплого пальто или калош купить не на что? Ох, Павлик, за это недурно я ненавижу себя. Черт бы его во мне побрал и меня с ним вместе!
Подошли к купальням.
Марго хотела спуститься вниз по ступеням лестницы.
– Погоди,– остановил ее Павел.– Тебе с того мостика сойти удобнее. Здесь мужская теперь. Глубоко.
Марго еще прошла по береговой дорожке, Павел нес за нею простыню.
– И на сцене, говоришь, не понравилось? – спросил он тихо.
Марго остановилась у вторых сходней.
– На сцене еще туда-сюда... куда ни шло. За кулисами вредно. Сброд разный, амикошонство у них, хамство. Не то, что вареную рыбу, селедку едят с ножа. Нравы я тебе скажу... дегенератские. Не говорят: я люблю, но: я вас желаю. А? Вообрази, честь какая? Он – желает? "Моя сезонная жена", "мы живем театральным браком" – это в обиходе. Трудно и разобрать сразу, где чьи мужья и жены. Все фамильярничают со мною. Я ведь там что? Актриса без имени, без покровителя. Всякий с тобой запанибрата. С кондачка, свысока даже. "Дорогая моя", "Какие у вас глазки", "Заходите ко мне в гости"... Это со мной-то? А? Ах, дрянь какая. Вот дома всегда: Марго – чертыхается, у Марго жаргон гаменов, Марго – богема, Марго – отчаянная. А там, представь себе... там я на каждом шагу, во всякий момент чувствовала в себе барыню! Здесь я вас всех привожу в ужас. Там меня все шокирует, коробит. Зевнет кто-нибудь из братьев актерщиков, потянется... мне уже неприятно. То он спиной ко мне сядет, то ковыряет при мне в зубах. А то еще, в моем присутствии, разговаривая со мною, брюки на себе оправляет! А? Брюки?
– Маргоша, бедная. Вот попала.
– Тебе смешно, Павел! А мне каково было? Я не привыкла. Мне – вредно. Так бы и свистнула по уху!
– Или: "скок в глаза с ногтями"?
– У, с наслаждением. Ах ты, рвань подзаборная, шантрапа полосатая... Да как ты смеешь у меня перед носом брюки подтягивать? Ну, подумай, Павлик! Я – дама; полузнакомая с ним дама, а он – брюки?
– Ужасно.
– Нет, ты не смейся. Вникни. Ведь это свинство? Неуважение? Подтяжек нет у него, или, я не знаю...
– Скажи спасибо, что хоть не ухаживали за тобою.
– Этого я не боюсь. У меня своя тактика, вмиг отстанет. Система непонимания. Я не понимаю. Он и то, другое и третье – никакого действия. Не разумею, и все тут. Разозлится, решит: "Дура, от своего счастья бежит", плюнет и отойдет. Так, знаешь, лучше. Меньше врагов наживаешь. Мужчины – тщеславные. Иной до смерти не простит любовного афронта. А так... что с меня взять, если я глупая? Это от бога.
– Но все-таки выдержала до конца сезона?
– Стыдно сбежать было. Самолюбие не пускало. Взялась, думаю, так уж выдержу, дотерплю до конца. Денег у меня нет. Свои, какие взяла в запас, растрынькала. Пораздавала, поистратила. А сборы плохие. Мое жалованье маленькое, и то платят неаккуратно. Веришь ли? Были дни, на чае и на колбасе сидела. Или – картофель еще. С кильками.
– Маргоша!
– Ну, пожалуйста... Без знаков восклицания. Начнешь причитать, совсем не буду рассказывать ничего. И чай, и селедка – это шелуха, мелочи. Из области физических лишений. Я таких лишений не боюсь. Могу сводить на нет свои потребности. Было бы из-за чего. Плохо другое: не захватила сцена. За шелухой ядра не оказалось. А то бы я все претерпела. Не из-за чего страдать было. Весной к маме в Киев приехала, она так и ахнула. Глаза провалились. Круги синие – в два пальца. Щеки – вот здесь – треугольником. Знаешь, как у стариков? Отрепалась, обносилась вся. Мама стонет, монологи читает. Роман подозревает за мной многотомный. Ты бы, говорит, к доктору по женским болезням? А на кой он мне черт, доктор женский? Меня покормить надо посытнее. Я зимовала с драматической труппой, а мне – доктора? Пока-то откормили. В Алупке уж от морских ванн поправилась.
После купанья Павел Алексеевич был готов раньше Марго. Порядочно времени пришлось прождать ее наверху в аллее.
В своей семье больше всех любил он Марго. Был привязан к ней тепло, снисходительно, скучал, когда не видел долго. Ее аристократически тонкие черты, мальчишески бесшабашные выходки, беззаботное легкомыслие, бросающее точно вызов реальной жизни, все нравилось в ней Павлу. Особенно полусознательный, часто шаржированный юмор ее речи. Когда Марго рассказывала что-нибудь, Павел не переставал улыбаться, хотя бы шел разговор о печальных предметах. Смешно было не то, что говорила она, а то, как произносились ее фразы. Смешили ее шутовские интонации, плутоватые улыбки и подмигиванья, выраженье лица, комические ужимки, гримасы, жесты, ее особый жаргон, свои выдуманные словечки, ее привычка своеобразно поджимать губы, бравировка развязностью, удальское "черт возьми" и "у, дрянь какая".
Марго вышла из купальни с мокрыми волосами, в незастегнутой сзади кофточке, в криво надетой юбке. Мохнатая простыня, белое манто и зеленовато-белый шарф беспорядочно были смяты у нее в руках в один общий комок.
– Павлик! Где ты? Иди сюда. Помоги мне скорее.
Павлик тюспешно спустился вниз. Марго свалила свой груз ему на руки.
– На вот это. Неси. Осторожней, не перепачкайся. Манто мокрое. Я уронила в воду. Да застегни мне блузочку. Не умею без горничной, не достать самой сзади. Что ж ты стоишь? Вот, не сообразит. Брось пока. Положи на пол. Ну, застегивай.
Павел застегнул скоро и ловко.
– Павлик? Ах ты, тихоня. Мы о нем: тюлень да моржик... неповоротливый да неуклюжий. А он вон как ловко. Какие крошечные пуговки, и в один секунд. Был в хороших руках, сейчас видно. Обучен.
– Погоди, у тебя юбка набок. Повернись. Еще влево... вот так.
– Но у тебя навык, как у портного? Ба-альшущая, братец, у вас сноровка одевать женщин.
– Вот еще. Стал бы я одевать их. Это потому, что для тебя. И ты – не женщина.
– Не женщина? А кто же я?
– Маргоша.
– Ха-ха... Ну, Павлик, мне есть смертельно хочется. Голодна, как сорок тысяч сестер. Ты покормишь меня? Жюстина и мама завалились спать, блеск глаз своих оберегают. У Арсения еще не встали. Я к тебе на чай, Паоло. Зовешь?
– С восторгом. Но... удобно ли?
– Без "но". Во-первых, мне закон не писан. Во-вторых... с твоей Оксаной я ведь знакома?
– Но, Марго?.. У меня и из мужчин наших никто не бывает, кроме дяди. Ни здесь, ни в городе. Арсений, если мимо проходит, то так на мой домишко глядит, будто там нет ничего, одна воздушная призрачность.
– А мне наплевать. У Арсения свои глаза, у меня свои. Идем. Я есть хочу. И я к тебе, Павлик.
Оксана тревожилась.
Третий раз выносила подогретый самовар на крылечко, а Павла Алексеевича не было с купанья.
– Шляется, прости господи. И чего на ту косу за полторы версты тащиться? Мало ему воды в купальне?
Уже солнце подобрало ночную росу, уже выдвинулось из-за тополей на углу парка, а Павел Алексеевич все не возвращался. Оксана подумывала, не запереть ли дом, не бежать ли на косу? Может, дурно сделалось? Или зацепился за корягу? В Горле коряга на коряге, яма на яме... Но стыдно было бежать разыскивать. А вдруг он вернется другой дорогой? А вдруг – так себе, шляется, пока не жарко, в поле или над речкою?
Женский смех раздался за площадкой, где росли густо высокие, наполовину одичавшие белые сирени. Смеялся и Павел Алексеевич громко, раскатисто, шаловливо.
Оксана застыла в недоумении.
Женский голос донесся опять:
– Парк, голубчик мой, парк! Я молодею, когда вижу тебя. А Горля? "О, Горля, милая моя, любил ли кто тебя, как я?"
Раньше, чем Оксана сообразила, кто это, Павел Алексеевич и Марго вышли из-за сиреневой площади.
– Оксана,– позвала Марго.– Здравствуйте, Оксана. Узнаете? Не ждали?
– Маргарита Алексеевна?..
Оксана обрадовалась непритворно. Стремглав кинулась по дорожке навстречу.
– Маргарита Алексеевна... Барыня... Откуда вы взялися? Ах, господи. Это вы?
Марго вырвала свою руку, которую хотела поцеловать Оксана. Потом поцеловалась с Оксаной.
– Здравствуйте, Оксана. И пожалуйста, не называйте меня барыней. Терпеть не могу. А откуда взялась? Сейчас с мамой приехала со станции. Павлик водил купать меня. А теперь я страшно есть хочу и пришла...
– Чаю, Оксана. Живо! – повелительно сказал Павел, перебивая сестру.– Тащи все, что есть. Да просуши вот это. Барыня в воду уронила.
– Слушаю.
Через минуту Марго сидела за чайным столом на крылечке.
– Кушай, Маргоша. Пей чай, кофе. Может, шоколад сварить? Будь, как дома. Я сию минуту. Приведу лишь себя в цензурный вид. А то родная мать и та говорит: небритый, нечесаный, на хулигана похож.
– Иди, иди, Павлик. Не стесняйся.
Маргарита Алексеевна с аппетитом закусывала, пила чай из стакана Павла в серебряной подставке. Оксана суетилась возле стола, вынося из дома новые и новые закуски. Она раскраснелась от волненья. Расставляла на столе, что надо и чего не нужно было доставать. Сливки, ром, масло, сыр швейцарский и простой, холодную телятину, еще разные закуски на хрустальных и фарфоровых тарелочках под стеклянными колпаками. А также горчицу, соль, водку, винные бутылки... Прислуживала усердно, немного робко, сконфуженно.
– Сливочек, Маргарита Алексеевна? Кипяченые... а вот – сырые. Может, простокваши подать?
– Ммм...– мычит с полным ртом Марго и, проглотив ветчину, добавляет: – Не надо. Я не охотница до нее. А я вам кое-что в подарочек привезла, Оксана. Платье. Хорошенькое, сицильеновое. Самое модное. И комнатные туфли из Ялты.
– Спасибо, ба... Маргарита Алексеевна. Всегда вы меня вспомните. Какие добрые, как Павел Алексеевич.
– Ужасно добрые. Оба в равной степени. Ну, что, Оксана? Как дела?
– Да ничего,– грустно опускает глаза Оксана.
– Павел Алексеевич опять потолстел. Нехорошо это.
– От квасу, верно, Маргарита Алексеевна. Пьют, пьют, нельзя удержать. Грушевый все... Ведрами берем из экономии.
– А по ночам спит?
– Мало спят. Как раньше.
– А-а?
Марго делает над своей левой рукой колющий жест, отлично изображающий впрыскиванье из шприца. Оксана печально и утвердительно кивает головой.
– Нехорошо,– повторяет Маргарита Алексеевна. Она задумчиво глядит на пушистые верхушки белых акаций, обступивших дом и крылечко.
Оксана вздыхает.
Задумчивость уже сбежала с лица Марго. Она коварно улыбается и ставит внезапный вопрос:
– А как у вас насчет маленького? А? Все нету?
Мучительно, до слез багровеет Оксана. Еле в силах
она отрицательно качнуть головой.
– И не ожидаете? – прежним эпически спокойным тоном допытывается Марго, пережевывая пирожок с вкусной начинкой.– Тоже нехорошо. Для вас, Оксана. Тогда бы все иначе было.
– Не дает бог, Маргарита Алексеевна.
– Гм... Ну, бог тут ни при чем, кажется.
– Дядя их все женить хотят,– произносит Оксана, будто жалуясь.– Как приедут с креслом, так сейчас женить да женить тебя надо. Других и речей не слышно.
Марго мгновенно вспоминает рассказ матери со слов Жюстины,– как Оксана говорит, маскируя тревогу: куда ему жениться, такому толстому? Марго хочет утешить Оксану, сказать приятное, доставить радость. Она, оставляя смысл, меняет форму Оксанинои надежды. И замечает с непринужденностью, делающей большую честь ее сценическим способностям:
– Куда уж... Где уж его женить, толстяка этакого! Оксана пунцовеет, расцветает, хочет что-то ответить, но приодевшийся Павел Алексеевич кричит из сеней:
– Оксана. Простокваши!
– Сейчас, барин.
Когда она убегает в ледник, Павел говорит:
– Жулик ты, Маргарита. Тебе бы королевой быть. Обожали бы тебя подданные.
– Что так?
– Как ты ко всякому сердцу подобраться умеешь. И память у тебя – королевская. Когда это было, что она про меня Жюстине сказала? А ты помнишь. Умеешь обласкать. А вот я не умею. Не выходит у меня. Но ты – жулик.
– Нимало не жулик. У меня симпатия к Оксане. Жалко ее, дурочку. На что она жизнь свою кладет? Не стоишь ты, толстый, этого.
Появилась простокваша.
– Ну, рассказывай, Павля, что у вас? – заговорила Марго.– Что лорд Арсений?
– По-старому.
– Тот же режим? То же затворничество? И сам лорд по-прежнему не говорит, а речет?
– Все без перемен.
– Маньяк он, Арсений. Раб своих маний. А она... Ксенаша ваша, превознесенная, хваленая?
– И она все такая же...
– Индюшка?
– Что?
– Понятно, индюшка. Индюшка, индюшка, и не возражай мне, не говори. Ни слова. Как же не индюшка? Так обезличиться? До такой степени подчиниться? Мягкотелость жирной индейки. Ничего больше.
Загремел гром.
– Дождь? – изумился Павел немного натянуто.– Вот те на. И некстати: у Арсения сено в покосах. Какая роса была с утра. Говорят, большая роса – не будет дождика. А дождь настоящий.
Марго выглянула с крылечка в ту сторону, откуда подходила нежданная туча. Дождь сыпался густой, серый, бесшумный. Мягко ударялись капли дождя о мягкие листья акаций.
– Нет, этот дождик пройдет сейчас,– уверенно сказала Марго.– Он недолгий. Набежной. И туча – тоже. Тут есть она, тут не стало. Помнишь, как меня покойная бабушка называла: набежная Маргошка? Смотри, Павел, как красиво. Там, на грядке. Как алмазы,– на листьях настурций. Вода накопится и бух от тяжести. А лист остался сухой, жирный. А вон мелкие капельки... как прыгающий бисер. Будто шарики ртути выскочили из термометра.
– Малышом я любил слизывать такие капли на капустных листах. Там они крупнее.
– Хорошее время было, Павлик. Тебе жаль детства? Мне – ужасно. Арсения дети не пожалеют, как мы. Мудрят, мудрят над ними. Право, лучше не воспитывать вовсе. Как нас выращивали. Неряшливо, бестолочно... А для детей лучше. Росли себе на воле, как горох при дороге, и отлично было. Мама или за границей, или дома, но всегда собой одной занята. У отца – свои дела. Зато у нас – сколько воспоминаний осталось веселых. Помнишь, как мы с тобой разоряли сорочьи гнезда? И ты после дразнил меня, что теперь я навек останусь рябая? Нам было мило наше положение. Нам говорили: ты из Неповоевых, тебе все можно. У Арсения же не так. У него ты из рода славных Азров... значит, как град на верху горы, должен то и это... Его дети возненавидят свое дворянство и самое имя: Неповоев. И все равно не превратятся в английских пэров. Как с ними ни бейся. Главное, фальшь в основе. Неповоевы – вовсе не аристократия. Обыкновеннейшие дворяне. Уездные предводители? Эка важность. Таких семейств, как собак, много.








