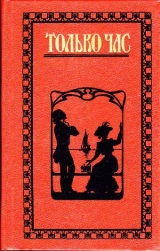
Текст книги "Династия"
Автор книги: Варвара Цеховская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Варвара Цеховская
Династия
Повесть
Источник текста: «ТОЛЬКО ЧАС» Проза русских писательниц конца XIX – начала ХХ века. Москва. Современник. 1988
– Ну и было бы самому идти в Государственную думу вместо Вадима, чем теперь так нарекать на него,– сказал беспечно и нетерпеливо Павел Алексеевич.
Арсений Алексеевич провел сухощавой рукой по своей острой темной бородке, потом ответил сдержанно, не отводя глаз от замысловатого пасьянса:
– Ты прекрасно знаешь, что я не мог пойти.
– Из династических соображений?– лениво усмехнулся негритянски-толстыми губами преждевременно ожиревший Павел.– Чтобы не оставить Натальинский уезд сиротою? Без третьего поколения Неповоевых на предводительском посту?
– В предводители я легко бы провел и тебя, и Вадима. На первых же выборах. Все равно Неповоевы. И все равно третье поколенье.
– Что касается меня, я – пас. Никакого амплуа не приемлю. Если уж в третью Думу спасать отечество не пошел... предводительство – тем более насмарку. Но Вадим? Вадиму чрезвычайно к лицу было бы предводительствовать.
– Ты полагаешь?
В холодноватом тоне старшего брата прорвалась раздраженность. Но он умел, когда желал, сдерживать себя и углубился в пасьянс еще сосредоточенней.
Павел заметил недовольство, однако не захотел уступить.
– Очень к лицу,– повторил он чуть-чуть лукаво.– Больше, чем тебе. Не сердись только. Во-первых, Вадим нигде не доучился, и это стильно. Для предводителя – очень. Как предводитель, Вадим более цельная фигура, чем ты. Ты – университетский, дипломированный. Ты – точно живой укор всем иным... настоящим, чистым дворянам. Затем... у тебя свои твердые руководящие принципы. Историческая роль русского дворянства... Неуклонная обязанность держаться на высоте... Быть достойным и прочее. Это также для многих стеснительно. А Вадим... с ним всякому удобно. Наконец, внешность Вадима? Ведь уродится же этакий Святогор-богатырь! Весу восемь пудов с походом. Не жир, как у меня, одни мускулы. Гнет серебряные рубли, лучше мужика траву косит. Плечи – шире косой сажени, борода – русая, лопатою. Хоть сейчас на монумент его тащи, не посрамит земли русской. А голос? Труба иерихонская. В Думе он классически молчит. И хорошо делает, говоря между нами. Но для председательствова-ния на уездных собраниях у него клад, а не голос. Он и гомеопат, и пчеловод... Все такое безгрешное. И совершенно в дворянском жанре. Так что почему ты не поехал в Думу сам, а послал Вадима... я положительно не понимаю.
– Подумай. Может, догадаешься.
Арсений Алексеевич не отрывался от пасьянса. Павел медлительно покачивал свое грузное тело в качалке. Откинувшись назад, он держал кверху большую голову с недлинными волосами светлого оттенка, рассеянно вглядывался в темно-зеленый купол виноградной беседки. Эта круглая, обширная как цирк беседка, сплошь доверху густо увитая цепким виноградом, предназначалась у Арсения Алексеевича на случай летних обедов при приемах гостей. Приемов, впрочем, у Арсения Алексеевича совсем не бывало. А беседку все же построили над правым берегом веселой и быстрой Горли. Построили лет восемь назад одновременно с новым не то домом, не то замком, возведенным Арсением Алексеевичем. И замок стоял тут же, над берегом, саженях в сорока от беседки, у подножия парка, который спускался к реке от старой барской усадьбы. Он был немного фантастический, этот замок. Трехэтажный, серовато-сиреневой окраски, с плоской крышей, с глухими и открытыми балконами всюду, с верандой вокруг нижнего этажа. Готические окна, полированный каменный фундамент, серебристые решетки несимметрично разбросанных балконов, закругленные башенки по углам... Все это поблескивало теперь под знойным солнцем, все еще не утратило свежести новизны.
Было жарко. Но в затененной беседке не ощущалось жары. Лишь особый знойно-золотистый, чуть зеленоватый от виноградных зарослей свет напоминал, что июнь почти на исходе, что завтра – начало сенокоса и от сегодняшнего воскресенья всего трое суток до Иванова дня.
– Так не догадываешься? – помолчав и не дождавшись ответа, спросил Арсений Алексеевич.
Павел опустил качалку вниз, поставил ноги на твердо утрамбованный пол беседки и потряс головою.
– Нет. Мои ленивые мозги не постигают столь тонкой премудрости.
– А премудрость простейшая. И постигать нечего. Помещик обязан лично работать на земле. Обязан. Иначе он – чиновник, художник, адвокат и кто угодно, но не представитель своего сословия. Ты и Вадим не хозяева. Отнюдь. Значит, пригласить платного управляющего и все на него оставить? Это после того, как я вложил в имение чуть не все женино состояние? После всех моих начинаний? И овцеводство мое, и конский завод... Все в чужие руки? Но тогда мы и половины не получим того, что теперь получаем. Ни я, ни вы с Вадимом. Наши две с половиною тысячи десятин на троих – да-алеко не золотой клад. Рабочие руки дороги, все дьявольски вздорожало. А жить нам всем – мне с семьей, Вадиму с Ларисой, да и тебе тоже – надо прилично. Соответственно нашему,– как ты на мой счет часто иронизируешь,– прирожденно сословному достоинству.
– Но в Думе ты получал бы жалованье на подмогу?
– И проживал бы его целиком, как Вадим проживает. Их только двое, он и жена. У меня же семья.
– Да-а. Это... разумеется. Пожалуй, что верно.
Павел досадливо, немножко смущенно потер крупными и пухлыми пальцами свой жирный затылок. И обрадовался, вспомнив еще про что-то, упущенное из виду.
– А имение дяди? – напомнил он несколько тверже и оживленнее.– Ведь тоже две с половиною тысячи? И оно всецело в твоих руках?
Арсений Алексеевич усмехнулся не то с горечью, не то с укоризной.
– Тебе кажется земля дяди ценной находкой? Напрасно. У дяди Валерьяна все заложено-перезаложено. Не секрет же для тебя, полагаю? Две закладных в банке. Есть частные обязательства. Сколько проценты съедают. Кроме того, дядю самого содержать надо. Тебе, может, кажется: дядя старик, паралитик... много ли ему нужно при семье Арсения? Только и расходов на него, что оплатить камердинера. А на деле, если сосчитать,– во что одно франтовство его обходится! Все эти костюмчики, курточки... ассортименты шляп, запонок, галстухов. Духи, косметики. А его страсть к лекарствам? Ко всяким омолаживающим средствам? Даю тебе слово: он больше тратит на себя в месяц, чем я за полгода.
– Но все же... то есть... Я хотел сказать...
– Ты хотел сказать: но все же долги его погашаются? И имение достанется моим детям чистеньким? Но это только и заставляет меня возиться с его делами. Если бы не его дарственная... если бы это не родовая, не повоевская земля, да я бы ни за что!..
– Видишь? Какой ты у нас... собиратель, Иван Калита.
– О, могу тебя уверить... Он, составляя дарственную, все рассчитал отлично и правильно. Не возьми я его земли в свои руки, все уже продали бы кредиторы. Дядя остался бы ни с чем, безногим нищим. У него не было другого выхода. А я все равно был запряжен. Ну и рассуди, как бы я шел в Думу с таким грузом за плечами?
Наконец, я должен следить за воспитанием детей. Воспитатели воспитателями, а необходимо и мое влияние. Мстислав и Игорь – наше будущее. Не только мое, всей семьи нашей, пока ни у тебя, ни у Вадима – нет детей. Ах, дети, дети... Большая радость, но и крест нелегкий. Уж не говорю о расходах. Но сколько жертв во имя их. Если бы ты знал только... И, какие жертвы!
– Да, ты много тратишь на их воспитание.
Арсений Алексеевич очнулся от какой-то своей волнующей думы.
– Еще бы,– проговорил он прежним, спокойно-деловитым тоном.– Один мистер Артур содержание податного инспектора у меня получает. Даже больше. Потому что на всем готовом. А Жюль? А Эрнест? А русский учитель?
– Русский – что. Иностранцы у тебя дорогие. Но это, извини меня, твоя же прихоть.
– Как прихоть? Необходимо вытравить из детей кое-что специфически русское: лень, спячку, инертность, распущенность нашу. Самодурство, моему нраву не препятствуй, мягкотелость, наконец, русскую. Я для того и удалил всякое женское влияние. Мать родную, Ксенашу, и ту отодвинул в сторонку. Вот вам мистер Артур. Пока не вырастете, он бог и царь ваш. И конечно, никаких разговоров. Моих детей надо воспитать подобающим образом. Чтобы четвертое поколение натальинских предводителей было почище третьего. Жизнь идет вперед, а дворянство хочет стоять на месте? Нельзя. Ему нужны престиж, авторитетность. И выдержка, выдержка.
– Малы еще они, мальчики твои, для такой муштровки. Им бы еще в мяч играть, а не в предводители готовиться.
– Мяч – мячом. Мяч, спорт, гимнастика, холодная вода. Но и выдержка, послушание. Игорю – восьмой год, Мстиславу – десятый. Не так уж и малы. Да и воспитывать никогда не рано. С колыбели начинать надобно. Чтобы – храни бог – не вышли продуктами российского выращиванья. Как ты, говоря примерно. Человек с образованием, два факультета прослушал, а какой прок? Хоть бы с японцев брать пример научился. Проникся их преданностью всему своему, их национальным чувством. В Лондоне, в Париже ты небось был в парламенте? Интересовался, как и что у них? У себя же дома – кнутом тебя не загонишь. Я и Вадима в Думу послал потому, что ты отказался. Только потому.
– И впредь откажусь. Не посылай, пожалуйста. Не верю в самую возможность что-либо там сделать. И за себя не поручусь. Вадиму ты как сказал, сядь справа, ближе к октябристам, там он и вовеки пребудет. Он смотрит на себя, как на твоего наместника. Я же не то. Покажись мне, что истина на стороне слева, я не задумаюсь пересесть.
– Этого лишь недоставало. Чтобы Неповоев...
– То-то и есть. Оттого и не пошел я. Тебя огорчить жаль было. Проснись во мне энергия, тебе же беспокойство. А Вадим, он человек удобный. Его сотней лошадиных сил не сдвинешь с места. Он не ослушается.
– Но... он скандален? Безличность круглая. За две думских сессии ни одного слова.
– Бедняга. При его-то болтливости. Думаешь, легко ему это?
– Ты все блягерствуешь.
– А разве лучше, если бы он вдруг взял да заговорил? О чем-нибудь близком его сердцу? О гомеопатии, например? О преимуществах ее перед леченьем аллопатическим? Или о пчеловодстве?
– Спаси господь. Про гомеопатию не заговорит: он дал мне слово и, как джентльмен, не нарушит его. На него можно положиться.
– То-то же. А кстати... Знаешь, какая легенда ходит о Вадиме по уезду? Будто ты, снаряжая его в Думу, сказал в напутствие: "Молчи, Вадя. Как Неповоев и брат мой, ты достоин сесть в Думе. Но прошу тебя... молчи, что бы ни случилось, кто бы что ни говорил, что бы ни делали, ты знай одно: молчи. Пока ты молчишь, только я один и знаю, что ты... ну, не очень умный. А как заговоришь, вся Россия узнает".
– И чему же ты радуешься? Над чем смеешься? – вскипел Арсений Алексеевич.– Сам, наверное, и сочинил, и пустил в оборот эту идиотскую сцену.
– Вот еще... Стал бы я. Мне кузен Миша рассказывал.
– И Миша, и ты – оба хороши, одним елеем мазаны. Вот... Не угодно ли с подобными сородичами? И когда зубоскалят? Когда мы – точка опоры, переходная ступень в переходной эпохе. Зубоскальство вместо того, чтобы собраться воедино. Доказать, что мы вовсе не развращенный, дряблый класс, как о нас говорят и думают. Не паразиты...
Арсений Алексеевич внезапно умолк.
В среднем из трех закругленных входов в беседку приостановилось кресло с дядей Валерьяном.
Кресло придерживал сзади камердинер из ротных фельдшеров, расторопный, худощавый, малорослый, чем-то похожий на рыжего муравья. И пиджак был на нем шоколадно-рыжеватый, будто нарочно, чтобы дополнить сходство.
Дядя Валерьян грациозно приветствовал племянников полуигривым, полуснисходительным и благосклонным движением левой руки.
– Э? Друзья мои, вы здесь? Примите уверение в глубочайшем...
Приложив руку к груди, он шутливо-низко, наклонил голову в прозрачной, дымчатого цвета волосяной жокейке и на секунду замер в этой позе.
Выхоленный, чистенький, подозрительно розовый, тщательно принаряженный, с высохшими ногами на подножке кресла,– он все еще был недурен. Особенно с первого взгляда. К нему даже шли его нелепо растрепанные усы, блестяще-золотистые, вероятно, подкрашенные. У него были неестественно молодые, сверкающие белизной зубы, розовые, артистически отполированные ногти на тонко-нежных, как у женщины, пальцах. И, как у женщины, унизаны были его пальцы кольцами модных фасонов с разноцветными камнями. Он умел носить самые несуразные вещи, гордился своим уменьем. Пожалуй, действительно, другой в его возрасте был бы очень смешон в этом бело-желтом фланелевом костюме с широким, желтоватым поясом из кожи вместо жилета, в такой пестро-клетчатой сорочке. Смешным показался бы на другом и дымчатый галстук с крупным бантом, и пурпурно-красный фуляровый платочек, картинно выдвинутый из-за кушака. А на нем вся эта пестрота никого не смешила. Будто ему так и подобало.
– Друзья мои? – произнес он снова.– Я вам не помешал?
– Чем же, дядя? – стараясь сказать радушно и чуть повысив голос, ответил Павел.
Дядя был глуховат. Но не любил, чтобы с ним говорили, как с глухим, напрягая голос.
Камердинер вкатил кресло в беседку.
– Ну-с? – обратился дядя к камердинеру.– Ну-с, Артемий Кобелякин, по прозванию Артамон? Теперь ты можешь покинуть меня. И пойти съесть твой обед. Но живо у меня. Слышишь?
– Слушаю, Валерьян Мстиславович.
– Не прохлаждаться долго. Да не мозоль глаза. Жди тут поблизости, пока не кликну.
– Я мигом, Валерьян Мстиславович.
Валерьян Мстиславович остался неженатым и не позволял называть себя барином. Артамон вышел.
Арсений Алексеевич сидел, углубившись в пасьянс.
– А вы тут что? – спросил у Павла дядя.– Препирались как будто? Опять Павлик раздражает Арсюшу? Ай-ай-ай! Как не стыдно. Брату только и отдыха, что в воскресенье. Мы все сидим у него на шее... И нам ли не уважать его отдых? Ай-ай-ай! А я так не могу достаточно налюбоваться Арсением. Благоговею перед ним. Так все предусмотреть. Так блистательно всем распорядиться. Никогда не упустить ни малейшей мелочи, и в то же время – никакой суеты. Ни крика, ни ругательства. Корректность позы... Корректность туалета. Редкий административный дар. Хороший бы из тебя премьер-министр вышел, Арсений. У-ух! С силой воли... ежовые рукавицы. Одна помеха – не умеешь гнуться. Тебя можно сломать, согнуть – ни-ни. Никому не удастся.
Дядя говорил лестные вещи, но говорил иронически-снисходительным тоном. В его учтивости было что-то высокомерное. Точно он по доброте своей снисходил к кому-то, делал поблажку чьим-то слабостям и сам немножко трунил в душе над этим.
Арсений Алексеевич словно не слушал дифирамбов. Ему не удавалось освободить бубнового короля в пасьянсе, и это, казалось, поглотило его внимание.
Но он был польщен, хотя и знал цену речам дяди. Ему по сердцу пришлось то, что говорил дядя о неспособности его, Арсения, гнуться. Скорее сломится, но не согнется... Это думал о себе и сам Арсений Алексеевич и считал эту черту свою большим достоинством.
А дядя продолжал восхваления:
– И как тебя хватает на все? Поразительно. Даже не загораешь от солнца. Между нами, друг мой, как ты спасаешься? Употребляешь что-то... Но что? Какой косметик?
Арсений Алексеевич рассмеялся.
– Поразительно,– продолжал дядя.– К тебе, значит, не пристает загар. Вот счастливчик. А я загораю, и ужасно, до черноты. Хотя у меня есть средство. Верное. Могу поделиться, если кто желает. Умыванье. Надо взять самую мелкую гречневую муку. Первый сорт, мельчайшую. Смешать в равном количестве с порошком фиалкового корня и... Ну, словом, если хочешь, я пришлю тебе.
– Благодарю. Не нужно.
– Препарат чудесный. Испытан мною. На опыте. Ни веснушек, ни желтых пятен, ни загара. Мне шестьдесят два года. Я двадцать второй год веду сидячую жизнь в кресле. Но цвет моего лица ни в чем не уступит вам, молодежи.
– Превзойдет нас, дядя,– медлительно покачиваясь в качалке, отозвался Павел.
Валерьян Мстиславович удовлетворенно улыбнулся. Он снял с головы ажурную жокейку. Круглая, розовая голова его, лишенная волос, блестела, как перламутровая.
– А все мои косметики,– сказал он.– Косметики и лекарства. Я многое приготовляю сам. Артамон у меня главный лаборант по косметической части. Земляничный сок у нас... Огуречная вода... Настой росного ладана... Сок из лепестков яблони. Все из непосредственных источников. Природа – враг человека. Но она же и друг его. Его защита и помощь. Надо уметь пользоваться ее дарами. В том-то и состоит секрет молодости английской королевы Александры...
Дядя попал на своего излюбленного конька. Это скучно было слушать. Павел осторожно прервал его слова:
– А от моего ожиренья у вас нет косметического средства, дядя?
Дядя понял маневр и, будто невинно, ответил в отместку:
– Есть. Как не быть. Но прежде прекрати подкожные впрыскиванья.
Павел даже дрогнул от неожиданности. Он до сих пор думал, что об этом не знают.
Дядя любил говорить всем неприятные вещи, любил касаться чужих секретов. Но всегда в третьем лице, полупрозрачно, замаскировано. Никак нельзя было осадить или оборвать его без того, чтобы самому не расписаться в получении ядовитой стрелы.
Теперь же он говорил прямо, как о явлении, давно и всем известном.
– Шутка сказать, мышьяк ежедневно! Оттого и толстеешь. Он ведет к жировому перерождению тканей.
– Но позвольте,– возразил Павел, не отрицая.– В Тироле горцы...
– Э-э! Горцы! В Тироле у горцев – какая трата энергии на хождение по горам. А ты на что тратишься? На лежанье?
– А моя бессонница? Многолетняя, хроническая? Вам это кажется пустяком? Я почти не засыпаю без наркотика. От такого сна наутро вялость, тяжесть в голове, расслабленность. Мышьяк только и бодрит меня. Дает иллюзию равновесия. Если б не он, как бы я жил, не знаю. Только это и возбуждает немного. Появляется ощущение легкости, приятности. Словно давило меня что-то. А тут я взял и освободился от тяжести.
Странно было слушать эти признания от такого массивного, крепкого на вид человека.
– Ну и пеняй на себя,– сказал дядя.– Вот и причина толщины. Тебе тридцать четвертый год, и столько жира. Безобразие.
– Систематическое отравление,– вставил свое замечание Арсений Алексеевич, не отрывая глаз от пасьянса.
И он, очевидно, знал давно про впрыскиванья Павла.
– Бог милостив,– протянул Павел, оправившись от смущения.– Бог милостив, а я осторожен,– добавил он уже шутливо.– Я по всем правилам науки. Не отравлюсь, не бойтесь.
– Но ты уродуешь себя! – наставительно заметил дядя. – И как это можно настолько не заниматься собою, чтобы по доброй воле жиреть, разрушаться? Это даже неопрятно. Некультурно. В том-то и есть одно из главных отличий человека белой кости...
– А! И вы, дядя, как Арсений, в белую кость веруете? – спросил Павел, отводя дядю к новой теме, на этот раз незаметно.
– Всеподданнейше и непреложно.
Валерьян Мстиславович заиграл своими кольцами, собираясь привести доказательства. У него была привычка передвигать большим пальцем то правой, то левой руки многоцветные кольца, надетые на остальных пальцах.
– Натурально, верую. Пораскинь умом, хоть немного, уверуешь и ты. Пойди к Арсению на завод конский или сравни овец, простецких и каракулей. Возьми коров, собак, кур. Кого хочешь из мира животных. Какую огромную роль играет порода. Неужто же для человека она ничего не значит? Вспомни про наследственность. О прирожденных свойствах и качествах. Даже строение тела совершеннее у аристократа, чем у мужика. Э, дорогой мой. Порода – это порода. И я тебе советую не пренебрегать ею, когда задумаешь жениться. Бери выше себя, родовитее. Это можно. Ниже – никоим образом. Из вас троих один Арсений в порядке. Взял девушку из хорошей фамилии. С большими средствами... Красавицу. А вы?.. Ты совсем не женишься. Вадим... Я предпочел бы, чтоб и он не женился. Хорошо еще, что детей нет. Развел бы кутейников. Жена–поповна. Фи! Даже звучит непристойно. Мало того что поповна... Актриса. И актриса-то самый низший сорт, из малороссийской труппы. Бог знает что! Как допустить себя до этого? Ну, понравилась она тебе... Лечил ты ее своей гомеопатией, она уверовала в нее... На здоровье. Живи с нею в свое удовольствие, пока она тебе по вкусу. Но жениться? И кому? Неповоеву? Это уж слишком. Чересчур. Совсем в дурном тоне. А главное, не нужно вовсе. К чему? Никакой необходимости. Я не говорю о ней дурно. Лариса – милейшая особа. Хотя пренекрасивая женщина. В роли жены она достаточно прилична, добродетельна. Все это так. Не спорю. А все-таки бывшая актриса и поповна. Духовенство – почтенный класс, тоже согласен. Но поповна Неповоеву не пара. Все должно быть на своем месте. Все только тогда и хорошо, когда на своем месте. Вон у Арсения на клумбах немец Адольф Прибе чудеса развел всякие! И там все на культуре зиждется. На совершенствовании пород. Пересадил бы ты в такой великолепный цветник чертополох или репейник? Или мяту? Очень почтенное растение. Целебное даже. Но тут оно не у места. Тут от него – засорение, диссонанс. Ты же первый скажешь, что глупо. Так вот, когда вздумаешь жениться, вспомни о мяте.
– Ну, я не собираюсь.
– Э, придет пора, женишься. На всякого теленка найдется свой мясник.
– А вот вы же?.. Не женились, дядя?
– Я не из телят, мой милый. И не женился по иным соображениям. Не из лени, как ты. Я уклонился сознательно. Боялся. Ревнивым боялся оказаться. Слишком хорошо знал чужих жен, чтобы доверять собственной. Женщине и погоде я никогда не верил. Ибо знал, что знаю. Легче найти мужа, не изменяющего своей жене, чем жену... ээ... э... гм... Ну, жену, которая не хотела бы изменить своему мужу.
Павел исподволь с тревогой глянул полуприкрытыми глазами на Арсения Алексеевича. Арсений был болезненно ревнив, но всячески скрывал свой мучительный недостаток. Скрывал от родных, от чужих, от прислуги, старательно, с выдержкой, следя за собою на людях до мелочей. Но тем не менее все знали про это, как и про впрыскиванья Павла. Точно по молчаливому уговору, никто из семьи не подавал вида, будто считает Арсения способным к ревности. В его отсутствие и то избегали разговоров об этом. И также без уговора, но дружно старались не задеть как-нибудь случайно больную струну его души. Один дядя, прикидываясь несмышленым, часто вертелся вокруг запретной темы. Он находил в ней, как во всяком поддразниванье, своеобразное развлечение.
_______________
Долго и пространно говорил дядя о женском коварстве.
– Нападайте, нападайте на женщин,– заметил ему Павел, оберегая Арсения.– А кто первейший их почитатель?
– Я. И отъявленный. Даже и теперь, в мои годы, в моем положении... не могу существовать без увлечения. По сей день Ксенашу платонически обожаю. Как божество, как вдохновенье. Несу мой восторг к ее ножкам. Как дань земного восхищенья пред неземною красотой. И в присутствии мужа не боюсь признаться. Позволяешь, Арсений? Хе-хе... Я думаю. Теперь-то. Теперь мне все можно. Эх вы, молодежь. Куда вы годитесь? Ты, Павел, десять лет на моих глазах корпишь бесчувственным истуканом. А я десять лет увлекаюсь Ксенашей. По мне и сейчас...
Он комически запел, раскинув сверкающие кольцами руки.
Лучше в Го-орле мне бы-ыть
Утопл-э-э-энно-му,
Чем на све-ете мне жи-ить
Невлюбл-э-э-энно-ому.
Павел насторожился.
Его вялое сердце напомнило о себе резко и оглушительно. Убыстренные, сильные удары сразу отозвались внутри головы, в ушах и пониже ушей.
Безнаказанно издеваясь над Арсением, дядя мог целиться и в иную мишень.
Ведь это он, Павел, десять лет со времени женитьбы Арсения жил под неодолимой властью безнадежного влечения к Ксении Викторовне. И именно с первой встречи, когда увидел ее уже как невесту брата. Сперва, в студенческие годы, он боролся с этим, потом перестал. Он не мог, да теперь и не захотел бы отделаться от своего безотрадного увлечения. Он любил Ксению Викторовну со всею страстью и нежностью, доступной его вялой душе. И это тайное чувство – одно лишь оно – заполняло, скрашивало и оживляло бескрасочную жизнь Павла.
– Ксенаша... ох, Ксенаша, это – такая пленительная женщина! – вздыхал дядя патетически и злорадно.– Трудно взглянуть и не плениться. Что-то в ней особенное. Бунтующее, будоражащее. На что англичанин – Артурка! Идол каменный. Надут, как только может быть надут англичанин. До глубины глубин презирает все наше, русское. А и тот от миледи в восхищенье. Тает и он, пень стоеросовый. Улыбку уст, движенье глаз ловит... И он восчувствовал. А красавец парень, спора нет. Красив, бестия. Эти холодные, синие глаза, черные ресницы. Гибкий, молодой, рослый... Совсем герой из аглицкого романа. Из романа прежнего, старинного. Тип этакого лорда с девизом: "Их глаза не смеются, непреклонны они"... А тут и преклониться готов, каналья? Захватило и его. О, имей я жену, на пушечный выстрел к дому своему не подпустил бы такого Адониса. Хотя бы жена была святейшей из мадонн. Нет-с, сударыня. Дудки-с. Атанде-с, madame-c, женщине и погоде я не доверяю-с.
Сдвинув брови, Павел опасливо и искоса глянул вторично на брата.
Арсений Алексеевич сидел, опустив глаза на стол с картами. По-видимому, он был поглощен пасьянсом. Но по быстрым, непроизвольным движениям его плотно сжатых челюстей Павел понял, что он волнуется.
А дядя говорил и говорил:
– Мимо Ксенаши не пройдешь равнодушно. Красота сама по себе. А женственна она еще, до мозга косточек женственна. Вот что захватывает. Мало уже таких, как она. Женщина не наших дней, скорее семнадцатого столетия. Ведь это очаровательно? Живой анахронизм. Но какой прелестный анахронизм. Я позволил бы себя четвертовать за такую. Женщина, которая в наши дни отдает в руки мужа все, что имеет. Ничего себе не оставляя. А?! Беспрекословно, бесконтрольно. Вот мои триста тысяч, бери, сделай одолженье. Все мое – твое. Делай со мной и с моими деньгами – что пожелаешь. Созидай замки на сотни лет для поддержания своего феодального достоинства. Устраивай сады Семирамиды, разводи арабских лошадей, выписывай каракулей... Ты мой муж, глава и повелитель. Делай, что хочешь. Разве не прелесть это? Ваша мать, Агриппина Аркадьевна, была побогаче Ксенаши. А много она из своего личного состояния отдала отцу вашему? Ломаного гривенника не видел. И до сей поры сама всем своим владеет. Маргарита, сестра ваша, разбросала по ветру приданое. А дураку своему небось тоже не дала ни полушечки? Нет, такой, как Ксенаша, не найти другой. Если бы нашлася, женись, Павел. Вместо одной – двух племянниц боготворить буду.
– Я ни на какой не женюсь. Последую вашему примеру.
– И с таким же успехом,– тихо, чтобы не быть услышанным дядей, но жестко и злобно произнес Арсений,– тоже к сорока годам допрыгаешься до спинной сухотки.
Как это часто бывает с глухими, Валерьян Мстиславович услышал то, что не предназначалось для его слуха.
– Спинная сухотка? – переспросил он будто добродушно.– Э, что ж? Хочешь стать Дон-Жуаном, будь готов к табес-дорсалису. Старо, но верно. Зато жизнь есть чем вспомнить, зато мы пожили. Вам не доведется так пожить. Что вы, молодое поколение? Лихих отцов расслабленные дети. И нагрешить не умеете, как следует. А мы умели. Нас любили. Добровольно. Мы женщин не держали на привязи. Не тиранили, не заставляли любить их страха ради. Сами они за нами бежали. Да, мы умели. И грешить, и концы в воду прятать. Все умели.
– Вы хоть умели концы в воду прятать. Соблюдать известный декорум. Теперь и то признано лишним,– заговорил Арсений Алексеевич спокойно и поучительно, слегка в тон дяде, но решительно не понимая его намеков.– Теперь все чуть не на площадях. Чуть не с барабанным боем. Вот-де мы плевать на всех, ничего не уважаем. Чем пакостнее, тем почетнее. Аристократичнее. Как же не быть вырождению? Никто никого уважать не желает. Семья, родина, нация – все пустые звуки. Хотя бы Марго наша? Не успела замуж выйти, уже бросать мужа, разводиться. Такой-сякой, изменяет. Мало ли что случается в семье? Не все же тащить на улицу? Плоха та птица, что свое гнездо пакостит. Я за то больше всего и ценю англичан: какое у них огромное уважение ко всему своему. К своему дому, к своей семье, нации, к своим формам общежития. Из уважения к себе вытекает это. А у нас? У нас атрофия этих понятий. Мне перед мистером Артуром за всю семью нашу стыдно. То, что он видит у нас, по его понятиям, прямо дико. И разве не правда? Вадим на его глазах женится бог знает по-каковски, Марго скандалит, мужа бросает, пропадает по шести месяцев неведомо где. Мама... я не хочу сказать о матери ничего плохого. Но, согласитесь, у мамы тон и ухватки пятнадцатилетнего подростка? Женщине за шестьдесят лет. В ее годы это... это смешно, наконец! И тон мамы, и вся жизнь ее – непонятное что-то. Со своего таврического имения она имеет свыше двадцати тысяч в год. Чистоганом. А где они? Мы ничего не знаем. Все остается в Киеве. То ли это благотворительность ее? Ее безалаберность, нерасчетливость? Эксплуатирует ли ее кто-нибудь? Или просто так – все идет прахом? Неловко и спросить даже. Но летом мама едет в Неповоевку, нагонять экономию. И у нее, действительно, нет денег. Ей не хватает на жизнь ее доходов. И все фантазии, фантазии... К чему понадобилось ей дом в Киеве строить? Киев не наш район. Что у нас общего с Киевом? Почему Киев? Отчего не Тамбов, не Одесса, не Саратов? А дом проглотил прорву денег. Особняк бездоходный. Умрет мама, кому он нужен? Куда девать его? И так – все.
– А что ж, приедут они сюда, Марго и мама? – спросил Павел.– Ведь собирались на лето.
Арсений Алексеевич в недоумении пожал плечами.
– Кто угадает, что им вздумается. Собирались. С весны собирались. А вместо того очутились в Крыму, в Алупке. Теперь писем нет. Может, уже в Финляндии. Или еще где-нибудь. В таком месте что и в голову не взбредет. И вот Артур видит всю бестолковость эту. Видит, может быть, в худшем свете, чем есть на деле. Почем мы знаем, что он думает о маме? Или о Марго с ее мальчишескими выходками, с ее жаргоном уличного гамена? И мама, и Марго компрометируют себя, сами того не примечая... Павел незаконно сожительствует с крестьянской девкой. Держит ее при себе тут же, на глазах у остальной семьи. Ясно каждому, что это за горничная, которую восемь лет возят за собой, зимою – в город, летом – в деревню.
– Словом, ты, как старший брат и представитель рода, чувствуешь себя ответственным за всех нас перед мистером Артуром? – насмешливо резюмировал слова Арсения Павел.– Что за комиссия, создатель...








