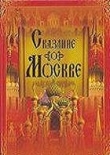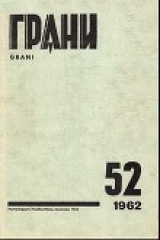
Текст книги "Сказание о синей мухе"
Автор книги: Валерий Тарсис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Краснобрюхов меня поучал:
– Ты – первоначальная единица, первично проверяешь заявителей. Розалия Загс как старший инспектор проверяет тебя. Юрист контролирует вас обоих. Потом вас проверяю я и моих два заместителя. Меня проверяют, – он стал загибать пальцы, – инспектор райсовета, р-р-р-аз, инспектор райкома – д-д-два, зампредрайсовета Иван Соловей – т-т-три, сам пред Мосолкин – ч-ч-четыре, потом несть числа – работники госжилуправления, Моссовета, Госконтроля, комиссии Верховного совета, прокуроры, инспектора государственной безопасности – и так без конца.
– Все проверяют, а что же делают?
– Чудак! Делать-то нам всем нечего. Выписать ордера – дело плевое. Наша уборщица могла бы с этим справиться, не нарушив, притом, справедливости, потому что она уже знает всю очередь наизусть, у многих детей крестила, один парень даже хотел на ней жениться, несмотря на то, что ей пятьдесят лет, надеясь на протекцию, но она отказалась за него выйти – больно зашибает. А жилплощади – чуть. Была бы жилплощадь, а мы никому не нужны. Лучше бы мы все пошли дома строить.
– Конечно, – обрадовался я.
Краснобрюхов устало махнул рукой:
– Эх ты, морская романтика. Это же не серьезно. Кто пойдет? Никто не хочет строить, все хотят бездельничать. Даже и строители сами работают – не бей лежачего. Посмотри на стройки нашего района. Ребята наши ездили в Америку и говорят, что там дом, большой, строят три-четыре месяца, а у нас – пять лет, и не потому, что не умеют, а потому, что… Ну, и так далее. Но ты, пожалуй, скажешь, что вся советская власть – скопище бездельников?
– Скажу.
– Ну, брат, не нам с тобой учить советскую власть.
– А кому учить?
– Ученого учить… ты попробуй докажи, что он не ученый. Сами с усами.
– А не с носом?
– Ну, иди, брат, работай, а то дофилософствуешься.
И я работал.
Требовал бумажки. Побольше бумажек!
Люди, приходившие ко мне, толпились в узком коридорчике сиротливые, несчастные, подавленные тысячами тонн невыносимой свинцовой печали. Их глаза, отрешенные от мира, глядели на меня, как на Монблан, и, казалось, говорили: – Ну, как же тебя сдвинуть?
Они прятали свою ненависть, как женщины прячут скомканные носовые платки, мокрые от слез. Чужие жизни, непостижимые для меня, накатывались на мою душу, как морские валы, неся гальку и водоросли, которые били, облапливали меня. Я воочию увидел, как самое страшное чудовище пожирает людей, я видел, как сочится их кровь, я видел, как дымятся их разорванные сердца, и как один из миллиона зубов жевал их, не в силах остановиться – ведь я – зуб, крепко сидевший в челюсти чудовища на положенном месте. Оставалась одна надежда, что чудовище начнет пожирать самого себя… Но когда это будет? Мир мне казался огромным кладбищем, куда живые пришли для окончательной расправы. Они стояли в очереди с пяти часов утра, хотя мы начинали работать в десять. Стояли, чтоб услышать от Краснобрюхова:
– Всё, гражданин. Где я вам возьму жилплощадь?
И они уходили, поднимались из нашего полуподвала в мрак и слякоть ночи: – Граждане и гражданочки, не смейте унывать и жаловаться, пишите заявления, принесите справки из любого учреждения, там их вам выдадут, что вы счастливо прожили многие годы, иначе…
Кажется я один думал еще, пытался что-то обобщать. Другие не смели. Вот она – жизнь! В полуподвале райжилотдела происходил финал мировой трагедии, бушевали неистовые страсти, в дыму и копоти мелькали пленительные глаза Розалии, она улыбалась, и для этого стоило жить.
Мне хотелось кому-то отомстить, но у меня не было никаких шансов. И я смиренно просил прощения у человечества за то, что не могу его спасти.
«Вкушая, вкусил мало сладости, и се аз умираю…»
Но воскресенье – день не рабочий, так что я не воскресну. Все учреждения закрыты, я даже не знаю, кто мне выдаст патент на бессмертие. Я утешался тем потом, что понедельник – тяжелый день, в такой день спасать людей не стоит, они, пожалуй, и сами не рискнут спасаться в тяжелый день, а другие дни тоже казались неподходящими…
Я медленно брел по улице, по традиции глядел в освещенные окна, за тюлевыми занавесями двигались тени, тщательно укрывая от чужого глаза свой сор и беду, как великую тайну, а я шел домой, где на меня, как обвал, осыпались все мои беды, – Евлалия швыряла в меня взгляды, начиненные ненавистью, и мне даже не от кого было скрывать свои тайны: я был один в целом мире, один в этом многомиллионном городе, я шел по ступенькам вверх и вниз, требовал справок, писал бумажки, ел три раза в день, а пища была настоящая, свежая, – Евлалия кормила меня на убой, соусы были с острыми приправами…
– Не гляди же в зеркало, старый колпак! Там плещется море безнадежности. Там свирепствует шторм отчаяния, там гибнут твои океанские корабли, груженые золотым руном, которое ты же отыскал. Загляни в свои воспоминания, наклонись над тихим озером, где как белые лебеди, плывут твои юные дни…
Вот как я жил – даже белые лебеди…
Жизнь!
Ничего не скажешь: если взглянуть на нее глазом знатока, в ней отыщутся изумительные частности. Но кому охота?
Я прихожу к таким неожиданным выводам, что нахожусь беспрерывно в состоянии трепетного удивления, как дети, впервые узнавшие ужас и восторг бытия.
И понимаю, почему это: мы слишком долго играли. И всё проиграли – веру, идею, восторги, радость, надежды.
Так, что ли?
Только Розалия, затащив меня как-то к себе, заставила еще раз с чудовищной силой испытать острые ощущения прыжка в бездну. Потом она говорила мне тихо и певуче:
– Старичок, ты, оказывается, еще годен на многое. Только надо суметь зажечь газ. Не правда ли? Но для этого нужно иметь спичку… Теперь я поняла, что ты в самом деле философ.
– А кто же ты? В тебе есть что-то нечеловеческое, Розита.
– Конечно, дурачок. Видишь ли, мы, женщины, ценим мужчин главным образом по тому, как они проявляют себя в постели и сколько они нам приносят денег. Но многие из нас забывают, что и мы должны себя так держать, чтобы мужчина мог себя проявить. Ну, в общем, нужна спичка. А у меня их, видимо, целый коробок, как говорит мой ученый муж Моська.
– Может быть… Но если есть внутренняя гармония, то в ней всегда хаос, – сказал я печально.
– У меня есть. На житейской ярмарке я делаю крупные оптовые обороты с активным сальдо. И без всякого обмана. Спроси кого угодно, даже моего Моську, который только облизывается.
– Ты чудо, Розита.
– Возможно. Я и сама думаю, что толково сделана. Жаль, что в свое время не успела спросить папу и маму, как это у них получилось.
Когда мы вышли в столовую, полные еще усталости и блаженства, Загс сидел за столом и уныло читал рукопись. Он испуганно посмотрел на меня, потом ласково сказал Розалии:
– Мамочка, у тебя опять была эта страшная боль под ложечкой? Ты так кричала, что твои крики я слышал на лестнице.
Розалия сказала печально и задумчиво:
– Да, я боюсь, что они сведут меня в могилу. Иван Иванович бегал в аптеку за валидоном. Если бы не он, уж не знаю, что со мной было бы.
Загс смотрел на жену виновато и просительно. Потом она мне шепнула:
– Ему не то обидно, что я кричу в обществе других, – а то, что с ним, когда он получает свой паек, я нема как могила.
На другой день Загс мне говорил, потирая свои желтые потные руки:
– Зарезал сегодня романчик. Произведение гениальное! Не уступит графу Толстому. Никак не думал, что у нас еще водятся гении после двадцатилетней очистительной работы. Ну и чудак мировой! Забыл, где живет. Вместо того, чтобы писать инсценированный доклад о посевной компании, размахнулся на «Войну и мир». Видали такого осла?
Я не выдержал и спросил:
– Загс, у вас болят зубы?
– Нет…
– А то я мог бы сбегать в аптеку за каплями.
Розалия шумно вздохнула. Грудь ее поднялась.
– Я думаю, – сказала она, – он сам сходит. Да, пожалуйста, Моська, сходи. И раньше чем через три часа не возвращайся.
Загс стоял еще на пороге, когда Розалия начала расстёгивать платье.
С чего-то я начал вести воображаемые разговоры с разными лицами, особенно, с Апостоловым. Может быть потому, что в действительности мне с ним говорить не придется. Но поймите, мне же необходимо с ним сразиться, хотя бы для истории. Ведь ясно, что, в конце концов, командовать парадом буду я.
– Так вот, Илья Варсонофьевич, вы утверждаете, что владыкой мира будет труд?
– А кто же еще?
– А нельзя ли вовсе без владыки?
– То есть как это? Анархия вам нужна?
– Ничего подобного. Вы просто не можете себе представить мир свободным. Обязательно кто-то должен властвовать.
– А как же иначе?
– Подумайте о будущем. Через сто лет уже всё будут делать машины. Не только работать, но и управлять, контролировать, решать, судить, переводить, – всё, что угодно. Людям останется только одно – воображать и размножаться. Но назвать это трудом никак нельзя. А когда людям делать нечего, да еще отсутствует забота о завтрашнем дне, – это может повести к всемирному озорству.
– Вы пытаетесь оклеветать коммунизм по рецепту ревизионистов.
– Нет, я не клевещу. Это просто то, что будет. Кстати, тогда ведь и партий никаких не будет. Интересно, Илья Варсонофьевич, как же коммунисты тогда будут осуществлять свою авангардную роль?
– Авангардную роль всегда можно осуществлять, если ты способен. Притом – самокритика. Не все будут на высоте.
– Тоже пустые слова. Самокритика – это выдумка для дураков. Никто себя не может критиковать. А, главное, – не хочет. Такого чудака на свете еще не было и не будет.
Ричард Амчеславский получил отставку. Розалия больше не хочет с ним… Он сказал мне на прощанье:
– Все проходит – иногда медленно, иногда быстро. Но я не имею пагубной привычки думать. И вам советую отучиться.
Розалия мне сказала:
– Базар. Ходовая торговля. Пока есть деньги – всё продается. Я горжусь, что моя любовь ценится на вес золота. Так давай поживем, Ванюша, пока еще из золота не делают унитазы.
Я гляжу на нее и снова теряю спокойствие. А к чему, спрашивается? Мне же не совладать даже с одной пинтой такого обжигающего напитка. Припадешь к горлышку, глаза закроешь (почему-то слышнее становится), как уже где-то поблизости смерть бродит, шуршат под ее ногами осенние листья. Вдруг цапнет – и всё… Конечно, ничего особенного. Но самое страшное в том, что уж докатился до ежедневных размышлений о конце. Нельзя человеку долго жить. Надо умереть до того, как начнешь каждую ночь думать о смерти.
Вчера перечитывал свои записки.
Мне казалось, что там всё неправдоподобно. И даже я сам.
Но я могу только повторить слова Виктора Гюго: мы не претендуем на то, что наш портрет правдоподобен, скажем только одно – он правдив.
Если уж говорить об успехе, то самым преуспевающим человеком был Ричард Амчеславский. Он был высок, красив, неотразим. Он имел успех. У женщин. В искусстве. И вообще в жизни. Даже Розалия его хвалила. Он недавно получил орден Ленина. Уж я-то никогда не получу.
Идет избирательная кампания. Я тоже хожу по квартирам. Ну и живут же люди! Это превосходит всякую фантазию. Впрочем, чёрт с ними. Ты этого сам хотел, Жорж Данден.
Что же будет дальше?
Розалия убивает меня с жестоким великолепием Нерона. Вот это настоящий гуманизм!
Какая идиотская канитель – морить усталое сердце горькими каплями провинциального аптекаря. Но какое надо иметь щедрое сердце, чтобы сделать умирание уставшего феерическим праздником. Ритм, данный жизни Розалией, вызывает смертельную аритмию. Вот это – стиль! Пусть они не думают, что синемухи не умеют умирать.
Если Розалия порочна, то отныне я провозглашаю порок венцом всех добродетелей…
Читал свои записки Останкину. Он сказал:
– Ты знаешь, друг, что-то пахнет подпольем Федора Михайловича.
– Но ведь не мы с тобой загнали жизнь в подполье. Разве ты обнаружил у меня хоть один звук неправды?
Останкин промолчал.
– Впрочем, – прибавил я не без ехидства, – вероятно и мы содействовали.
– Чем? – испугался Останкин.
– Терпением. Ты помнишь слова Горького? Я их заучил наизусть. Вот они: – Терпение – это добродетель скота, дерева, камня. Ничто не уродует человека так страшно, как терпение, покорность силе внешних условий. И если, в конце концов, я всё-таки лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен… Вот так сказал Горький. Как будто и про меня сказал.
– Ты всё выдумываешь, Иван, и себя и других выдумываешь… В жизни все проще.
– Уж чего проще, – вскрикнул я. – Просто до тошноты, до отвращения. Но вспомни – ведь всё прекрасное на свете выдумано: рай, Прометей, Джульетта. И знаешь, порой я сам удивляюсь, что действительно существует, а никем не придуман, Иван Синемухов. Может быть, я и заслуживаю нимб. И еще, может быть, ты поверишь всё-таки, что я один остался на земле, вот такой…
И, знаете, – я забыл сказать, что сейчас глубокая осень, земля похожа на старуху с желтым сморщенным лицом, в бурых лохмотьях, из-под которых торчат чуть ли не оголенные ребра, а из глаз текут крупные желтые слёзы. Ведь это ужасно, что красавица становится такой непристойно уродливой. Как это допускает природа, знающая толк в красоте?
Как она допускает, что даже я сам, спаситель, должен разбить себе голову об стену? Ведь никто не хочет слушать… Кругом четыре стены…
Душа человека создана из неточных конструкций, и в неустойчивых элементов, поэтому в жизни человечества возникают мгновенья совершенства, вводящие в заблуждение историков. Разве может утешить Леонардо да Винчи оскорбленного Человека? Оскорбленного Человека, который вынужден прожить столетия в обществе горилл и павианов. Идеи – молнии, революции – грозы, но разве может даже самая сильная гроза повлиять на движение Земли? Трагические толпы, словно клубы пыли, мечутся по миру, их безостановочно гонит ураган, и в этот хаос глупые пигмеи пытаются внести гармонию, геометрические формулы, бесконечные перспективы. Жалкие глупцы не слышали предостережения мудреца:
– Геометрия обманывает, только ураган правдив.
Но почему меня на краю гибели охватывает такое веселое отчаяние?
Говорят, что Наполеон тоже был весел в роковой день Ватерлоо. Я никогда не был уверен в окружавших меня обстоятельствах и людях. Если утро их слало мне как надежных союзников, то уже полдень их проявлял как сообщников, которые себе на уме, а в темноте они подкрадывались как тать в ночи, грозя предательским ударом. Всю жизнь я ощущал чей-то нож вблизи, от которого у меня холодела спина. Горе мое еще и в том, что я никогда не утешался переменой мест радужных и злосчастных предзнаменований – ведь результат всегда один. И так будет продолжаться до той поры, пока человечество не осмелится бросить вызов своей судьбе, выбранной им добровольно. Если мир – ужасный кабак, если вы, владыки, захватили власть в этом кабаке, то вы обязаны помнить хотя бы об обязанностях кабатчиков, изложенных с французским изяществом всеми признанным мэтром:
«Обязанность кабатчика – уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки».
Оказывается не так-то просто. Наши кабатчики явно не справляются. Но что же делать, если я родился не кариатидой, поддерживающей чужие скрижали, а горным потоком, низвергающим всю мировую плесень?..
Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, одиноким, едва заметным, сверкающим, но окруженным несметными угрозами – чудовищами, обступившими его: звезда в пасти туч.
Когда же она взойдет – звезда пленительного счастья!
Я вызываю ночь на очную ставку.
Я бросаю вызов безмолвию народа.
Я начинаю разговор межконтинентальными ракетами.
Не забудьте, что слово, закованное в цепи, самое сильное и действенное. Когда-нибудь люди сорвут цепи с моих страшных слов и будут ими причащаться, как христиане кровью Спасителя.
Из моего притворного молчания, как из невидного родника, вытекают огромные потоки – лава. Она застынет над миром, как бронза, и на ней вырастет мой памятник, нерукотворный.
Если мертвы все идеи, надо покончить с миром и начать сызнова.
Розалия мне сказала:
– Старый мальчишка, мальчишеский старичок, если есть Бог на свете, то Ему перед тобой стыдно. Так пей же вино, дыши Монбланом, целуй мои губы.
Большие города даже в тихие прохладные ночи сохраняют пыльное удушье, отзвуки машинного скрежета, и за это я их не люблю даже в лучшие минуты жизни. Надо жить в тихих местах, на берегах морей, в лесистых горах, которые в часы тишины и покоя пахнут росой, ландышами, соленой влагой прибоя.
К сожалению, я живу в большом городе. Я всё понял. Но что из этого следует? Розалия мне сказала, что меня могут объявить сумасшедшим. У нас в России на этот счет имеется солидная традиция.
Но я уже ничего не боялся. Я слишком много потерял. После таких потерь жизнь потерять – уже не страшно. Это всё равно, что потерять кулек, в котором остались только крошки.
Но даже кулек мне дорог.
Я чувствую себя чем-то вроде Бога.
Я вездесущ – всё вижу, всё знаю. Разумеется, как Бог я не должен испытывать никаких чувств, но здесь мое уязвимое место – мне явно нехватает божественного равнодушия.
Розалия мне сказала, что она нередко забывает, с кем она рядом:
– Твои мысли меня возбуждают так, что я озорничаю как богиня. А ты?
Не мог же я признаться, что с Евлалией уже несколько лет не чувствую себя мужчиной, и даже предполагал, что мои силы исчерпаны, а одно воспоминание о Розите заставляет меня по ночам метаться в постели. Должно быть, всё-таки есть любовь.
– Розита, я ничего не думаю. Я тебя не породил и я тебя не убью. Конечно, я бы из романа твоей жизни с удовольствием вычеркнул Моську Загса. Но чёрт побери! Вероятно не существует чистых романов, как не существует чистых атомных бомб.
Она немного подумала, потом постаралась меня утешить:
– Только время судит беспристрастно… И почти всех и всё оправдывает. Потом… А пока – Боже, как оно издевается и мстит доверчивым дуракам.
– Дорогая моя, – воскликнул я, подняв руки, – ты даже будущему не доверяешь!
Она посмотрела на меня высокомерно:
– И ты еще спрашиваешь? Ты? Неужели ты не можешь предсказать будущность волчьего выводка? Конечно, иные философы дошли до такого идиотизма, что надеются посадить волков на вегетарианскую диету. Но для идиотов закон не писан. Пока мы забавляемся только тысячи лет, а миллионы лет тянули лямку. И забавлялись тоже только тысячи, а миллиарды по-прежнему тянут лямку. А когда начнут забавляться миллионы… Не исключено, что шарик вылетит со своей орбиты, и кончится эта история, порядком надоевшая всем, которые вынуждены ее делать за небольшое вознаграждение, да к тому же еще в обесцененной валюте.
Не все ли равно, сколько людей страдает – один или много! Один человек может испытать все муки, существующие на свете.
Грехэм Грин
Этот человек – я.
Между мною и другими та разница, что я не могу жить применительно к подлости. Для меня наступает эпоха без эпохи, по выражению Гёте, – то есть пустыня на краю ночи.
Я никому не завидую. Еще в начале прошлого века было сказано: да и что толку в том, что я стану, скажем, делать хорошее железо, а на душе у меня будет лишь одна гарь. Горе всякому прогрессу, имеющему в виду только конечный результат, и нисколько не озабоченному тем, чтобы осчастливить нас на пути к его осуществлению.
– Куда мы идем? – спросил я Розиту.
– К одному из концов.
Я не понял. Она пояснила:
– И после этого конца будет новое начало, и дураки опять будут ноги бить.
– Какой же смысл? – спросил я.
– Смысл в пути. То, что стащишь по дороге – твое. Цель – такая же чепуха, как Бог.
Загс ядовито усмехнулся:
– Розита, разве ты не знаешь, что это библия лжесоциалистов: цель – ничто, движение – всё.
Она смерила его тщедушную фигурку презрительно насмешливым взглядом:
– Еще неизвестно, кто лжесоциалист… Впрочем, все социалисты лже… Потому что все социализмы на деле оказались бредом сивой кобылы. И не обижайся на меня, но разница между меньшевиками и большевиками только в том, что одни меньше, а другие больше насолили миру.
Только все люди, вместе взятые, составляют человечество, и только все силы, вместе взятые и совместно действующие, составляют мир.
Гёте
Замечательное определение коммунизма.
Но есть ли на свете два человека, вместе взятые?
И есть ли на свете две силы, совместно действующие?
Я полюбил Розиту – мы были часто двумя силами огромного потенциала, но она уже остывает – мы начинаем отталкиваться, как встретившиеся метеоры: удар – осколки – пыль…
Нет человечества. Нет мира, нет меня.
– Что ты хочешь? – говорит Розита. – Ты хочешь, чтобы я одна построила для тебя новый мир. Ты слишком меня переоцениваешь. Вот он пред тобой – новый мир – но бьюсь об заклад, в нем происходит всё то же, что и в старом, который мы оставили позади. Если ты не умеешь сводничать, ты никому не нужен… Да, никому, вечный Иван!
– Если 6 хоть одной тебе, – простонал я.
– Не глупи. А я кто? Я ведь не Евлалия, я знаю, что ты гений и тебе нужны вечные ценности. А я скоропроходящая. Как только оболочка моей души потеряет свою соблазнительную упругость – моя роль окончена. Так что мне надо торопиться. Я не создала философии мира, как ты. Только сладкие воспоминания могут меня утешить.
Я всё чаще впадаю в странное состояние, когда, с одной стороны, ощущаю безмерное счастье бога, а с другой – безмерную муку червяка, на которого наступил чей-то сапог.
Ежедневно всё та же погода: переменная облачность без существенных осадков.
И как это я ухитрился, проведя всю жизнь в этом умеренном климате, постоянно лихорадить, ощущать тропический зной, плыть в штормовых океанах, где душу мою трепали самумы, сирокко, тайфуны и трамонтаны?
Но вот вопрос:
– Если я на земле не обнаружил ни одной тропинки, на которой завалялся бы хоть осколок разбитого счастья, почему же мне так хочется жить?..
РЕКВИЕМ
Надо разобраться.
Синяя муха погибла во цвете дней.
Ее предсмертный час мне многое раскрыл, пожалуй, больше, чем вся предыдущая история человечества.
Дело обстоит так:
Люди как мухи – и по количеству и по качеству.
Их слишком много, они одноцветны – ведь их окрашивают одни и те же желания, настолько ярко выраженные, что оттенки прихотей и капризов ложатся лишь легкими тенями, слегка омрачающими фон. Душевный спектр так же вечен и неизменен, как солнечный. И главное в нем – невидимые части – ультра и инфра.
Человековеды туда заглядывали редко и неохотно.
В древности ограничивались только видимыми лучами. Потом было несколько душепроходцев. Самый смелый и дерзкий из них – Достоевский, Колумб душевного мира.
Сейчас пытаются закрыть все проходы. Душа – не канцелярия. По штату она не положена. Все ее работники уволены. В том числе и я.
Надеюсь, что синяя муха научит вас, как надо жить.