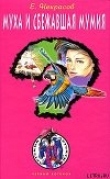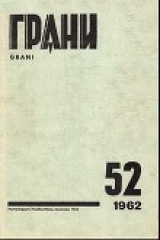
Текст книги "Сказание о синей мухе"
Автор книги: Валерий Тарсис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
В это время он тяжело заболел.
Врачи не могли поставить точного диагноза. Симптом был только один – беспрерывная тяжесть в голове. Ему казалось, что в голову его проникло какое-то живое существо и нажимает изнутри на черепные кости. Он почти совсем не спал по ночам. Появились галлюцинации. Он часто видел себя молодым, веселым, беседовал сам с собой, не замечая этого. Жена смотрела на него враждебно, безмолвно, но красноречиво обвиняла в притворстве. Постоянные упреки ее в том, что он довел семью до нищеты, сводили его с ума. Иван Иванович смотрел на нее и не мог понять, почему после двадцати лет совместной жизни, когда она получила всё, что ей хотелось, и даже собаку кормила колбасой и семгой, ежегодно проводила несколько месяцев на курортах, она не только не чувствует к нему ни малейшей благодарности, а вдобавок еще ненавидит его и часто оплакивает свою загубленную жизнь.
Но как ужасно сознавать всё это! Существует ли тогда на свете что-нибудь прочное, для чего стоит пожертвовать хотя бы одним часом своей жизни?
Ивану Ивановичу становилось всё хуже, и он почти не в состоянии был работать.
Дубов с явным раздражением говорил Осиноватому:
– Мне надоело возиться с этим Синебрюховым. У меня есть проект. Что он человек конченый – ясно для всех. Подумать только, сам товарищ Апостолов выразил желание ему помочь, а он ни гу-гу. Неслыханная наглость. Он хочет себя противопоставить всей партии, но мы его огорошим. Вот мой проект: замолчать его. Кто он такой? Популярности у него ни на грош, а рубежом его, слава Богу, не знают, так что с этой стороны всё в порядке. Я уже говорил с Архангеловым. Он доложит Илье Варсонофьевичу, что Синебрюхов выбыл из строя, а сочинение его ничего особенного из себя не представляет – просто бездарная мазня с претензией на оригинальность. Перестанем его замечать. И всё. С голоду не помрет. Он теперь болен, будет получать страховые, потом пенсию.
– Но, видите ли, он всем дает читать свое сочинение. Слухи пошли. Наши студенты волнуются. Может случиться обструкция. Лично против вас.
– Бросьте, я – стреляный воробей.
– Но студенты – это не шутка, об этом могут написать в американских газетах.
– Нет, уж мне позвольте. Студенты не осмелятся. А иначе – вон из института. На Енисей… А что касается американских газет, то мало ли что в них пишут про нас. Посмо́трите.
И все начали забывать Ивана Ивановича.
Остались у него, всё же, два человека – Останкин и свояченица Зина. С Зиной он подружился незаметно. Удивительно, до чего могут быть непохожи родные сестры. Или Зину сделала полной противоположностью Евлалии несчастная жизнь, обилие неблагополучий, на редкость неустроенная судьба? Она без слов поняла трагедию Ивана Ивановича. Но избегала его. Может быть, опасалась, что случится что-нибудь непоправимое, еще ужаснее того, что с ней было. Евлалия была гораздо красивее Зины, но бывали минуты, когда Зина так хорошела, будто сбрасывала сразу тяжелые годы, несчастья, и у нее вдруг появлялись крылья, и все лицо преображалось, – и тогда зеркало говорило, что все могло быть иначе.
Но Зина уехала в Тамбов, к своему постылому мужу, – хотя и обещала вернуться.
Останкин стал даже раздражать Ивана Ивановича. Он весь был как бы воплощением бессилия, тупика, безнадежности. Казалось Ивану Ивановичу, что живет он как обреченный, уже свыкшийся с мыслью о близком и бесславном конце. Но сам он не мог с такой мыслью примириться, хотя здоровье его становилось всё хуже.
Теперь он почти все дни и ночи перебирал и ворошил минувшие дни свои, как сугроб осенних листьев, ища в них что-то главное, забытое, ключ к разгадке тайны несчастья, схватившего его за горло и грозившего задушить.
Часть вторая
ВОСПОМИНАНИЯ – МОТЫЛЬКИ
Души знатоков, благодаря долгому трению и тесному соприкосновению с предметами своих занятий, имеют счастье стать под конец совершенными – картинными – мотыльковыми – скрипичными. Стерн
Иоанн Синемухов сначала отмахивался от налетевших роем воспоминаний, как от назойливых осенних мух.
Но потом, зная, что ни убить их, ни рассеять он уже не сможет, ввиду краткости отпущенного ему времени, начал рассеянно перебирать их, постепенно приручать и достиг в этом искусстве известного совершенства. Раньше ему казалось, что такие дикие и необузданные творения, как мухи, комары, страсти, воспоминания не поддаются укрощению и поэтому считал их более опасными и лютыми, чем тигров и пантер.
Секрет заключался в том, что перед лицом неизбежной, точно датированной смерти, которая стоит перед глазами так же отчетливо, как справка из загса, самые страшные воспоминания и совершенно голая правда, прекрасная или уродливая, уже не потрясают душу поздними сожалениями, крушением надежд, стыдом за свою никчемность, бессилие изменить что-либо в этом мире, – не знаю, худшем или лучшем из миров.
Пожалуй, это единственная позиция – на смертном ложе – когда человек не боится правды, не юлит перед ней, не приукрашивает, не хитрит с ней, не приспособляется к прекрасной или подлой действительности, не старается умилостивить ее, не бежит трусливо в кусты, не борется, – потому что приобретя в этот час небывалую дальнозоркость, понимает, что все честные, бесчестные, героические, трусливые шаги, называемые в совокупности жизнью, в одинаковой степени ничтожны, напрасны и безумны. Но что пользы в познании напрасного?
Но все ночи и дни наплывают на нас
Перед смертью в торжественный час,
И тогда в тесноте, в духоте
Слишком больно мечтать о былой красоте
И не мочь.
Хотеть встать – и ночь…
Перед этой вечной ночью в последний час заката всё выглядит необычайно ярко, и в этом свете Иван Иванович увидел, прежде всего, русого Ванютку в уездном городишке Чистоплюеве, в уютном домике хранителя дровяного склада на приречной Скотопригонной улице, близ реки Тухлянки, заросшей осокой и аиром.
Не случайно он пришел снова на берег этой незавидной, но прекрасной речки, с таким обидно неподходящим названием. Но разве люди называют вещи, события и поступки своими именами? Может, это и было в незапамятные времена, но уже давным-давно прохожие по земле всё называют так, как заблагорассудится правителям, историкам, и нынче ничто уже своего имени не имеет, а переименовано по многовековому произволу хозяев.
Старики обычно говорят – доброе старое время…
Другие говорят – недоброе старое время, стараясь всячески очернить неё, что было до них – разумеется, для того, чтоб их собственное неприглядное время казалось не таким черным.
Но в свои предсмертные ясные дни Иван Иванович, увидевший сразу множество времен и пространств истории, чужих жизней и свою, сразу отметил, что времена эти почти ничем не отличаются. Всё та же безумная и бесцельная толчея, суета сует, ярмарка тщеславия, драки пьяных и трезвых, одинокие затерявшиеся голоса добрых гениев, вопиющих в пустыне. И по-настоящему хорошим было только детство. Детство человека и детство человечества. Потом и отдельные люди и народы мучились – богатые от богатства своего, нищие – от нищеты, умные – от ума, убогие – от убожества, и те, которые мечтали освободить мир от всех пороков и злодеяний, сами становились величайшими злодеями во имя свободы, еще более жестокими, чем тираны древности.
Но как прекрасно детство…
Иван Иванович вспоминал дровяной склад, как потерянный рай. Вот он бежит по огромным поленницам любимых своих березовых дров. Такие они веселые, белые, пахучие, живые – кора у них шелковистая, улыбчивая, порой еще янтарная слеза глядит на Ваню; сколупнет он ее ноготком, пожует… А какие они длинные – эти поленницы. Ваня воображает, что это целая железная дорога, когда бежит сверху, как по шпалам. Между высокими поленицами – туннели, пещеры, катакомбы. Их можно населить при желании страшными троглодитами или кроткими первыми христианами времен апостольских, и даже рыбу начертить. Одно время Ваня сильно колебался, размышляя над тем, кем ему быть – добрым христианином, как требовали родители, или добрым разбойником, как Арсен из Марабды. Он долго колебался, потому что его соблазнял синий камзол и шелковая канареечная рубаха бородатого кучера Тихона, везшего хозяина дровяных складов и лесопильного завода Луку Лукича Семисчастного, того самого, о котором мама говорила, что он на седьмое небо попал и там семь счастий достал, а у них хоть и одно, маленькое, зато удаленькое, потому что они добрые христиане, не в пример прочим хапугам и сквалыгам, непьющие, не гулящие, детей держат в строгости и добронравии, ни на кого злого сердца не имеют, и обращено оно к Вседержителю.
«Как же он держит всех?» – думал Ваня. Тихон, такой здоровенный, и то еле удерживал двух рысаков, а как же можно удержать всех жителей города, да еще и жителей других мест, которые, может быть, и не меньше, чем Чистоплюев?
Никак не укладывались в сознании Вани образы Бога и добрых христиан. Да и другие тоже плохо укладывались. И с этим плохо уложенным багажом он отправился в дальнее путешествие – жизнь. Потому, вероятно, так и получилось неудачно – багаж рассыпался, и он остался яко наг, яко благ.
Вот этот хозяин Семисчастный – мать о нем говорила, что он семижды счастлив, а студенты шумели, что он несчастный хапуга, отец говорил про него, что он надежный хозяин, у такого и работать приятно, а у этого Семисчастного единственный сын двадцати шести лет застрелился, жена сошла с ума от горя, и он всё роздал бедным и ушел в монастырь замаливать грехи. Кто же он?
Чем дальше, тем всё менее понимал Ваня: что же происходит на белом свете?
Любил он землю сильно и страстно, даже пустыри за кирпичными заводами, где высились чертополох и колючие репейники – всё любил. И не мог понять, почему за границей земля чужая, не его родина, и он ее любить не должен, а даже должен убивать тамошних людей. Потом он все это кое-как запихнул в душу, как-то оно умялось, улеглось, и он начал писать о разумной дисциплине. Так и представлял себе, что чем плотнее человек всё уложит, умнет в себе, не перетряхивая, не перебирая, тем легче ему будет жить на свете и делать то, что он делает, не задумываясь над самым простым, но и самым главным вопросом – нужно ли то, что он делает, ему и другим?
Уже в детские годы ему пришлось слышать, что та жизнь, которую он видел в Чистоплюеве, – плоха, нужна другая. И он повторял вслед за студентами, приезжавшими на каникулы – да, нужна другая. О ней он узнал и в некоторых книгах. Студенты говорили, что вот придет революция, и жизнь станет прекрасной. Как именно будет выглядеть это прекрасное, никто не говорил, и Ваня бездумно поверил в мечту. Но вот пришла революция, и прошла революция, и ничего прекрасного нет. А будет ли оно? Вера – это вера. Если можно верить в грядущий рай, почему нельзя верить в грядущий ад, тем более, что в ад легче верится, он ближе к действительности, понятнее…
Самое страшное для Ивана Ивановича было то, что всё старьё, которое он мечтал уничтожить, ожило с необыкновенной силой, а все хорошее, что было прежде, развеялось, как дым. Будто и жизнь стала ненастоящей. Пусть это частный случай, и всё, что говорят окружающие – тоже частные случаи, но ведь он больше ничего не знал. Как же верить? Его товарищи пишут явную неправду. Вряд ли они думают так, как пишут.
И вот вспоминает он тихую чистоплюевскую жизнь, и слезы у него текут из глаз… Очень уж упрощенными стали новые спасители человечества – о них, пожалуй, не Евангелие, а сборник анекдотов напишут.
Но, признаться, я чувствую больше прелести к профессии евангелиста, которая мне кажется всё же поэтичнее, чем участь корифеев реализма. Не так уж весело рассказывать страшные истории, лучше красивые вымыслы, особенно если им верят в течение многих веков далеко не худшие представители человеческого рода.
После, столь талантливо сочиненного Христа, в мире появились спасители, уже не придуманные евангелистами. Они провозглашали торжественные манифесты, в которых постоянно фигурировали одни и те же лозунги, поначалу действовавшие на нервы, как литавры, а впоследствии, как погремушки, – к счастью младенческие забавы не подвергаются критике.
Но все эти забавы детей и взрослых всегда были более или менее одинаковы. Кодекс хороших манер, принятых, видно, раз навсегда. Иван Иванович, вспомнив всё это, даже застонал от стыда, боли и отвращения к самому себе, и в голове его пронеслось:
«Как низко могут падать даже самые возвышенные люди! В каждом гении где-то на задворках мозга притаился кретин.
Самая страшная ошибка в том, что мир хотят переделать насильно. Но из этого никогда ничего не выйдет. Когда никто не будет властвовать над человеком, ни боги, ни полубоги, уйдут из мира страх и фальшь, и человек возродится».
Иван Иванович увидел себя с необычайной яркостью таким, каким он был до обработки партийными клещами, и каким сейчас снова стал в свой предсмертный час – высоким, стройным, кудрявым, с голубыми, никогда ни перед кем не опускавшимися глазами.
Он решил написать свою исповедь. Эта работа, по крайней мере, облегчит его предсмертный час, который может и затянуться, – врачи так человеколюбивы, что готовы продлить муки больного до бесконечности. Таков гуманизм в нашем мире.
Иван Иванович с большим рвением принялся за работу. Она не только не ухудшила его состояния, как предсказывали врачи, но он даже посвежел, стал себя бодрее чувствовать, и жена с тревогой подумала, что он может поправиться, когда она всё обдумала и решила. Ей так хотелось пожить в свое удовольствие!
Впрочем, Иоанн Синемухов не осуждал ее.
Приготовляя к изданию дневник Синемухова, автор этой повести, разумеется, не сделал никаких поправок. При этом он подумал, что мертвецы счастливее живых. То, что они сделали, не уродуют специально для этого нанятые люди… Да – всё проходит и изменяется к лучшему.
СЖИГАЮ И ПОКЛОНЯЮСЬ
Склони голову свою, гордый Сигамбр! Поклонись тому, что сжигал, сожги то, чему поклонялся. Иезекиил
«…Если вы думаете, что в этой книге найдутся доводы в пользу каких бы то ни было идей, или показ событий с преднамеренно выбранной точки зрения, одобрение одних и осуждение других, – отложите ее в сторону.
Автор не считает возможным заниматься всем этим. Судей он ненавидит, такую постыдную роль на себя не возьмет. Судить современников можно через тысячу лет, да и то не с абсолютными шансами на справедливость.
Всё на свете можно доказать, показать, изобразить с любой точки зрения; поэтому так много фальшивых учений, романов, законов.
Механика здесь так проста, что даже не требуется ловкости жонглера или жулика. Она неоспорима в своих манипуляциях и выводах, если этим занимаются официальные инстанции и лица. И все эти учения, романы и законы не могут быть большей частью опровергнуты, ибо этому препятствуют мощные организации, применяющие самые сильные средства борьбы – костры, виселицы, гильотины, пистолеты.
Всё это дает обильный материал для социальной демагогии – все орут: „свобода, равенство, братство!“ – а дают упомянутые выше успокоительные средства.
– Так надо же всё это разоблачить! – наступает на меня совесть, и я еле отражаю ее яростную атаку.
Но тут меня омрачает воспоминание о том, что всё это уже было.
Всё на свете было. И всё это навечно запечатлели книги. Зачем же поднимать шум из-за пустяков?
Послушайте:
– Если весь мир, собственно, ничто, к чему же делать столько шума, особенно если истина является чем-то случайным? Разве только сейчас открыто, что вчерашняя истина завтра безумие? К чему же тратить годы юности на раскрытие нового безумия? Единственно несомненный факт – это смерть, потому мы и живем! Но для кого, для чего?
– Для жизни, – отвечу я почтенному Августу Стриндбергу. Никакие противоречия не сбивают меня с толку. Наоборот, – меня способна сбить с толку какая-то последовательность, почти равносильная глупости – так она напрашивается на похвалу за редкую оригинальность. Может быть, я настолько простодушен в своих признаниях, что иные властелины обидятся на такую прямолинейность. Но льщу себя надеждой, что никто из них не примет моих слов на свой счет. А мне нельзя сфальшивить. Мир мне не простит даже малейшего малодушия. Тем более, что я умираю.
Между прочим, я уже давно ощущаю, что между моим телом и душой установились совершенно новые взаимоотношения. Словно тело мое сгорает в пламени высоких мыслей, как пирамидальный тополь, роняя желания, как скрученные листья. А мысль живет, как целый каскад бурных потоков. У меня даже ничего не осталось от самолюбия и самолюбования – этих моторов человеческой души.
Я стараюсь избегать общения с людьми, потому что все выделяют свои флюиды разнообразных видов лжи и фальши. И так как душевное сродство так же действенно, как химическое, то я предпочитаю не подвергаться такой порче в последние часы жизни. Я замечаю также, что произношу слово „человечество“ без приподнятости и восторга, а раньше произносил его как тост, – но теперь оно выдохлось так же, как я.
Конечно, я могу порой впасть в меланхолическую сентиментальность, но ведь это сразу бросится в глаза – если человек не хочет лгать, он не солжет.
В хрустальной вазе букет махровых гвоздик пылает, как созвездие Плеяд. Они высоко сияют в зеленом полумраке, как далекие солнца, и мне кажется, что моя постель удалена от них на миллионы миль. Но как ярок звездный свет, и как далеко вижу я, освещенный плеядами. Мир был прекрасен, и так жалко было уходить из него. Я вообще не выношу разлуку, она мне разрывает сердце даже когда я расстаюсь с местами и людьми, не принесшими мне ничего, кроме горя.
Но особенно не хотелось пережить последнюю разлуку.
Испугал меня мой друг.
Впрочем, когда я сослался на его слова, он сильно обиделся на меня. Я ему, кажется, повредил, потому что он, гневно сверкая глазами, сказал:
– Только дурак может думать, что правду разрешается говорить публично. Но теперь я вижу, что ее нельзя говорить по секрету лучшему другу.
Так я расстался с другом. И это меня испугало навсегда.
…и вот, когда я что-либо полюблю, то безумно и навсегда.
И я не мог разлюбить друга, хотя он меня сильно обидел.
Помню, я расстался с какой-то девушкой, – это была случайная встреча. Несмотря на свою доброту, я не мог ее продлить. Мы просто ходили с ней гулять в горные леса и там наслаждались по мере сил. Я вспомнил тот вечер, когда она, наконец, уехала, примерно так:
Ветер был резок и порывист. Внезапный яркий проблеск солнца из-за черных туч озарил меня. Восьмиствольная сосна качалась, скрипела и стонала, все стволы ее столкнулись головами и сплелись в клубок. Мы сбежали вниз. Сорвали с себя одежды. Я бросился в пучину. И она тоже. Розовое видение не давало мне выплыть. Я был потрясен и вынес из морских глубин вспоминание о невозможном, сохранившемся навсегда.
Так я вспоминаю, стараясь при этом забыть, что меня поцарапали какие-то водоросли, саднило кожу на ногах, я чуть не утонул, захлебнувшись от неожиданной вспышки страсти, от которой я порой терял сознание. Но природу я никогда не разлюбил, говорил с ней на одном языке, никогда ее не обманывал, так же, как она меня, и даже в полной темноте я мог узнать по голосам, кто ко мне приближается – по строгому гудению жесткой хвои, лирическому бормотанию криптомерий, шумному хороводу берез, трепещущему переплясу осиновой листвы, громкому старческому шороху – шопоту дубрав.
Судьба мне улыбалась неоднократно, но улыбка ее всегда была такой печальной и скоропреходящей.
Кто объяснит – почему?
Я так люблю мир, всю землю – ведь не топчу же я ее, как глобтроттеры с туманных островов, я не бизнесмен, не совершал с моей землей никаких выгодных сделок, беру меньше, чем даю, прохожу по ней легко, почти не прикасаясь к ней ногами, ласкаю любовным взглядом, руками тружусь для ее прославления и лишь вдыхаю ароматы магнолий, цветущих маслин, морских волн и горных лесов.
Но внимая моим восторгам, Красота, обитавшая всюду в первых лесах, озерах и океанах, принимала меня с пренебрежительной вежливостью, как новою гостя, когда за столом и так уже тесно. И так вообще принимала меня жизнь даже в самые торжественные приемные дни – от свидания с возлюбленной в душе всегда оставалась, рядом с усладой, горькая сладость мученика, и, наслаждаясь ароматом роз, я никогда не переставал чувствовать боль от шипов и терний.
Я думаю, что настоящая серьезная жизнь начинается с того дня, когда человек впервые ощутит себя отделенным от всех остальных, не учеником такого-то класса, ни в чем не сомневающимся, остриженным под одну гребенку, не школьным пионером, хранящим в запасе ответы учителей, а пионером жизни, – потому что каждый человек открывает мир впервые, как Америку – Христофор Колумб.
Что же является первым толчком к этому обособлению, когда очередной бог начинает в миллиардный раз творить свой новый мир? Есть только один первоначальный толчок творения – первая любовь.
Вы, конечно, помните, как это начинается – да и можно ли это забыть? Вы были так плотно слиты с массой, что некогда даже неясно различали свой пол – мальчишки и девчонки неотделимы, – и вдруг сердце падает в бездну, вы отделены этой бездной от вчерашней подруги, которую дергали за косы, вы задыхаетесь от неизвестной причины, вы всё перестаете понимать; страшная, жгучая тайна вызывает смятение, вихрь чувств, они как заговорщики, заманивают вас в ловушку, вы бьетесь в капкане, но мир глохнет, не слышит ваших стенаний, никто не приходит на помощь. Это бурлит безумная любовь, чувство переходит в страсть, как превращается в пар кипящая вода, но, перевалив через точку кипения, начинает испаряться, и любовь незаметно переходит в остывающий лед, потому что вы всё-таки обманули друг друга, но вам всё равно, вы ведь и сами себя обманули, всё шло по закону, вода закипела, испарилась, остыла, и надо ее снова кипятить; и вы даже незаметно начинаете разжигать новый костер, подбрасываете хворост, вот уж пламя взвивается к небу – крутится, вертится шар голубой.
Но догорают костры, вы остаетесь одни, наедине со своими муками и сомнениями. А муки любви заставляют усомниться во всем, даже в смысле жизни. Если все проходит как мираж, то зачем оно нужно? Тут вы замечаете, что как мираж проходит не только любовь, но и все остальное – вера, идеалы, мечты; всё отцветает, падает – растет недоумение, и вот уж чувствуете то, в чем так бесстрашно признался северный бард: вокруг меня воцаряется одиночество, молчание, возвышенно ужасающее, молчание пустыни, в которой я с горделивым упрямством сталкиваюсь с неведомым, тело к телу, душа в душу.
Меня всегда терзал вопрос в каждой моей любовной драме: какая часть моего существа любит – тело или душа? Тут нет никакой мистики. Я не раз чувствовал вражду, ненависть к женщине, без которой я жить не мог; всё в ней меня возмущало и возбуждало до ярости, до безумия. И чем больше я наращивал в душе ненависть к ее порокам, тем больше любил ее и даже самые пороки, возмущавшие меня. Это дьявольская амальгама, и ведь никто не может сказать, как она получается.
И первая моя любовь, которая, может быть, решает судьбу, была девушка с тяжелыми формами пожившей женщины. Душа у нее была путаная, ненасытная, и она мне сама призналась, что душа у нее находится не в том месте, где у всех людей, а где-то ниже, в каком-то адском чреве. У нее была своеобразная теория любви. „Это вовсе не взаимодействие родственных душ, о чем толкуют поэты, – говорила она, – а просто удачный половой подбор, а душа, сердце, вдохновение – придуманные побрякушки“.
Она выражалась всегда грубовато, сводила с ума своей звериной чувственностью, и я, восемнадцатилетний, не раз плакал от любви и ненависти, лаская это истасканное обрюзгшее тело.
Я часто забегаю вперед или в панике отступаю далеко назад, страшась того рубежа, на котором очутился вопреки своей воле. Так и здесь я уже дошел до мук, еще не поведав, как я любил и наслаждался. Это может создать, неверное представление обо мне. Так в неверном свете луны меняется облик мира.
Чуть ли не с младенчества я был коммунистом, то есть хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все люди любили друг друга и меня, а сердце мое всегда было раскрыто каждому. Помню, когда все проклинали дядю Петю за то, что он пьянчуга, кричали, что он такой-сякой, я расплакался, – до того мне жалко было его, – пьяным он был такой веселый, а трезвым – сердитый и мрачный. Когда я читал книги о приключении пиратов, мне одновременно хотелось, чтобы всем повезло, чтобы те, которые ловят пиратов, поймали их, а пиратам желал удачно замести свои следы и от всего сердца готов был помочь и тем и другим. Только потом у меня появились сомнения: как же сделать так, чтобы все были счастливы, когда у людей такие противоречивые желания? Я сам страстно хотел отнять у соседского мальчика Митьки трехколесный велосипед и втайне согласился бы даже, чтобы этого золотушного и сопливого Митьку украл колдун.
И опять же забегаю вперед… Я уже был членом партии и думал: если коммунизм – счастье для всех, так почему же все друг другу пакостят?.. И с ужасом вспоминается, что я никогда не видел ни одного счастливого человека.
И все-таки это очень важно, то, что я не мог понять, сразу же оставшись наедине со своей первой страстью, – а это все равно что остаться наедине с миром, который обрушивает на тебя всю свою свалку – поди разберись, – и не мог сразу же понять главного.
Рая, так звали мою первую любовь, с первого же свидания обещала мне райское блаженство. Глаза африканки и тугой шелк ничего не говорили о том, что я увидел потом…
Рая начала с полным знанием дела ту работу, которую в дальнейшем проделывала надо мной жизнь, и, может быть, успешно завершила бы её, если бы не внезапное пробуждение, вызванное гибелью синей мухи от моей руки.
Прошло немного времени – она мне уже изменяла, и я ей, но все же я продолжал ее любить и страдал безмерно. Потом, когда мне изменяли жизнь и женщины, я уже ничего не испытывал. Было только страшновато поначалу.
А сейчас уже не страшно. Осталось немного времени. Другие будут за меня решать вечные вопросы. Это всё-таки отдых. Вспомнились слова Стендаля: – …и потом кто знает, просуществует ли мир еще три недели?
И вот теперь я убежден, что ничего более серьезного на свете нет, чем то, что у меня было в юные годы, когда я любил Раю.
Ведь ничего лучшего больше не было. Любопытно, что Рая это предсказала мне.
Может быть, поэтому я стал мрачен, как Шигалев, – помните: он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтоб когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого.
С Евлалией я познакомился на катке. Ей было восемнадцать лет, а мне тридцать пять.
Мы катались на коньках и почти ни о чем не говорили. Во всяком случае, я не могу вспомнить, чтобы мы в то время о чем-нибудь серьезно задумались вместе. Не помню как вышло, что я сделал ей предложение, и мы оказались счастливыми супругами.
И смех и грех.
– Товарищ философ, раз вы уже неоднократно вкусили счастье в той или иной степени, так на кой ляд вы всё еще пытаетесь устроить это счастье для всех?
Этот вопросик не прозвучал в моем расстроенном воображении, а задала мне его Зина, сестра моей жены – Евлалии, – женщина непостижимая, называет вещи своими именами, говорит правду, повергая тем в ужас ближних и дальних. Евлалия ее ненавидит и боится, но предпочитает не ссориться: от такой всего можно ждать. Не очень красивая, она пользуется большим успехом у мужчин. Живет в Тамбове. Муж ее, речной капитан, дома бывает редко, покорно выносит все ее прихоти, любит безумно, ни на одну женщину не взглянет, мухи не обидит, не то что я. При муже мне Зина как-то сказала:
– Он не смеет мне ни слова сказать, даже когда застает меня с кем-то в постели.
Он только поник головой.
– А вы говорите, что нет святых.
Интересно она говорила, Зина. Например, так:
– Мне вообще всё нравится. Я не притворяюсь, а живу. Не то, что ты и другие. Тебе, например, хочется со мной побаловать, но ты боишься до смерти Евлалии. Дурачек, уж так и быть, приду к тебе сегодня.
И так у меня оказался неожиданно новый замечательный союзник. Зина могла бы укрепить мои позиции в жизни. Но, разумеется, она и не думала мне помочь. Она только не издевалась надо мной, но не хотела никого осчастливить…»
И СНОВА – ЖИЗНЬ
Несмотря на усилия врачей, надежды жены и полное отсутствие собственного сопротивления Иван Иванович все-таки выздоровел.
Вернулась Зина. Он говорил с ней ночью. Окрыленный внезапными надеждами, он предлагал ей бежать на край света. Но она слушала его с такой грустной улыбкой, что у него сжалось сердце. Потом тихо говорила:
– Глупый младенец! Ну куда мы убежим от самих себя? Допустим, что я с тобой уеду. Так ты потребуешь верности до гроба… А ты ведь знаешь, в каком месте моя душа. Ты же через месяц топиться пойдешь. Ну, сообразил, наконец? Тебе кажется, что я прекрасная женщина. Может быть, я и лучше, чем твоя корова Евлалия, но, вместе с тем, я и хуже ее для тебя, потому что она тебя никогда не погубит, а я – наверняка, так как ты имеешь глупость меня любить. Но я-то не могу никого любить, хотя бы ангела небесного. И больше я к вам приезжать не буду. Разжалобил ты меня. А я ценю в жизни только удовольствие, потому что всё остальное – суррогат. Ты всё еще примериваешься к святым – хочешь быть не то Христом, не то еще кем-то, а я не могу быть кающейся Магдалиной, я могу быть просто Магдалиной. Без последующей святости. Я бы, пожалуй, скорее соблазнила этого бога; говорят, он был молодой и красивый.
– Страшные ты вещи говоришь, Зина.
– Неужто ты можешь еще бояться? Да что может быть страшнее хотя бы твоей жизни? Давай уж лучше прощаться… Но как следует.
* * *
Илья Варсонофьевич вошел в свою новую роль так легко и свободно, что даже сам не заметил этой примечательной метаморфозы. По натуре своей он не был склонен к философии, поэтому не знал того, что хорошо знают все актеры, а именно: когда входишь в роль, особенно если она тебе по душе, то настолько с ней сживаешься, что перестаешь ощущать самого себя. И не только мысли, настроения, повадки того, чью роль ты играешь, входят в твою плоть и кровь, но они уже как бы не являются присвоенными, заученными, а твоими собственными, с которыми ты будто родился.
Итак, Илья Варсонофьевич сидел в своем кабинете, выслушивая почтительный доклад Михаила Архангелова. Он закончил так:
– Что касается этого Синебрюхова, то он лишь воображает себя гением, а в действительности – пустое место. Еще осмеливается учить Центральный Комитет…