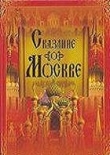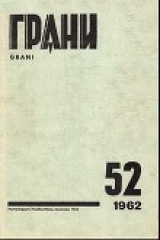
Текст книги "Сказание о синей мухе"
Автор книги: Валерий Тарсис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Эта статья, опубликованная тотчас же после двадцатого съезда партии, может быть даже нарочито, оказалась камнем, разбившим вконец относительное благополучие Ивана Синебрюхова, с тех пор – ставшего окончательно и бесповоротно Иоанном Синемуховым.
Всё это началось в доме Ивана Ивановича, когда в одну из суббот Акациев, Дубов и Осиноватый пришли сыграть очередную пульку, а заодно и посудачить или, как они выражались, потрепаться на невинные темы.
Они только сделали вид, что пришли как в обычную субботу.
Впрочем, сегодня гости и не намеревались играть в преферанс, – судачить и пить цинандали. Ведь они пришли в последний раз – хлопнуть дверью.
Хозяин знал это и даже испытывал некоторый задор, как бывалый воин перед сражением.
Может быть странно, что такое ничтожное происшествие, как убийство синей мухи, произвело переворот в душе философа. Но мало ли странностей в этом мире, который Иоанн Синемухов совсем не склонен был считать лучшим из миров?
При одном взгляде на гостей хозяин почувствовал, что они сделают все от них зависящее, – а зависело от них очень многое: Дубов был деканом, – чтоб не дать ему возможности совершить великие дела. И вовсе не потому, что их обдумали, проанализировали и признали вредными. Они даже толком и не знали, что́ именно замышлял Синемухов, однако не сомневались в том, что замышляемое им направлено против всего того, на чем зиждилось их житейское благополучие. Если восторжествует Синемухов, они лишатся всех привилегий, а какое им дело до того, что народ при этом получит множество благ.
Они приняли твердое решение работы его не публиковать – им уже известно было, что Синемухов завершает свой новый труд, носивший претенциозное название – «Социализм истинный и ложный» – они знали, какой социализм он называет ложным. Как он только осмелился! Самая попытка произвести переворот в мировоззрении, предпринятая не сверху, а каким-то неизвестным демагогом, чревата опасными последствиями.
Они приняли твердое решение не допустить также, чтобы руководители партии ознакомились с его работой; для этого они сговорились с известными им докладчиками, главная цель которых состояла в том, чтобы никого не допускать к руководителям, излагал им все в ложном свете.
Синемухов их тоже знал. Даже пытался с некоторыми из них говорить. Особенно ему запомнился Михаил Михайлович Архангелов. Это был тонкий невысокий человек лет сорока, с лицом отроческим, иконописным и болезненным, с нежными голубыми глазами мученика, в которых однако порой всплывали светлые льдинки мучителя, – на вид ему можно было дать двадцать семь.
Разговор с ним так потряс Синемухова, что он уж не мог его забыть до конца своих дней.
Архангелов вызвал его как раз по поводу этой пресловутой статьи. Но говорить о ней не стал, как будто ее вообще не существовало. Не упомянул и о книге, о которой тоже был осведомлен. Архангелов был вообще человек широко осведомленный и мог бы рассказать множество интереснейших вещей о том, что думает народ, о том, что происходит за стенами монументального здания на Старой площади. Это был безупречно честный человек. Превыше всего для него были интересы партии. Партийная жизнь и жизнь вообще для него были синонимами. Никогда и ни в чем не сомневался Михаил Архангелов. Самые потрясающие события не выводили его из состояния невозмутимого спокойствия. Он никогда не повышал своего тихого голоса. Не потому, что сдерживал себя – он просто не испытывал ни гнева, ни раздражения, не вскипал, не отходил, и Синемухов не мог бы себе представить, что Архангелов вдруг загорелся от страсти, зарыдал от горя, и вообще, что он может быть мужем, отцом, другом, всем чем угодно, кроме партийного работника. Это была особая порода людей, их облик стал для него ясен, когда он познакомился и с другими деятелями, например, Труворовым, Оглядичем, Сытниковым, Курокарповым.
Разговор с Архангеловым он запомнил навсегда.
– Товарищи говорят, – говорил Архангелов своим ласковым голосом иезуита, – что вы отгрызаетесь от коллектива, игнорируете партийные собрания.
– Я очень занят, пишу большую работу – это будет новое слово в философии.
– Должно быть, вы болеете, если не приходите на собрание.
– Нет… Я работаю день и ночь. И я надеюсь, что мой труд принесет…
Архангелов глядел на него широко открытыми глазами, в которых всплывали белые льдинки. Это всегда случалось, когда ему приходилось выслушивать нечто, с его точки зрения, непозволительное. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Синемухова он смотрел с явным сожалением.
– Вы должны придти на собрание, коллектив поможет вам разобраться.
– Но у меня нет времени заниматься болтовней с дураками и иезуитами. Они могут только принести вред и делу и мне.
– Вы больны, товарищ Синебрюхов, – сказал Архангелов тем ласковым голосом, который приводил Ивана Ивановича в содрогание, – вы больны, вам нужно лечиться.
– Я уже не Синебрюхов, а Синемухов, – сказал Иван Иванович и вдруг увидел в окне низкое серенькое небо, запыленный тополь с порыжевшими и всклокоченными листьями, такими редкими, беспомощными и мокрыми от недавнего дождя. Надрывно гудел печальный октябрьский ветер. Иван Иванович неожиданно стал думать об этом тополе, который казался ему вечным и неизменным, но в своей неизменности дразняще-непостоянным, как иллюзионист на все той же пыльной эстраде с линялыми небесами и облезлой декорацией.
Уже не глядя на Архангелова, он сказал:
– Да… Невозможно одному человеку понять другого. Как же тогда – партии, народы? Выходит, что и человечества нет, а сборище глухих…
– Вы больны, товарищ Синебрюхов, – с неизменной интонацией тренированного попугая, не меняя выражения лица, говорил Архангелов. – Давайте условимся – вы в среду придете на собрание, я тоже приду, и мы всё уладим…
Он встал, а это означало, что разговор окончен.
Может быть, Архангелов был смущен небывалым поведением Синебрюхова. У него был большой практический опыт. И всегда он видел пред собой людей понятных, привычных, смотревших на него, как на начальника, – они говорили тщательно продуманные вещи, в которых не было ничего из ряда вон выходящего, и вообще на свое звание коммуниста смотрели как на должность по совместительству. Что между ними могла быть разница в убеждениях, даже в оттенках взглядов, он не представлял себе. Инакомыслящий – это враг, хотя бы он даже думал о том, как скорее и лучше построить коммунизм.
Уходя от него, Синемухов уже забыл о том, что сам говорил, а только с ужасом думал, что Архангелов и другие, стоящие за ним, ничего не понимают в том, что происходит в душах людей, с равнодушием палачей уродуют их судьбы и являются серьезной преградой, которая надолго задержит движение к коммунизму и даже могут повернуть вспять колесо истории. Шаг назад уже сделали в главном – формировании человеческих душ. Большинство коммунистов превратились в отвратительных чиновников, бюрократов, каких свет не видел. «Тщеславие, тщеславие, тщеславие везде – даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века». Уже в который раз вспомнились слова Льва Толстого, и сегодня они ему показались еще более зловещими, чем в те отдаленные времена.
В своей книге Синемухов писал о первых шагах, о том, как отсечь худшие стороны зла, как это некогда рекомендовал Энгельс, прогнать миллионы чиновников и бездельников, в десять раз сократить количество учреждений, покончить с товарно-денежным фетишизмом, отменить всяческие привилегии, создать единое учреждение вместо советских, партийных, хозяйственных, профсоюзных, – имя им легион.
Но все боялись даже прочесть его книгу, а до руководителей нельзя было добраться из-за целой армии охранников, охранявших руководителей от народа.
Иоанн Синемухов знал, что ему не удастся перешагнуть через этот рубеж, ибо давно известно, что тщеславие сильнее, чем слава мира. Он готов был отказаться от своего авторства, стать синей мухой, погибнуть от руки Михаила Архангелова, лишь бы народ получил его безымянный труд. Синемухов думал, что если так пойдет дальше, погибнет сама идея. А это страшнее всего. В доме Синемухова нередко гостили многочисленные родственники – люди простые, рабочие, колхозники. Когда они все съехались на похороны девяностолетней бабки Авдотьи, Синемухов поразился этим людям, словно выходцам из другого мира.
В этот майский день он сделал величайшее открытие. Хотя он не раз бывал и на фабриках и в колхозах, однако ему нигде не случалось слышать что-либо подобное.
Разношерстные люди эти не могли скрыть своей радости, особенно сыновья бабки Авдотьи, которым уж больше не придется навещать строптивую старуху, да еще выплачивать ежемесячную мзду, и все с нетерпением поглядывали на стол, уставленный закусками и графинами с водкой.
Наиболее колоритной фигурой был отец домработницы Кати, Никон Архипович Дуропляс, высокий, рябой, с огромным сизым носом и необычайно длинной шеей, как у гусака. Ему уже минуло шестьдесят пять лет, но выглядел он еще молодцевато, не отлынивал от работы, и в деревне у него было хорошо налаженное хозяйство. Он недавно овдовел и жил вместе со старшей дочерью и зятем, человеком тихим и безропотным. Никон Архипович был одно время председателем колхоза, кажется, одиннадцатым по счету после войны, его сменил нынешний – железнодорожный инспектор Брянского узла. На посту председателя колхоза Никон Архипович ничем особенным не выделялся, так же, как его предшественники, пил водку с бригадирами, заседал, ездил в райком и МТС, выступал на собраниях, – то есть делал все то, чего можно было и не делать, – а работал по-настоящему только в своем хозяйстве, так как был непоколебимо убежден, что колхозы это одна видимость, толку с них как с козла молока, за двадцать лет существования его колхоза «Герой труда» колхозники ни разу не получали чего-нибудь стоящего на трудодень, – и когда же всё это кончится, а хозяйство будет давать доход (не всё будут отбирать за грош), тогда государство отнимет хозяйство, – и крышка. Сын Никона Архиповича, недавно вернувшийся из армии, работал шофером, получал твердую ставку, и у него был другой взгляд на колхоз.
Был среди родственников также заведующий гаражом Петр Афанасьевич и его брат Афанасий Афанасьевич, и третий брат Костя, работавший на фабрике.
Пили одну водку – и женщины тоже. Только хозяйка пила портвейн и презрительно глядела на гостей.
– А у нас опять давеча слушок пошел, что будет обмен денег, – усмехаясь, сказал Дуропляс. – Что же творилось в нашей Вязьме. Чисто всю заваль в магазинах посбывали, что никто и брать не хотел. Ловко!
– Так это ж специально агенты этим занимались. Надо же сбыть барахло по дорогой цене. Хорошего товара нигде не найдешь, в Москве и то трудно.
– Хороший товар у спекулянта.
– Так у нас завсегда и будет, ёлки-палки!
– И вовек толку ее будет. Потому интереса нет у людей, – говорил Дуропляс. – Во всем недостаток. У нас ее то, что сахар или там колбасу, белый хлеб и то не достанешь. Достижения! И сколь это народ терпеть будет?
– До скончания века! – прошумели хором.
– Вот у меня план есть, – сказал шофер Афанасий. – Теперь в Сибири идет разворот. Целина, заводы. А народу жить негде – в землянках… Пока еще построят. И с харчем туго. Так вот у меня предложение. Пусть там объявят нэп, частника допустят. Так народ туда попрет… Все казенные чиновники побросают свои места. Вот мы с ребятами говорили – такую можно набрать компанию, да навербовать повсюду – за один сезон сто тысяч домов построим. Каждой семье дом. Только вольным способом. Все раздобудем. Лес сами напилим. Лавки заведем – свиней будем откармливать. Житуха будет – только бы чиновники не вмешивались в наши дела. А то если писаря в дело вмешаются, ни черта не будет. А мы, коль уж возьмемся, так пока писаря будут писать бумажки о доме, мы его уже построим – только бы безо всякого начальства. И не то что сахар-колбаса, пирожные жрать будут.
– Верно! – крикнул захмелевший Петр Афанасьевич, – народ по настоящему делу стосковался. А у нас одна болтовня да писанина.
– По-нашему, – сказал Дуропляс, – надо перво-наперво закрыть канцелярии. Даже в колхозах сидит дармоедов видимо-невидимо. Как собрать их всех вместе, дармоедов-то, то из них целую армию большую можно создать. У нас в районе чуть не тыща служащих, а и сотня не нужна.
– Что ж тогда будут делать партейные? Они же ничего работать не умеют, только языком.
– А еще профсоюзы – тоже миллион бездельников. К чертям бы их.
– Пусть каждый работает, тогда дело будет.
– Вот я и говорю, – осанисто продолжал Дуропляс. – Как бы учреждений три четверти к ногтю. И первым делом коммунистов на завод, в поле. И колхозникам жалование положить, как в совхозах. А то у нас шиш. А в случае чего, так пусть государство покупает хлеб на базаре, как при царе-батюшке.
– Надо по-югославски!
– А в Югославии от коммунизма остались только рожки да ножки.
– Там коммунизм деловой. А у нас бездельный. Совсем мы пропадем, ежели так дальше будет.
– Но ведь лучше стало сейчас, – робко сказал Иван Иванович, – в колхозе кое-что получают.
– В одном получают, а в пяти шиш!
– А эти колхозы-миллионеры – тоже липа. Руль – советский чего стоит! За него и царскую копеечку не дашь.
– Не могут партейные болтуны хозяйствовать в стране, настоящих хозяев надо, купцов, при них Русь богатела, а теперь уж и на стопку водки не хватает.
– А теперь что выдумали… Может, в каких колхозах завелась копейка, так ее отобрать надо – вздумали технику продавать. А чего продавать, на наши же деньги она сделана. Все у нас отбирали, чтоб эти тракторы делать. А теперь опять за них плати. Что ж мы, двужильные?
Иван Иванович был так ошарашен, что не пытался возражать. Гости стали на него смотреть косо и сердито. А, глядя на него с жалостью, Дуропляс сказал:
– Ты, Иван Иванович, напрасно стараешься. От кого ты хочешь начальство защищать? От народа хочешь. Пустое дело. Ты лучше послушай, что народ думает. А то ты и другие очкастые в свои газеты да книги уткнулись, а в них правды и на грош нет. Коммуна ваша от земли оторвана, на небе пасется, вроде как христовы овечки. Не придется она нам ко двору. Хозяйство наладить может только справный хозяин, а не разные секретари, что на машинах шмыгают, ровно кузнечики. Такие только развалить могут – и развалили. Сейчас много хуже, чем при царе, – вот что народ в один голос говорит. Так что поспешайте, а то поздно будет. Мыльный пузырь, сколько ни надувай, всё едино, лопнет.
– Ему что, – крикнул опьяневший Афанасий. – Ему за брехню большие деньги платят. Квартира во́ какая, а рабочий человек, с шестью душами семьи, в одной комнатушке, да еще в подвале. Ему защищать начальство можно…
Иван Иванович даже вздрогнул. Ему показалось, что эти разъяренные лица, – сине-багровые от выпитой водки, надвигаются на него, размахивающие кулаки мелькали в дымном воздухе. Даже все женщины что-то кричали, глядели на него сердито и вызывающе – сейчас на него набросятся и начнут избивать.
Какой-то незнакомый толстяк размашисто бил свою жену по лицу. Женщина визжала. Поднялся невообразимый крик и шум. Евлалия Петровна заплакала. Иван Иванович бросился к выходу и выбежал на улицу.
Там его встретила непроглядная темень, в которой плавали мутные шары фонарей. Шел холодный дождь. Иван Иванович съежился, будто его хлестали мокрые солоноватые бичи по лицу и губам. И только когда очутился на четвертом этаже большого дома и позвонил, он понял, что стоит у порога Леонида Павловича Останкина.
Вот и хозяин – страшно худой, изможденный, с заострившимися чертами лица, растрепанными волосами, очень походивший на Белинского.
– Ну, иди, иди, чего стал.
Останкин – заместитель секретаря партийной организации института. Как это часто бывает, он во всех отношениях – полная противоположность Осиноватого. И все думают, что его скоро под каким-нибудь предлогом выживут. Останкина избрали в партийный комитет после двадцатого съезда, – пришлось в первый раз в жизни подчиниться воле масс. Еще удивительнее было то, что массы эту волю проявили (Останкина свыше не рекомендовали в состав парткома). Но что поделаешь, отвода нельзя было дать, а на выборах он получил самое большое число голосов. Останкин уже много лет был младшим научным сотрудником. Его диссертацию «Государство и социализм» не только провалили, но еще объявили ему строгий выговор за ревизионистские взгляды; выговор недавно сняли, да и то весьма неохотно.
С Леонидом Павловичем Останкиным Иван Иванович подружился случайно. На партийном собрание, когда Останкин говорил о научной работе в институте, рисуя радужные перспективы, открывшиеся после двадцатого съезда, Иван Иванович с места сказал:
– Ничего не выйдет. Головой ручаюсь.
Осиноватый укоризненно покачал головой и посмотрел на Ивана Ивановича соболезнующе, как на больного. Он тогда сказал:
– Не знаю, чем вызван пессимизм товарища Синебрюхова. Ведь и для слепого ясно, что настали другие времена, аракчеевский режим кончился.
– Из чего это следует? – спросил Иван Иванович с места.
– Хотя бы из того, что уже опубликованы некоторые статьи, резко критикующие те работы, которые раньше считались чуть ли не священными.
Иван Иванович саркастически усмехнулся.
После собрания Останкин подошел к Ивану Ивановичу.
– Почему вы думаете, что ничего не выйдет?
– Вы скоро убедитесь сами… Кстати, вы свою диссертацию не пробовали вновь представить?
Останкин смущенно взглянул на него:
– Вы что-нибудь слышали по этому поводу?
– Нет.
– Пробовал… Дубов и Осиноватый сказали, что и сейчас эта работа такова, что под ней мог бы подписаться Эдуард Кардель.
– Та-а-к… А я тоже пищу.
– Приходите ко мне, потолкуем.
Так возникла их дружба. С тех пор прошло уже больше года.
Останкин был неожиданно удивлен тем, что Иван Иванович уже ничем не напоминал прежнего. Услышав его рассказ о происшедшей в нем перемене, вызванной столь незначительными обстоятельствами, Останкин сказал:
– Да… Ведь некоторые историки объясняют неудачу Наполеона в Бородине насморком. Думаю, что у вас то же самое. Просто созрели…
– Должно быть так, – сказал Иван Иванович. – Если человек не превращается в труп, хотя бы и живой, всегда приходит такая минута, когда последняя капля попадет в его переполненную душу. А у меня душа была переполнена – очень уж тошно стало от всего, и нет ни одного угла, в котором можно было бы укрыться, да еще семья доконала.
Оба обрадовались, найдя много общего в своих работах. Поиски их шли в одном направлении. Вдвоем уже легче.
Останкин в своей работе «Государство и социализм» доказывал, что эти два понятия на практике несовместимы, – именно государство есть то страшное социальное зло, которое надо как можно скорее преодолеть, чтоб начать не на словах, а на деле строить социализм.
Иван Иванович в своей книге доказывал, что советский социализм ничего общего с подлинным социализмом не имеет, а уводит народ от конечной цели – коммунизма. Основной просчет он видел в том, что мы извратили учение Маркса, сказавшего, что государство это лишь «иллюзия всеобщности», «суррогат коллективности». И еще более важное: «Все перевороты усовершенствовали эту машину государство, вместо того, чтобы сломать его».
Мы же не только не сломали старую государственную машину, не только не «отсекли худшие стороны зла» Энгельс – тут же, на другой же день после взятия власти пролетариатом, а мы, вместо этого, создали бюрократический Левиафан, какого мир не видел, даже не мясорубку, в которой прежние государства перемалывали свои народы, а душерубку, в которой все души превращались в единообразный фарш, из которого, конечно же, не могло получиться социалистического общества, а лишь тот же старый рулет с псевдосоциалистической начинкой. Безличная, блудливая, трусливая толпа занятых бездельников, закостенелых бюрократов, людей, работающих не за совесть, а за страх, – вот результат. И невольно вспоминаются слова: Ленина:
«Если мы когда-нибудь погибнем, так только от бюрократизма».
Иван Иванович понимал, конечно, что его труд, начиненный такими взрывчатыми идеями, будет встречен в штыки.
Так оно и было.
Архангелов сказал: – Нет!
Но любопытнее всех оказался Акациев, просидевший восемнадцать лет в концентрационном лагере и лишь недавно реабилитированный. Он-то больше всех возмущался. Именно Акациев считал работы Ивана Ивановича и Останкина антипартийными. Он до того дошел, что даже свое многолетнее пребывание в концлагере, в обществе еще четырехсот невинных коммунистов, считал славной эпопеей, чуть ли не залогом последующих успехов, не признавал преступности тех, которые тысячами загоняли невинных в тюрьмы. По его мнению выходило, что такой тюремный социализм – все-таки социализм, поскольку якобы все фонды являются достоянием трудящихся. Он, конечно, и слушать не хотел о том, что земля, принадлежащая навечно колхозникам, еле-еле давала им на голодное существование, а рабочие за пару башмаков, метр ткани, кусок колбасы или рюмку водки платили дороже, чем тогда, когда земля и заводы им не принадлежали, и что грабители-купцы зарабатывали в десять раз меньше, чем государственные предприятия. В общем, Акациев готов был простить государству любые злодеяния, хотя считал себя величайшим гуманистом и вряд ли простил бы своему товарищу убийство синей мухи. Такой апофеоз холопства Иван Иванович даже не мог вообразить. Но…
Теперь он пришел к убеждению, что человеческое общество вообще оклеветать нельзя – какую бы мерзость о нем ни сочинили, – действительность ее превзойдет.
ОПРАВДАНИЕ ДРУГА
В таком настроении он пришел к Останкину.
– Что с тобой? – опросил хозяин, с тревогой глядя на гостя, мокрого, взъерошенного, растерянного.
Иван Иванович тяжело опустился в кресло и, глядя куда-то в пространство, заговорил так, будто продолжал давно уже начавшийся разговор, и само собой разумеется, собеседник знает всё то, что было им сказано раньше.
– Происходит какая-то катастрофическая чушь, всесветная ерунда, мировой блеф, когда все игроки делают вид, что у них на руках самые крупные козыри, в то время как эти козыри лежат в колоде. Понимаешь, в чем загвоздка: ведь тогда выходит, что самая игра – это жульничество, шантаж.
Останкин слабо улыбнулся:
– Ты ведь знаешь, что я вообще не игрок.
– А я? – встрепенулся Иван Иванович. – Не выношу никакой игры. Но, оказывается, мы как младенцы играем в жмурки, а думаем, что чуть ли не мир спасаем… тьфу!
– Еще не дошло…
– И до меня… Как это может дойти? Ну, хорошо, мы прокричали на весь мир, что начали новую эру… Это не ново… Мы хвастаемся, что сказали миру новое слово… Ну, хорошо, – вначале всегда бывает слово, такова уж традиция всех летописцев, пророков и апостолов… Но потом оказалось, что за этим словом не только никакого настоящего дела не последовало, но что и самое слово-то сказано без ведома хозяина.
– Народа?
Иван Иванович явно обрадовался:
– Ну, наконец-то, ты догадался… Ведь Россия только и делала, что клялась да божилась народом, возвела его в божественный сан, от его имени мы, передовые люди, так называемая интеллигенция, уже целый век болтаем, а он, народ святой Руси, над нами втихомолку смеется по сей день, считает нас если не дураками, то вредными чудаками. Получается знакомый мотивчик, который вертел еще Достоевский на своей бесовской шарманке. Полное повторение! Помнишь, как Шатов уговаривает Ставрогина стать неким божеством и обещает, что за это ему достанет зайца. «Чтоб сделать соус из зайца, надо зайца, а чтоб уверовать в бога, надо бога»… И вот, понимаешь ли, бог найден, как утверждает Шатов, – заметь, Леонид, – Шатов, а не Максим Горький, который утверждал потом то же самое, а за Горьким и мы, грешные. Вот как Алексей Максимович поучал: «добудьте бога трудом; вся суть в этом… трудом добудьте… мужицким…» – кричит он истерически. А разве мы не то же самое кричим? Но Алексей Максимович забыл то, что сам недавно говорил: – Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума, которые исполняют в жизни народов лишь должность второстепенную и служебную… Народы движутся силой иной. Эта сила есть сила неутомимого желания дойти до конца, и конец этот отрицается. А какой конец? Никто не знает. Добро и зло – одно и то же. Полунаука дает тысячи полуправд, которые мы считаем относительными. Но я уверен, что из всех этих полуправд никогда не получится правды… Я сейчас убедился, что народ не только не считает, что мы чего-то достигли, а, наоборот, – что мы на краю пропасти. Что никакого социализма нет, а одна болтовня, бесхозяйственность, разорение, вранье.
– И впал в отчаяние?
– Впадаю, – сказал Иван Иванович, вопросительно глядя на Останкина.
Тот отрицательно покачал головой:
– Не впадешь. Думать надо. Конечно, – полунаука. Может быть, даже лженаука, как астрология. Но уже у халдейских астрологов было что-то общее с настоящими астрономами. И как известно, на смену астрологии пришла настоящая наука – астрономия. То же самое и с алхимией. Так почему же нельзя думать, что на смену нынешнему марксизму и лжесоциализму через некоторое время, исторически совсем небольшое, век или полвека даже, придет настоящая наука и настоящий социализм. Только ты скажешь, или скорее завопишь, как истый русский человек – терпежу нет! – Ну, я могу тебе только посочувствовать.
– Ты себе посочувствуй. Меня этим не спасешь.
– Не спасать я тебя хочу, Иван. Наш круг завершается. Конец предвидеть легко. Но я оправдать тебя хочу как друга. Показать твою истинную роль будущим зрителям, потомкам. Мы – русские – обязательно должны поначалу наломать дров, а потом уже одумываемся и начинаем чесать затылок. Все несчастье в том, что сегодня мало кто представляет себе, что такое коммунизм и социализм. Тиранический режим сделал свое дело. Наше поколение им отравлено вконец. Пример Акациева, ставшего идей-идейным холуем, наглядное тому доказательство. Поэтому можно будет начать сызнова только лет через пятнадцать, так в году семьдесят пятом, когда окончательно рассеются призраки, вырастет новое поколение и люди будут действительно думать о будущем, а не о том, чтоб поддерживать схоластические догмы и пошатнувшиеся авторитеты. Что касается народа, то я впервые в нем замечаю подлинное единство. Все поголовно недовольны, – значит лучшее будущее не за горами. Народ проймет меры к тому, чтобы выправить положение, потому что он-то хочет жить по-человечески. Ведь душерубка и душегубка – это одно и то же.
Только объединенное человечество способно к разумной общей жизни, то есть к коммунизму. А пока будут идти разговоры о национальном приоритете и суверенитете, будет продолжаться всеобщая свалка, и называй ее хоть тысячу раз социализмом, она не перестанет быть свалкой. Этого сегодня не понимают марксисты, но поймут – жизнь заставит.
– А мы?
– История не сентиментальна. Она ничего не чувствует и никому не сочувствует. Сегодня ничего изменить нельзя. Изменить все могут люди в свое время. Эти люди только еще растут. Ты – Иоанн Предтеча. А предтечам всегда отсекают голову в угоду Ироду и Иродиаде. Наше чудовищно бюрократическое государство отмирать не собирается, и сломать его будет гораздо труднее, чем буржуазное, зато потом быстро наступит коммунизм. Я понимаю, что тебе хочется убежать от него, как убегают дети от слишком заботливых родителей. Но бежать нельзя. Книги, которые мы с тобой написали, хотя и не дойдут сразу до народа, но наши идеи просочатся, и они станут теми катализаторами, которые ускорят процесс истории. Новое всегда побеждает. И не надо отчаиваться, даже когда роженица умирает. Сознание того, что ты открыл для мира новую Атлантиду, более чем утешительно, если тебе даже наверняка не придется пожить на этой обетованной земле.
– Опять та же дурь. На черта мне нужна обетованная земля в будущем? Предположим, я умираю. Останутся мои близкие. Мою жену Евлалию ты знаешь. На днях она мне сказала: «– Какого лешего ты дурака валяешь? Какие-то дурацкие книги пишешь, из-за которых семья сегодня-завтра по миру пойдет». – Я сказал ей, что считаю своим долгом позаботиться и о мире, иначе, пожалуй, ей и по миру ходить нельзя будет, подадут не хлеб, а камень… А она в ответ говорит: «– Плевать я хотела на твой мир. Хоть бы он провалился, только бы Олег уцелел. Пусть хоть миллиард сдохнет, и то еще сволочей хватит. На черта расплодилось столько нищих: кому нужна эта нищая братия?» – Ну вот, а сынок мой Олег и его ближайшие друзья… О, Господи… Еще комсомольцы… Но пойми, что из таких комсомольцев скорее вырастут фашисты, чем коммунисты. А жадность какая? Домработница у нас Катя. Я ей учиться советую, даже помочь хотел. А она смеется, говорит: «– Меня ваш сынок на постели уже всему выучил. Хватит с меня науки. Вы бы мне лучше жениха денежного нашли». – Ну, что с нее возьмешь? Жена потихоньку дает сыну деньги на кутежи и прочие бесчинства. Вот тебе социалистическая семья. И так – всюду. Но я терплю. Только иногда страх охватывает, – а чего боюсь, сам не знаю…
Перекатный гул стоял над городом, врываясь в комнату, когда затихал разговор. Иван Иванович вслушивался в отдельные звуки – дробный перестук дождя на наружном подоконнике, гудки машин, какие-то выстрелы.
– Большое гонение готовится, – сказал Останкин.
– Меня гонять будут?
– Тебя… – кивнул головой Останкин. – Выгнать хотят из партии. Неудобный.
– А тебя?
– Я что ж – смирный… А ты не присмирел, на рожон лезешь.
– И я тоже долго был смирным, даже цитат подозрительных или неудобных не приводил.
– Дисциплина… – вздохнул Останкин.
– Ты хочешь сказать – палка?
– Дисциплина – это и есть палка. Если бы все добровольно делали и говорили то, что приказывают – тогда о дисциплине и речи не было бы. Партийная дисциплина это значит – не смей думать, как тебе хочется, безоговорочно одобряй и повторяй все, что происходит и говорится свыше. Если хочешь, политики дискредитировали себя больше, чем попы. Фарисейство и ханжество попов не только полностью привилось во всех партиях, но еще с огромной примесью средневековой нетерпимости, в то время как церковь стала очень терпимой и даже приспосабливается к современной науке – возьми неотомизм. А там, где господствует одна партия и все другие объявлены вне закона, – тирания неизбежна. Если не допускается политическая борьба, зачем тогда нужны политические партии? По-видимому, этого не хотят понять. То, что сейчас рекламируется у нас – блок партийных с беспартийными – это, собственно, означает, что между ними разницы нет. Да и в самом деле разницы никакой нет. Официальное определение гласит, что партия – это авангард народа. Но разве члены партии – самые передовые люди в стране? Лучшие ученые, инженеры, писатели, композиторы – беспартийные. Неужели Дубов и Осиноватый – авангард нашего народа? Хорош был бы народ с таким авангардом. Или твои родственники, которые, несмотря на партбилеты в кармане, крестят детей, да еще иконы держат в укромном месте. Обратил ты внимание, что в издательстве нашем беспартийные редактора намного строже, чем партийные? Ну вот… Так что жди нападения и готовься к защите. Я тебе помочь не смогу. Меня тоже третируют, жду, что вот-вот выведут из парткома.